Стихотворения и поэмы
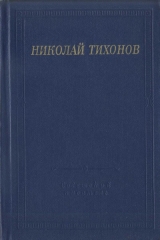
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Николай Тихонов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)
Последний длинный луч заката
Я помню до сих пор.
Мы дрались, как во времена Мюрата,
Рубя в упор.
И с каждым взмахом становились злее,
Жестоким был тот час,
И враг, спеша нас перебить скорее,
Шел на плечах у нас.
Дышало небо звездными красами,
Безмолвием маня.
Под выстрелами долгими часами
Я не слезал с коня.
И там, где лес снаряды гнули,
Я придержал коня.
Других кругом искали пули,
Но не меня.
В покое смутном сердце билось,
Был час – как образ сна,
Я знаю: за меня молилась
На Севере – одна!
1916 или 1917
Базара пустынные камни,
Дома, где отчаянье спит,
На окнах дубовые ставни
Глядят в безысходность ракит.
Всё вымерло в улицах малых,
Как будто их мрак откупил,
Как будто чума пировала
И пеплом засыпала пир.
Товарищ ругался беззлобно,
Свистел я, чтоб ночь превозмочь,
Но были мы вкованы оба
В совсем неподвижную ночь.
И вдруг эскадронов в разбеге
Донесся чеканенный гул,
И мертвый солдат на телеге
Тяжелой рукой шевельнул.
1916 или 1917
Почему душа не под копытами,
Не разбита ночью на куски?
Тяжко ехать лесом тем, пропитанным
Йодистым дыханием тоски.
Словно хлора облако взлохмаченно,
Повисает на кустах туман,
В нем плывут, тенями лишь означены,
Может – копны, может быть – дома.
Конь идет знакомым ровным шагом,
Службу он несет не кое-как…
А по всем лесам, холмам, оврагам
Спят костры, пронзая желтым мрак.
Едем мы сквозь черной ночи сердце,
Сквозь огней волнующую медь,
И не можем до конца согреться
Или до конца окаменеть.
1916 или 1917
Я свежий труп ищу в траве,
Я свежий труп ищу,
Он пал с осколком в голове,
Я – странно! – не грущу
Лишь потому, что и меня,
Чтоб знать, где зарывать,
Вот так же будут в травах дня
Товарищи искать.
Земля одна и смерть одна,
Но почему я стал?
Мне голова его видна
И темных губ овал.
«Убит!» – сказали про него.
Я труп его искал,
Нашел, поцеловал его
И молча закопал.
8 сентября 1917 Вольмар
Мы вошли с оружьем на закате,
Видим – птицы: ястреб и сова
Смотрят в сад, где на широком скате
Желтая, бессильная трава.
Вдаль ушли пустынные дорожки
До ворот, что буря сорвала,
Вдоль забора одичало кошка
Промелькнет – и снова глушь и мгла.
Не войдет в покой уединенный
Прошлых лет хозяин иль слуга.
На стене, как ветхие знамена,
Ряд ковров. Лосиные рога.
Умерли баронские мечтанья,
Сброшены с высокого крыльца.
Как проклятье, душно это зданье,
Ряд столетий ждущее конца.
1916 или 1917
Как тарелка, небо чисто вымыто,
Черные леса обнажены,
В мире нет безжалостнее климата,
Безнадежней климата войны.
Не искать теперь уж песен зяблика
Над старинной, тихою рекой,
Даже смерть похожа здесь на яблоко,
Что упало мягко и легко.
И сейчас улыбки кровью дышат тут,
Горя много – как не горевать,
Может быть, так нужно: жить неслышно
И еще неслышней умирать.
1916 или 1917
Стрельба за нами – будто рубят
Лес в красных шарфах мужики.
Уйдем, уйдем, иль нас погубят
Трясины, насыпи, пески.
И солнце в бегстве – точно пики,
Лучи ломаются о лес,
И отступленья шум великий
Восходит прямо до небес.
И в алом, вставшем выше леса
Обмане тучи заревой
Лиловый всадник встал и свесил
Копье с трофейной головой.
Он дразнит этим сном зеленым,
Он черным усом мне грозит,
И жмется лошадь по уклону
И настороженно храпит.
И всё мне кажется, что сплю я,
Мне снится битвы темный зов,
Как вечер пышного июля
Томит волной предгрозовой.
1916 или 1917
Земля и небо страшно разны,
Лежу на дряхлом блиндаже,
Вот в стройность мыслей безобразно
Ворвались строфы Беранже.
Мне книга не прикажет грезить —
Я слишком густо загорел,
Я слишком мысли ожелезил,
Я слишком в этом преуспел.
И, может быть, уже возмездье
На полдороге, как заря.
Шрапнели черные созвездья
Ударят в спину дикаря.
1916 или 1917
Трубачами вымерших атак
Трубят ветры грозные сигналы,
И в полях, я чую через мрак,
Лошадей убитых закачало.
Вновь дорога – рыжая петля,
И звезда – как глаз противогаза.
Распласталась чуждая земля,
Расстелилась пестрой, как проказа.
Я забыл, зачем железный зов
Жалобно визжал в многообразье.
Вязы придорожных берегов
Плачут грязью.
1916 или 1917
ОРДА
Я забыт в этом мире покоем,
Многооким хромым стариком;
Никогда не молюсь перед боем,
Не прошу ни о чем, ни о ком.
И когда загорится граната
Над кудрями зелеными рощ,
Принимаю страданье, как брата,
Что от голода долгого тощ.
Только я ожидаю восхода
Необычного солнца, когда
На кровавые нивы и воды
Лягут мирные тени труда.
1916 или 1917
1919–1921
…Когда возникнул мир цветущий
Из равновесья диких сил…
Баратынский
Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.
Даже породниться с нею стоит,
Снова глину замешать огнем,
Каждое желание простое
Освятить неповторимым днем.
Так живу, а если жить устану,
И запросится душа в траву,
И глаза, не видя, в небо взглянут, —
Адвокатов рыжих позову.
Пусть найдут в законах трибуналов
Те параграфы и те года,
Что в земной дороге растоптала
Дней моих разгульная орда.
1920
Огонь, веревка, пуля и топор,
Как слуги, кланялись и шли за нами,
И в каждой капле спал потоп,
Сквозь малый камень прорастали горы,
И в прутике, раздавленном ногою,
Шумели чернорукие леса.
Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов…
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.
1921
Над зеленою гимнастеркой
Черных пуговиц литые львы,
Трубка, выжженная махоркой,
И глаза стальной синевы.
Он расскажет своей невесте
О забавной, живой игре,
Как громил он дома предместий
С бронепоездных батарей.
Как пленительные полячки
Присылали письма ему,
Как вагоны и водокачки
Умирали в красном дыму.
Как прожектор играл штыками,
На разбитых рельсах звеня,
Как бежал он три дня полями
И лесами – четыре дня.
Лишь глазами девушка скажет,
Кто ей ближе, чем друг и брат, —
Даже радость и гордость даже
Нынче громко не говорят.
1921
Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор – золото лимонов.
Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке;
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в перекличке.
Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.
Ноябрь 1921
С. Колбасьеву
Часовой усталый уснул,
Проснулся, видит: в траве
В крови весь караул
Лежит голова к голове.
У каждого семья и дом,
Становись под пули, солдат,
А ветер зовет: уйдем,
А леса за рекой стоят.
И ушел солдат, но в полку
Тысяча ушей и глаз,
На бумаге печать в уголку,
Над печатью – штамп и приказ.
И сказал женщине суд:
«Твой муж – трус и беглец,
И твоих коров уведут,
И зарежут твоих овец».
А солдату снилась жена,
И солдат был сну не рад,
Но подумал: она одна,
И вспомнил, что он – солдат.
И пришел домой, как есть,
И сказал: «Отдайте коров
И овец иль овечью шерсть,
Я знаю всё и готов».
Хлеб, два куска
Сахарного леденца,
А вечером сверх пайка
Шесть золотников свинца.
6 ноября 1921
Посмотри на ненужные доски —
Это кони разбили станки.
Слышишь свист, удаленный и плоский?
Это в море ушли миноноски
Из заваленной льдами реки.
Что же, я не моряк и не конник,
Спать без просыпа? Книгу читать?
Сыпать зерна на подоконник?
А! я вовсе не птичий поклонник,
Да и книга нужна мне не та…
Жизнь учила веслом и винтовкой,
Крепким ветром, по плечам моим
Узловатой хлестала веревкой,
Чтобы стал я спокойным и ловким,
Как железные гвозди, простым.
Вот и верю я палубе шаткой,
И гусарским, упругим коням,
И случайной походной палатке,
И любви расточительно-краткой,
Той, которую выдумал сам.
Между 1917 и 1920
Хотел я ветер ранить колуном,
Но промахнулся и разбил полено,
Оно лежало, теплое, у ног,
Как спящий, наигравшийся ребенок.
Молчали стены, трубы не дымили,
У ног лежало дерево и стыло.
И я увидел, как оно росло.
Зеленое, кудрявое, как мальчик,
И слаще молока дожди поили
Его бесчисленные губы. Пальцы
Играли с ветром, с птицами. Земля
Пушистее ковра под ним лежала.
Не я его убил, не я пришел
Над ним ругаться, ослепить и бросить
Кусками белыми в холодный ящик.
Сегодня я огнем его омою,
Чтоб руки греть над трупом и смеяться
С высокой девушкой, что – больно думать —
Зеленой тоже свежестью полна.
1919
В душном пепле падал на страну
Лунного осколок изумруда,
Шел и ширился подземный гул,
И никто до света не уснул.
Он пришел – я не спросил откуда,
Я уж знал – и руку протянул.
На ладонь своей рукой лохматой,
Точкою на вязь ладонных строк,
Положил сухой, продолговатый,
Невысокий черный уголек.
«Здесь, – сказал он, – всё – земля и небо,
Дети, пашни, птицы и стада,
Край мой – уголь, мертвая вода
И молчанье, где я только не был,
На, возьми, запомни навсегда!»
Подо мной с ума сходили кони.
Знал я холод, красный след погони,
Голос пули, шелесты петли…
Но сейчас, сейчас я только понял,
Что вот этот холмик на ладони
Тяжелей всех тяжестей земли.
1921
М. Неслуховской
Где ты, конь мой, сабля золотая,
Косы полонянки молодой?
Дым орды за Волгою растаял,
За волной седой.
Несыть-брагу – удалую силу —
Всю ковшами вычерпал до дна.
Не твоя ль рука остановила
Бешеных любимцев табуна?
На, веди мою слепую душу,
Песнями и сказками морочь!
Я любил над степью звезды слушать,
Опоясывать огнями ночь.
Не для деревенских частоколов,
Тихо-пламенных монастырей
Стал, как ты, я по-иному молод,
Крови жарче и копья острей.
Проклянет меня орда и взвоет,—
Пусть, ведь ты, как небо, весела.
Бог тебе когда-нибудь откроет,
Почему такою ты была.
1920 или 1921
Когда уйду – совсем согнется мать,
Но говорить и слушать так же будет,
Хотя и трудно старой понимать,
Что обо мне рассказывают люди.
Из рук уронит скользкую иглу,
И на щеках заволокнятся пятна, —
Ведь тот, что не придет уже обратно,
Играл у ног когда-то на полу.
Ноябрь 1921
Мою душу кузнец закалил не вчера,
Студил ее долго на льду.
«Дай руку, – сказала мне ночью гора, —
С тобой куда хочешь пойду!»
И солнечных дней золотые шесты
Остались в распутьях моих,
И кланялись в ноги, просили мосты,
Молили пройти через них.
И рощи кричали: «Любимый, мы ждем,
Верны твоему топору!»
Овраги и горы горячим дождем
Мне тайную грели нору.
И был я беспутен, и был я хмелен,
Еще кровожадней, чем рысь,
И каменным солнцем до ног опален,—
Но песнями губы зажглись.
1920
Полюбила меня не любовью,—
Как березу огонь – горячо,
Веселее зари над становьем
Молодое блестело плечо.
Но ни песней, ни бранью, ни ладом
Не ужились мы долго вдвоем,—
Убежала с угрюмым номадом,
Остробоким свистя каиком.
Ночью, в юрте, за ужином грубым
Мне якут за охотничий нож
Рассказал, как ты пьешь с медногубым
И какие подарки берешь.
«Что же, видно, мои были хуже?»
– «Видно, хуже», – ответил якут,
И рукою, лиловой от стужи,
Протянул мне кусок табаку.
Я ударил винтовкою оземь,
Взял табак и сказал: «Не виню.
Видно, брат, и сожженной березе
Надо быть благодарной огню».
1920
Всему здесь низкая цена:
Помои, взмыленную воду
Льют на голову из окна
Нечаянному пешеходу.
Из длинных щелей – кислый пар,
У двери – с глиною носилки,
Насколько крепки черепа,
С утра уж пробуют бутылки.
Любовь, целуй в подбитый глаз
Матроса, нищего, воровку!
Не всем в парламенте атлас,
Не всем в Ньюгете есть веревка.
Но и в карет сановный бег
Иной раз камень свистнет кстати, —
На страже резкий человек
В зеленом чучельном халате.
Он знает, дерзостный старик,
Какой нас ветер сдунуть сможет.
Тебя, Филипп, гнилой мясник,
Вас, королева Анна, – тоже.
Молчи, слепая голытьба!
Пусть говорят одни памфлеты:
Они лишь зерна, а борьба,
Как урожай, не раньше лета.
И лорд, в батист упрятав нос,
За сто гиней просить союза
Идет во весь расшитый рост
К тому, кто в ссоре даже с музой.
«День добрый, друг, я в вашей воле…»
– «Спасибо, герцог, я польщен.
Сегодня ваш обед без соли —
Так вот вам соль: ступайте вон!
Прошу, я с вами незнаком».
О, сколько счастья – вслед гинеям
Швырнуть дырявым башмаком
И засмеяться, не бледнея!
Пусть злоба хлопает дверьми,
Отсюда – есть терпенью мера —
Впервые лилипутский мир
Услышит голос Гулливера.
Ведь здесь, уставшая молчать,
В обложке из тисненой кожи
Лежит высокая тетрадь,
Всех лордов Лондона дороже.
1920
«Человек, который смеется»
В. Гюго
Ночными солнцами владея,
На спящей маленькой земле,
Моя любовь – слепая Дея,
Смотри, как нежен Гуинплен!
Ему и волк колена лижет,
И чертит ласточка кольцо,
А он всё трепетней, всё ниже
К тебе склоняется лицом.
Скажи – он принесет парламент
В ладонях вытянутых рук,
Войдет в хохочущее пламя,
Подставит шею топору.
О, если б знала ты, бледнея,
Зовя с собой в старинный плен,
Что ты убьешь, слепая Дея,
Того, кто звался Гуинплен.
1919 или 1920
БРАГА
Длинный путь. Он много крови выпил.
О, как мы любили горячо —
В виселиц качающихся скрипе
И у стен с отбитым кирпичом.
Этого мы не расскажем детям,
Вырастут и сами всё поймут,
Спросят нас, но губы не ответят
И глаза улыбки не найдут.
Показав им, как земля богата,
Кто-нибудь ответит им за нас:
«Дети мира, с вас не спросят платы,
Кровью всё откуплено сполна».
1921
1921–1922
…И вечный бой! Покой нам только снится.
А. Блок
Не заглушить, не вытоптать года,—
Стучал топор над необъятным срубом,
И вечностью каленая вода
Вдруг обожгла запекшиеся губы.
Владеть крылами ветер научил,
Пожар шумел и делал кровь янтарной,
И брагой темной путников в ночи
Земля поила благодарно.
И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве,
Что в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство!
1921 или 1922
Под ремень ремень, и стремена
Звякнули о сумы-переметы,
Пальцы на поводьях, как узлы,
Желты, не велики, не малы:
Погрызи, дружок, железо – на!
Город спит, устал, до сна охоч!
Просверкали над домами,
Над седыми ребрами дворца,
В ночь, в поля без края, без лица.—
В черную лихую зыбь и ночь.
Ни подков, ни стойла, ни овса,
Ледяная, длинная Двина.
«Эй, латыш, лови их на прицел,
Сторонись, покуда жив и цел!»
Гривы бьют о дюны, о леса.
Крик застыл у часовых во рту,
Раскололся пограничный столб,
А за киркой море и луна —
Корабли шершавей полотна,
Молниями шпоры на лету.
И рука над гривою тверда,
И над картой пролетает глаз,
Отмечает знаками черед:
Веткой – рощу, паутиной – брод,
Кровью – села, пеплом – города.
Весь избит копытом материк,
Если б жив был опытный астролог,
Он бы перечел сейчас коней,
Масть узнал – цвет глаз, копыт, ремней, —
Над горами льдин прозрачный крик.
В паутине веток кровь хрустит,
Лондон под передними ногами,
Дувра меловая голова,
Франции прогорклая трава,—
И в аркан сливаются пути.
Простонал над рельсами экспресс,
Под копытом шпалы пополам,
Дальше некуда – отсюда весть.
«Здесь», – сказал один, и третий: «Здесь!
Здесь! – каких еще искать нам мест?»
Утром встали спавшие беспечно.
На камнях, дорогах, на стенах
Кто-то выбил, выжег, положил
Всюду звезды, и повсюду жил
Алый блеск тех звезд пятиконечных!
1922
Напряглись вконец рыбачьи души,
И взлетел песок им до колена,
В брызгах, точно через соль и порох,
Волочат из океана город,
Сети тащат лестницы и стены.
На паркетах ло́снятся машины,
Люди шумны в тканях духовитых,
Кто видал затейнее корыто?
Только старший усмехнулся длинно:
«Рыбаку нужны волна да небо,
Отдадим-ка лишнее обратно».
Ухнул город в переплеск двукратный.
Гнал им в сети вечеровый ветер
Тучу теплой краснобокой рыбы,
Посыпали рыбье сердце солью —
На камнях пекли ее нескоро, —
И уснули зубы на рассвете.
А в полях всю ночь рыбачьи дети
Из камней сколачивали город.
Лег поселок перед их законом,
Как ладья под тучею бродячей, —
Город встал и порохом каленым
Пропечатал борозды рыбачьи.
Я рожден в береговой стоянке,
Когда парус выкрасили кровью,
Рыбу вбили в жестяные банки,
Мертвым дали волны в изголовье.
Только в сердце и сумел сберечь я,
Как гудели сети в этот вечер,
Темные, как мудрость человечья.
1922
От дождя пробегает по камню дрожь,
Патруль прикладом стучит на крик,
Только ветер да ночь ты сегодня вплетешь
В свои ржавые кудри, старик.
Искушать любовь, заклинать цветы
Тяжелая сила его несет,—
За улицей улица – темны и пусты,
За углом, за сугробом – вход.
Лохматится вся седая спина,
Стучится и входит глупец —
В доме не спят, в доме – тишина,
Но весь он – бетон и свинец.
Хозяин рад и ведет жену,
Холодом звездным горят волоса,
Сквозь гостя она глядит в тишину
И просит подняться в сад.
Лилии льются, медь блестит,
Соловей стеклянный поет в кустах,
И шепотом ветхим старик ворожит,
Но в шепоте пыль и страх.
Но дождем пробегает по телу дрожь,
И в жилах ветер стучит.
«Здесь бетон и свинец, старину не тревожь»,—
Хозяйка смеясь говорит.
А хозяин встал, и ударил пса,
И взглянул глазами врага.
Да, забыли они, как блестит роса
На волнистых, на долгих лугах.
Патруль прикладом стучит на крик,
Капли летят брызг дождевых,
Нагибаясь, псу говорит старик:
«Их двое, и мир для них».
И снова, сгибаясь, хохочет он:
«Я слышу, слышу конец!»
Сквозь душу и ночь прорастает бетон,
Над кровью шумит свинец!
1921 или 1922
Не простые чайки по волне залетели —
Забежали невиданные шнявы,
Как полночному солнцу иволги пели,
Слушал камень лютый да травы.
Расселись гости, закачали стаканы,
С зеленой водою пекут прибаутки,
Кроют блины ледяной сметаной,
Крепкие крутят самокрутки.
Чудят про свой город: гора – не город,
Все народы толкутся в нем год целый,
Моржей тяжелей мужи-поморы,
В смоленом кулаке держат дело.
«А у нас валуны, как пестрые хаты,
Заходи-ка, чужак, в леса спозаранья,
Что отметин на елях понаставил сохатый,
Что скрипу чудного от крыла от фазанья».
Хохочет кожаный шкипер, румяный, манит:
«Ну, заморского зелья, ну, раз единый».
Стеклянная кровь ходуном в нем нынче мурманит,
В собачьем глазу его тают льдины.
Руку жмет, гудят кости, что гусли,
Лает ласково в дым и ветер.
«Лондон, Лондон – Русь моя, Русь ли?
В ушкуйницу мать – ушкуйники дети».
Расплылся помор, лапу тычет вправо,
Колючебородый с тюленьей развалкой старик:
«А вон там, пес ты божий, – глянь через камень и травы,
Москва-мать, ходу десять недель напрямик».
1922
Июлем синим набежало время,
В ветвях кочует слив отряд,
Домой вернувшийся солдат
Несет зарю в тяжелом шлеме,
Чтобы отдать садам.
Еще клеймо с короной на плече,
Еще бежит дыхание огня
Нечаянно через сады и сливы,
Еще молчать рукам нетерпеливым
И деревам склоняться у плетня.
Но уже кровью пьяны Лорелеи,
Хрипя на площадях о том,
Что узки временам плац-парки и аллеи,
Под черным колесом грузовика
Погибнет Лютера спокойный дом.
Пивной ручей – вторая кровь народа —
Жжет бороды, но души не бодрит,
Кричат в ушах стальные Лорелеи:
Германский хмель – безумец огородов —
Тягучей силою степей обвит.
А там, внизу, в осколках красных градин
Куется для последней боли зуб,
Там ждут давно, – и если молот Тора
Из зал высоких навсегда украден,
Тот молот Тора там, внизу.
1922
Ревела сталь, подъемники гудели,
Дымились рельсы, вдавленные грузом,
И в масляной воде качались и шипели
На якорях железные медузы.
Таили верфи новую грозу,
Потел кузнец, выковывая громы,
Морщинолобый, со стеклом в глазу,
Исчерчивал таблицами альбомы.
Взлетали полотняные орлы,
Оплечья крыш царапая когтями,
И карты грудью резали столы
Под шулерскими влажными руками.
Скрипучей кровью тело налито,
Отравленной слюной ночного часа
С жемчужным горлом в бело-золотом
Пел человек о смерти светлых асов.
Сердец расплющенных теплый ворох
Жадно вдыхал розоватый дым,
А совы каменные на соборах
Темноту крестили крылом седым.
Золотому плевку, красному льду в бокале
Под бульварным каштаном продавали детей,
Из полночи в полночь тюрьмы стонали
О каторгах, о смерти, о миллионах плетей.
Узловали епископы в алтарном мраке
Новый Завет для храбрых бродяг,
В переплетах прекрасного цвета хаки,
Где рядом Христос и военный флаг.
А дряхлые храмы руки в небо тянули,
И висел в пустоте их черный костяк,
Никто не запомнил в предсмертном гуле,
Как это было, а было так:
Земле стало душно и камням тесно,
С облаков и стен позолота сползла,
Серая крыса с хвостом железным
Из самого черного вышла угла.
И вспыхнуло всё, и люди забыли,
Кто и когда их назвал людьми.
Каменные совы крылами глаза закрыли,
Никто не ушел, никто… Аминь!
1922
Из долгого, прямого парохода
Самаритян холодных приношенье
Стекает рисом, салом, молоком.
Язык морского, строгого народа,
Хрип слов чужих, их краткий ритм движенья
Нам, изгонявшим медленность, знаком.
Они иную гнули тетиву,
Безжалостней и волею отвесней,
Их улицы надменной чистоты,
Но и у них родятся и живут
Такие ж волны в гаванях и песнях
И женщины такие же, как ты.
Какие б нас ни уводили вновь
Глухие тропы за бедою черствой —
Настанет наш черед —
Мы им вернем их темную любовь,
Мы им вернем упорство за упорство,
За мудрость – мудрость, лед – за лед!
1922








