Стихотворения и поэмы
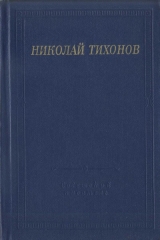
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Николай Тихонов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
В. Луговскому
Ты проедешь Сумбар,
И в полуночный пар
Ты минуешь рудник Арпаклен
И пройдешь по хребту
Через всю высоту,
Сквозь луга и сквозь каменный плен,
Где, как мертвый пастух,
Громоздится уступ,
Словно овцы – кусты по горе,
Пусти шагом коня
В жар зеленого дня:
То ущелье зовут Ай-Дэрэ.
Травы – брата родней,
В темножильях камней
Родников отчеканена дрожь.
Лучше рощ, гибче вод,
Драгоценней пород
Ты в Туркмении, верь, не найдешь.
Никого не предашь,
Ты останешься наш,
Но вдохни этот воздух, какой он!
Ты отрады такой
Не встречал под рукой,
Ты такого не ведал покоя.
На большие года
Будет память горда.
Будет сердце – как конь на заре,
А в томительный час
Повторишь ты не раз:
То ущелье зовут Ай-Дэрэ.
1930
Мы с гор пришли сегодня днем,
Куда мы идем – не гадай.
Усмирись, расступись пред конем —
Дорогу дай, Гюрген, дорогу дай!
Пришли мы к воде, и она шумит,
Прогони ее с глаз, измени ее вид,
Убери свою воду из-под копыт.
Дорогу дай, Гюрген, дорогу дай!
Не то мы истоки твои убьем,
Мы высушим ложе твое огнем,
Ты покажешь все камни на дне своем, —
Дорогу дай, Гюрген, дорогу дай!
Мы закроем ущелья, и ты умрешь,
И умрет с тобой воды твоей дрожь —
Тогда для коней будет путь хорош,—
Дорогу дай, Гюрген, дорогу дай!
Пожалей своих птиц на своих отмелях,
Людей, что питают тобой поля,
Всё равно мы пройдем тебя, сердца веселя, —
Дорогу дай, Гюрген, дорогу дай!
1930
Читай ковер: верблюжьих ног тростины,
Печальных юрт печати и набег,
Как будто видишь всадников пустыни
И шашки их в таинственной резьбе.
Прими ковер за песню, и тотчас же
Густая шерсть тягуче зазвенит,
И нить шелков струной скользнувшей ляжет,
Как бубенец, скользнувший вдоль ступни.
Но разгадай весь заговор узора,
Расшитых рифм кочевничью кайму,
Игру метафор, быструю, как порох,—
Закон стиха совсем не чужд ему.
Но мастер скуп, он бережет сравненья,
Он явно болен страхом пустоты,
И этот стих без воздуха, без тени
Он залил жаром ярким и густым.
Он повторился в собственном размахе,
Ковру Теке он ямбы подарил,
В узоры Мерва бросил амфибрахий,
Кизыл-Аяк хореем населил.
Так он играл в своем пастушьем платье
Огнем и шерстью, битвой ремесла,
И зарево тех красочных объятий
Душа ковра пожаром донесла.
1930
(Завернувшиеся в плащи)
Мы плыли, плыли, плыли,
Мы пели песни басом
Сожженными устами.
Уж каюкчи шестами,
Саженными шестами
Устали опираться, —
Потея час за часом.
Мы груз кооперации
Везли до Ходжам-Баса.
Везли мы до Бешира груз:
Консервы, стекла, мыло,
Соль, рис, спички.
Заря нам жгла свой красный куст,
И нам луна светила.
К Беширу буря подошла
В полночной перекличке,
К спокойным нашим снам
И, презирая наши сны
И наш товар по сторонам,
Она, как шило из мешка,
Ударила по нас.
Палатка рухнула, свист
Пошел по нашим ящикам,
Как будто рылись там кроты,
Сойдя с ума от темноты.
О буря, буря, – сволочь ты!
Мы довезем стекло, и рис,
И соль, и рис заказчикам.
Мы завернулись все в плащи,
Давясь сырым песком;
Сложив из ящиков карниз
Стеклом наверх и мылом вниз,
Нырнули в пухлый шум.
Чего же ты смотрел, ревком
Пустынных Каракум?
Мы завернулись все в плащи,
И, подобрав плащей концы,
Давясь сырым песком,
Мы, как верблюды, полегли,
А наши курицы вели
(До плова было далеко)
Себя как храбрецы.
Мы завернулись все в плащи,
Плевали мы на бури,
А утром – только не ропщи, —
Мы утром курам, как картечь,
Отсекли головы до плеч
И пух пустили курий.
Так, завернувшись все в плащи,
Мы сдали груз в Бешире,
Консервы, стекла, мыло,
Соль, рис, спички,
Мы сдали груз в Бешире.
Мы плыли, плыли всё вперед
Сквозь перекаты всех пород,
Сквозь мели в желтом жире,
И мы смеялись: «Вот поход!»
Такой речонки поищи —
Единственная в мире.
1930
Седой туркмен, сожженный солнцем юга,
Прощается с истертым омачом:
«Ты отойдешь ненужным гостем в угол.
Ты, одряхлев, остался ни при чем.
Тебя почтит ночного ветра скрежет,
Но шум молвы в другую песнь ушел —
Машинный плуг родную землю взрежет
От волн Аму до каракумских волн.
Не о тебе расскажут у колодца,
Ты жил, как раб, ленивой простотой.
В груди машин живое сердце бьется
Туркмении пустынно-золотой».
Сказал омач:
«Не оставляй средь гула
Меня лежать в твоих машин дыму.
Не дай мне гнить среди твоих аулов!
Я, как басмач, пустыню подыму,
Я стану волком, пламенем, бедою,
Как астрагал – меня охватит ложь.
Я не хочу! Я сыт своей судьбою,
И я прошу покорно: уничтожь.
Сожги мое истасканное тело,
Испепели и острием серпа
Развей меня, чтоб мной не завладела,
Как знаменем твоих врагов, толпа».
1930
Обычной тенью входит день.
Одежда та же: тесен ворот —
Попробуй возьми его, переодень,
Скажи, что меняешь обычай и город.
Он будет выть, от страха седой,
Вопьется ногтями, от крика устав,
Он будет грозить нищетой и бедой,
Он выложит все счета.
Но, как пересохший табак, распыли
Привычки – сбеги с этажей,
Увидишь, как пляшут колени земли,
Какая улыбка у ней.
А может быть, ярость? А может —
Одно дуновенье ресниц далеко
Тебя заведет, чудесами изгложет,
Оставит навек чудаком?
Соглашайся немедля! Из дому
Задумано бегство. Ведь надо же знать,
Как люди живут и жуют по-другому,
Как падает заново слов крутизна.
Как бродят народы, пасясь на приволье.
Как золотом жира потеет базар,
Как дышит – ну, скажем, за Каспием, что ли, —
Менялы тучней черноглазый фазан.
Чтоб с надоевших, постылых подножий
Вся жизнь поднялась бы не степью с утра —
Горой, где бы каждый уступ непохож был
На тот, каким он казался вчера,
Чтоб в горле гуляло крупнейшею, дрожью:
«Мы родственны снова. Дай руку, гора!»
1926
Не облако зноя,
Не дым из харчевни чудесной
Летит кишлаками, листвой вырезною,
Бахчами, канавами, лесом.
И облако это, красуясь подробно,
Зудит удилами и песни поет —
То сам фининспектор султаноподобный
Из лёссовой пыли вихри вьет.
На учете – ковры, пшеница, сад,
В квитанциях, словно луна,
Восходит, желтея, налога цена
Десятками лун подряд.
Он знает, который из толстых не рад
Топтанью его скакуна.
Он видит, как ложью цветет старшина
И сколько наплел и налгал он спьяна.
Он помнит, как нужно коня раскачать
Навстречу клинкам басмача.
На севере дождь заладил полет
И льет, облысев, отупев;
Тщедушный чиновник бумагой скребет,
Как мышь, за конторку присев.
Он ввек не узнает, что письменных троп
Кончается пулей в пустыне галоп,
Что можно баланс перекинуть иначе —
Высокою аркой ветвей карагачьих.
Что слать извещенья – пустая затея,
Когда по ущельям обвалы густеют.
Что дальний его туркестанский собрат
Теснинам и высям устроил парад.
Не тигр из тугая плескает клыком,
Куском полосатой ноги,
То сам фининспектор в галопе легко
Играет конем дорогим.
Джигит раздирает запекшийся рот,
Ведет к Самарканду дорог поворот.
Какое убранство! Небо какое!
Огонь, тополя, купола!
Он скачет туда, где лежит на покое
Тимур – Хромец Тамерлан.
Бросив джигиту камчу на лету,
Идет инспектор на ту высоту.
Гробница Тимура в нефритной красе,
И здесь говорит он, молчанье рассея:
«Лишь винт в колесе я,
Всегда на весу, —
Я честно служу своему колесу,
Катаюсь с ним вместе дугою,
Вот ты – это дело другое!»
Восходит могильный рев старика:
«Бока отлежал я. На что мне века!
Могила на что дорогая?
Мне – сыну Амир-Тарагая?
Я на землю ярой горой налег,
Я жал ее необычайно —
С Китая я выжал, как губку, налог
Ручными драконами, чаем.
Сколько земель у меня собралось
Дохода звонкого ради,
В одном лишь Багдаде убыток понес:
Людей не осталось в Багдаде.
Я взвесил приход и расход мировой,
И нету копейки со мною:
Я – гол, с лошадиною схож головой,
Вот ты – это дело иное…»
Не облако зноя,
Не ветер великий весною,
То мчится инспектор, трубку сосет,
Топчет ковер тишины,
Как будто луна с небывалых высот
Упала в доход казны.
1926
1
Ходят пчелы на ручей
За водой студеной; пчелы
Под шатром карагачей
Словно новоселы.
Бабочки вьются,
Как желтые блюдца.
Ты ли, арча, недостойна парчи?
Что есть на свете тусклее арчи?
Муравьиный мускул мал,
Но лежит в труде долина,
Муравей бревно поймал
Всей ватагой муравьиной.
Это малое бревно
Я растер бы меж ладоней,
Но для них оно одно —
Знак работы неуклонной.
Как одеяло цветное,
Долина купается в зное.
Словно гончарня над глиной,
Так трудится в зное долина.
Я покидаю пчел водопой,
Падай, вода! Перепел, пой!
2
Где разветвляется хобот ущелья,
Камни обвалом порвало,
Где, точно клейма, наклеены щели,
Там увидал я шакала.
Там он стоял, размышляя ушами,
Один – без детей, без жены;
Были глаза его, как камышами,
Вздыбленной шерстью окружены.
Я-то ведь знаю, кто он такой,
Как он меняет лица,
Как он плутует и серой рукой
В наши дома стучится.
Это неверно, что лишь пустынь
Спутник он невеселый,
Нет, и любой городской пустырь
Воем шакальим полон.
3
Но ты по-особому вздыблен и горд,
Шакал азиатских гор.
Тебе оказали сугубую честь,
Ты помнишь той ночи размер?
Дубы, что упали в Ахча-Куйме,
Ты видел их двадцать шесть[46]46
Двадцать шесть бакинских комиссаров были убиты в пустыне, около перевала Ахча-Куйма.
[Закрыть].
И сердцем и глазом запомнили мы
Шакалов Ахча-Куймы.
И тех, что ножу предают за гроши,
Убийство для них – воспитанье души.
И тех, что до власти лакомы,
На страже весов мировых,
Горят имперскими знаками
Мундирные вывески их.
И тех и других запомнили мы,
Шакалов Ахча-Куймы.
Дразни этой вестью друзей и казни,
Беги за Герат, беги за Газни,
Кричи Индостану, как любим мы
Шакала Ахча-Куймы.
Лишь бурей взыграется Азия,
Не встретимся здесь мы разве?
И драться мы будем в песках этих рыжих,
Пока ты не будешь разбит и унижен,
Тогда подойдешь смиренней, чем мышь,
К разбитой моей голове,
Спросишь: «Зачем ты здесь лежишь
В чужой, в неродной траве?»
«Зачем лежу в траве голубой?» —
До крови смеялся я над тобой.
Я покидаю пчел водопой —
Падай, вода! Перепел, пой!
1926
Так вот ты какая…
Направо – жара, солончак, барханы,
Налево – бархан, солончак, жара,
Жара – окаянная дробь барабана —
По всем головам барабанит с утра.
Тут жизнь человечья особой породы —
У ней, как у соли, хрустят галуны,
Отсюда до бешенства – полперехода,
Отсюда до города – как до луны.
Кого обыграть между вихрями пыли?
Куда пойти в песчаной тюрьме?
Любить, но кого же? Поставить бутыли
И, пуля за пулей, по ним греметь.
Когда паровоз из сумрака чалого
Рванет полустанок, сорвет с якорей —
Прохлада седьмую минуту качает
Людей и дрова на дворе.
Здесь главная служба – сидеть, потеть,
Когда ж человек отпотеет впустую,
Он вытянет ноги в пыли, в желтоте —
Вселенная, я протестую!
Я всё согласен терпеть: петь
Охрипло стихом разбитым,
В бродяги зачислиться, голода плеть
Жевать и хвалить с аппетитом.
Но всё это, всё это взыщется
С тебя, мелкоребрая хищница.
Но вечная эта жаровня сквозная,
Но этот громоздкий песчаный ад,
В котором неслышно тела трещат, —
Куда он ведет – не знаю!
1926
(Ширчай)
СТИХИ О КАХЕТИИ
Глаза вниманием одень,
Вдали от родины кочуя,—
Всемирной дружбы вызвав тень,
В харчевне Азии ночую.
Беседу правя невзначай
С поводырем верблюжьим,
Я буду пить зеленый чай,
Тигриный чай на ужин.
Костра густые хляби
Рождают смуглый дым,
В котле гуляют ряби
Взволнованной воды.
Возьми песчинки чая,
Достойно урони,
И, как пловцы, ныряя,
Уйдут на дно они.
Но, волнами гонимы,
Висят на борозде,—
И здесь необходимо
Раздумье о труде…
Хвала! Но что такое труд?
Поток, идущий широко,
Но здесь в котел проворно льют
Потоком тесным молоко;
В котле сметанный океан,
Как белый бык в оковах, —
Но поводырь верблюжий пьян
Мечтою о коровах.
Не бык – сияний решето
Влекомо вверх и вниз.
Он говорит: «Верблюды – что?
Коровы – это жизнь!»
Котел, как колокол, кипит,
Зеленый чай, тигриный чай
Сквозь дым и крышку говорит
Проворней горного ключа.
Молвит сосед: «О таксыр,
Ты знаешь, что такое власть?»
Он режет масло на куски,
Кускам в котел дает упасть.
«Ты по-иному мне скажи, —
Он молвит мне, – таксыр,
Власть – это самый верхний жир
В котлах любой страны!»
Мой смех обходит всех волчком,
И на котле, смеясь,
Покрышка падает ничком,
От зноя золотясь.
Багровой солью Бухары
Посыпан ярый чай,
В котле – косматые шатры
Вспухают, забренчав.
Из них тигриный чай ревет,
Он весь похож на белену,
Кому такой он нужен?
Мы точно варим здесь войну,
Сто дьяволов на ужин.
Но спутник темножилый,
Моей беседы князь,
Кричит: «Четыре силы
Кипят, соединясь!»
Хозяин трапезы живой,
Отвесив по каратам,
Кидает перец огневой
В его плаще богатом.
Перец, лопаясь, хохочет,
Клокочет чай готовый,
Котел задымленный, грохочущий
Встречают, как обнову.
И этот спелый, словно рожь,
Напиток клонит не ко сну —
И он на женщину похож,
На власть и на войну…
Мы пьем его, как жизнь, как дым,
Чтоб жажду закрепить,
И мы потом договорим,
Сначала надо пить…
1926
1935
Маро Шаншиашвили
Я не изгнанник, не влекомый
Чужую радость перенесть,
Мне в этом крае всё знакомо,
Как будто я родился здесь.
И всё ж с гомборского разгона,
Когда в закате перевал,
Такой неистово зеленой Тебя,
Кахетия, не знал.
Как в плески, полные прохлады,
Я погружался в речь твою,
Грузино-русских строк отряды
В примерном встретились бою.
Но где найдется чувству мера,
Когда встает перед тобой
Волной вселенского размера
Лесов немеркнущий прибой?
И в этот миг, совсем не сотый,
Когда ты в жизни жил не зря,
Сроднив и спутав все высоты,
Почти о счастье говоря,
Ты ищешь в прошлом с легкой дрожью:
Явись опять, зеленый зной,—
Год двадцать первый встал и ожил
Над мамиссонской крутизной.
О, сколько слез и сколько жалоб
На старом Грузии пути,
Ночь меньшевистская бежала,
К Батуму крылья обратив.
Рвать крылья эти, что клубили
Одну из самых черных вьюг,
Бригада в искрах снежной пыли
Проходит с севера на юг.
Тобою, Киров, как знамена,
Снега Осетии зажглись,
Когда, не спешась, эскадроны
Переходили в них на рысь.
Снега, снега – зима нагая,
И вот уже ни стать, ни лечь,
Рубить, в снегах изнемогая,
Ходы, что всаднику до плеч.
Переносить вьюки плечами,
Уметь согреться без огней,
Со льдов, увенчанных молчаньем,
На бурках скатывать коней.
Хватив зимы до обалденья,
В победоносный дуть кулак
И прямо врезаться в виденье,
Неповторимое никак.
И в этот миг, совсем не сотый,
Когда ты в жизни жил не зря,
Сроднив и спутав все высоты,
Почти о счастье говоря, —
Они смотрели и стояли,
Снимали иней на усах,
Под ними прямо в небеса
Великой зеленью пылали
Чанчахи вольные леса.
1935
Через долину, прямо над Джуганью,
Стоял хребет, и я встречался с ним
Наедине, за той рассветной гранью,
Когда он весь казался молодым.
Как будто шел, не замедляя шага,
Ко мне товарищ в дальней стороне,
Зелеными рубцами Шалбуздага
О доблести рассказывая мне.
Как будто вторя грозному столетью,
Над кулуаров снегом голубым
По желобам летели легкой смертью
Дымки лавин дыханием одним.
И ледопадов синева нависла
И, как судья, судила черный бор,
А я стоял тяжелый, как завистник,
С той синевой вступая в разговор.
Тот разговор судьба определила,
Чтоб каждый знал всю правду о другом, —
Тут на балкон хозяйка выходила,
Навстречу дню распахивая дом.
Тогда с хребта слетал огнистый глянец,
Всё подменив деталью бытовой,
Как будто утро отдало румянец
Спокойствию хозяйки молодой.
1935
Я прошел над Алазанью,
Над причудливой водой,
Над седою, как сказанье,
И, как песня, молодой.
Уж совхозом Цинандали
Шла осенняя пора,
Надо мною пролетали
Птицы темного пера.
Предо мною, у пучины
Виноградарственных рек,
Мастера людей учили,
Чтоб был весел человек.
И струился ток задорный,
Все печали погребал:
Красный, синий, желтый, черный, —
По знакомым погребам.
Но сквозь буйные дороги,
Сквозь ночную тишину
Я на дне стаканов многих
Видел женщину одну.
Я входил в лесов раздолье
И в красоты нежных скал,
Но раздумья крупной солью
Я веселье посыпал,
Потому что веселиться
Мог и сорванный листок,
Потому что поселиться
В этом крае я не мог,
Потому что я, прохожий,
Легкой тени полоса,
Шел, на скалы непохожий,
Непохожий на леса.
Я прошел над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.
1935
Уже открылись домики селенья,
Людей обыкновенных уголки;
Чирками голубого оперенья
Над черепицей плавали дымки.
Охотник шел, походом переполнен,
В плечах шумел лесных ночей настой,
У пояса, как пачки легких молний,
Кипели перья птицы непростой.
В нем горы и озера еще жили,
Иной он слепок мира осязал,
Из самых тонких жизни сухожилий
Дни мастерства лесного он связал.
Пускай умрет он также неизвестным,
Счастливым лесом встанут жизни дни,
О время, ты, наш соучастник честный,
Ревнителя охоты не казни.
Смиряй его, гони по кругу быта
И пламя крыл – фазаном назови,
Но дай ему продлить души избыток
За прибыли охотничьей зари.
1935
За Гомборами скитаясь, миновал Телав вечерний,
Аллавердской ночью синей схвачен праздника кольцом.
Чихиртмой, очажным дымом пахли жаркие харчевни,
Над стенаньями баранов с перепуганным лицом.
Люди чавкали и пели с кахетинскою истомой
И шумели по-хевсурски под навесами в кустах.
Мчались всадники с шестами, и горящая солома
Освещала все сучки нам на танцующих шестах.
И, скользя в крови бараньей, шел, на шкуры наступал я,
И волненье очень смутно стало шириться во мне,
Было поднято гуденьем и в гуденье уплывало
Мое тело, словно рыба, оглушенная во сне.
Больше не было покоя в дымах, пахнувших металлом,
Ни в навесах сумасшедших, ни в ударах черных ног,—
Это старый бурый бубен бесновался, клокотал он,
Бормотал, гудел, он бурю бурным волоком волок.
И упал я в этот бубен, что, владычествуя, выплыл,
Я забыл другие ночи, мысли дымные клубя,
И руками рвал я мясо, пил из рога, пел я хрипло,
Сел я рядом с тамадою, непохожий на себя.
Словно горец в шапке черной,
И в горах остался дом,
Но в такой трущобе горной,
Что найдешь его с трудом.
Проходил я через клочья
Пен речных, леса и лед,
Бурый бубен этой ночи
Мне всю память отобьет.
Чтоб забыл я все потоки,
Все пути в ночи и днем,
Чтоб смотрел я лишь на щеки,
Окрыленные огнем;
Чтоб свои свихнул я плечи
Среди каменных могил,
Чтобы, ночь очеловечив,
С ней, как с другом, говорил, —
В этой роще поредевшей,
Этот праздник не виня,—
О не пившей и не евшей,
Не смотревшей на меня.
Вдруг людей в одеждах серых породила темнота,
Скромность их почти пугала среди праздничной орды,
Даже голос был особый, даже поступь их не та,
Будто вышли рыболовы в край, где не было воды.
То слепые музыканты разом подняли смычки,
Заиграли и запели, разевая узко рот,
Точно вдруг из трав зеленых встали жесткие сверчки,
Я читал на лицах знаки непонятных нам забот.
Тут слепые музыканты затянули тонкий стих,
Ночь стояла в этих людях, как высокая вода,
Но прошел, как зрячий, бубен сквозь мелодию слепых,
И увидел я: на шлеме след оставила звезда,
На линялом, нищем шлеме у слепого одного,
Что сидел совсем поодаль, пояс тихо теребя.
И на шлем я загляделся непонятно отчего,
Встал я рядом с тамадою, непохожий на себя.
Словно был я партизаном
В алазанской стороне
И теперь увидел заново
Этот край, знакомый мне.
Как, ломая хрупкий иней
И над пропастью скользя,
К аллавердской ночи синей
С гор спускаются друзья.
За хевсурскими быками
Кони пшавов на гребне,
С Алазани рыбаками
Гор охотники в родне.
Словно шел я убедиться,
Что измятый, старый шлем
Был воинственною птицей,
Приносившей счастье всем.
Что, храня теперь слепого
В алазанской стороне,
Он, как дружеское слово,
Сквозь года кивает мне.
Подходил рассвет, и роща отгремела и погасла,
Мир вставал седым и хмурым, бубен умер на заре,
Запах пота и полыни, в угли пролитого масла,
Птицы крик – и в роще сизый след поводьев на коре.
Обнажились вмиг вершины, словно их несли на блюде
И закрыли облаками от объевшихся гостей,
А под бурками вповалку непробудно спали люди,
Как орехи, волей вихря послетавшие с ветвей,
Ниже, в сторону Телава, спали лошади, упавши,
Спали угли, в синь свернувшись, спали арбы и шатры,
Спали буйволы, как будто были сделаны из замши,
Немудреные игрушки кахетинской детворы.
За Гомборами скитаясь, миновав Телав вечерний,
Я ночные Алла-Верды видел в пышности во всей,
Дождь накрапывал холодный, серебром и старой чернью
Отчеканенные, спали лица добрые друзей.
Я наткнулся на барана с посиневшими щеками,
Весь в репейнике предсмертном, грязным боком терся он
О забытую попону, о кусты, о ржавый камень,
И зари клинок тончайший был над шеей занесен.
1935
Я, как лезгин, смотрел с заветной кручи
На Алазани белый ремешок,
И подо мной раскачивались тучи,
Сквозь эти тучи самолет прошел.
Следили горы за гуденья силой,
Как птицы за полетом стрекозы,
И предков кровь, что лица заострила,
На мир смотреть учила сверху вниз.
Стал самолет в лазурь полей снижаться,
Своим гуденьем сердце веселя,
Стояли горцы, бросив улыбаться,
Внизу цвела Кахетии земля.
Шло дело к ночи. В темноту баллады
Лишь стоит нам рассказ перенести,
Задышим мы пожаров долгим чадом,
Услышим пули по всему пути.
Увидим, как дымились Цинандали
И крепости взлетали в простоте,
Свидетелей ущелья поглощали,
Аулов сто пылало вслед за тем.
Но нет мюридов… Нет Орбелиани,
Нет Чавчавадзе… Только огоньки
Шли винными совхозами в тумане,
Хлопковыми полями у реки.
Победы большевистские утехи
Нам говорили: если поспешить,
То можем мы спуститься в Лагодехи,
У очагов сесть, бурки обсушить.
И, не шумя излишними страстями,
Хлебать хинкал, заправив чесноком,
Старинными делиться повестями,
Не вымещая злобы ни на ком.
И кахетинец будет черноусый
С лезгином пить до самого утра,
Для горных дев подарит гостю бусы,
Любимые кусочки серебра.
1935








