Стихотворения и поэмы
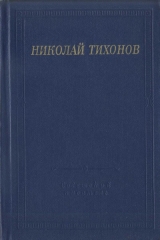
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Николай Тихонов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 36 страниц)
1
Зажми слова и шпоры дай им,
Когда, перегибая нрав,
Ты их найдешь, упорств хозяин,
В чужом упорстве прочитав,
В несытой и коричневой
Лавине на горах,
В гремучем пограничнике,
Как молодой Аракс,
Где в звездном косоглазии,
Давяся тишиной,
Предплечья старой Азии
Качались надо мной.
Но как мне в памяти сберечь
За речью двуязычной
Ночь, громадную, как печь,
Зов и запах пограничный:
Он ноздри щекотал коням,
Дразнил разбегом и разбоем,
Грозой белесой оттеня
Степей стодолье голубое.
2
Дороги тут и водятся
Насмешливей ресниц,
У тех дорог не сходятся ль
Хранители границ?
Они ступают бережно,
Чтобы сберечь подошвы,
Легко идя по бережку,
Как шорох самый дошлый.
Где пахнет гостем крепким
Иль контрабандным шагом,
Идут по следу цепью
Скалой и камышами.
Ночь зыбится и стелется
Для всех живых одна —
О шашку храбрость греется,
Как о волну – волна.
Такою ночью сердце вплавь,
А с юга, нам закрытого, —
Идут и против всех застав
Храбрятся вдруг копыта.
Но лишь подымет берег вой,
Сквозь сломанный ардуч[71]71
Ардуч – кустарник.
[Закрыть]
Махает барс, как шелковый,
Лосняся на ходу.
И вслед его, как серый ком,
Под ветровой удар
Несется круглым кубарем
Пройдоха джанавар[72]72
Джанавар – волк.
[Закрыть].
Попробуй тропы узкие
Законом завязать —
Далеко видят курдские
Точеные глаза.
И что им часовые?
Как смена чувяков, —
Но красные значки их
Одни страшат кочевников,
Значки стоят то хмуро,
То пьяно, то нарядно
На вышках Зангезура,
На стенах Ордубада.
И, отступив, номады,
Скача в жару и впроголодь,
Гадают в водопадах
На мясе и на золоте.
Но в пене, в жилах скрученных
И в золоченом поясе
Блеск красный, как ни мучайся,
Он всюду – как ни ройся!
3
Как вымысел ущельем рта
Восходит в песен пламя,
Так Арарата высота.
Всходила запросто над нами.
Равняясь честно на восход,
С ума свергавшей головой
Сиял, как колокол и лед,
Земли бессменный часовой.
Прости, старик, мы пили чай,
Костром утра согревши плечи,
Садов зеленая свеча —
Лукавый тополь, нас уча,
Шумел на смешанном наречье.
Ступали буйволы с запинкой,
Кувшин наполнился рекой,
Страна камней, как семьянинка,
Оделась в утренний покой.
Кусты здоровались обычно —
Меж них гуляет пограничник.
4
Стан распоясан, ворот расстегнут
Синий глаз отточен,—
Где же ты, Азия? Азия согнута,
Азия загнана в бочку.
Твои ль глаза узорные
Стоптали кайму свою,
Здесь красные стали дозорными
Народов на краю.
Обгрызли мыши Тегеран.
А где ж была ты, старая?
Моссул ободран, как джейран[73]73
Джейран – горный козел.
[Закрыть],
Ступай, ты нам не пара.
За что ходили ноги,
Свистело в головах?
За что патрон в берлогах
До барса доставал?
Багдад – питомец праздный,
Багдад не любит жара
Аракского костра, —
Пляши же, тари[74]74
Тари – гитара.
[Закрыть] старая,
Так смейся, тари красная,
Узун-дара! Узун-дара[75]75
Узун-дара – танец.
[Закрыть]!
Нежней луча, ходящего
По заячьим ушам,
Тундырь[76]76
Тундырь – печь, в которой пекут лаваш (особый хлеб).
[Закрыть] печет прозрачные
Листовки лаваша.
Дыня жирная садам
О желтизне кричит сама.
Ты, Азия, дышала нам,
Как сладкая дутма[77]77
Дутма – дыня высшего сорта.
[Закрыть].
Перебирая сквозь очки
Качанье четок и цепей,
Ты клюнешь песен – выпечки
Московских тундырей.
Аракс не верит никому —
Постой, смиришь обычай,
Так лайся же по-своему,
Пока ты пограничен.
5
Уже звезда, не прогадав,
Вошла в вечернее похмелье,
Работам, пляскам и стадам
Отныне шествовать к постели.
Тропинка в небе с красной кожей
Уже краснеет уже,
Деревья тянутся, похожие
На черный горб верблюжий.
Одно – двугорбое – во тьму
Входило стройно, без обиды,
Если бы руку пожать ему,
Расцеловать, завидуя,
Простую тутовую душу,
Рабочих плеч его чертеж,
Сказать: «Барев, енгер[78]78
Барев, енгер – здравствуй, товарищ.
[Закрыть], послушай,
Ты понимаешь, ты не пропадешь!»
6
496. ВЫРА[80]80
Поставь напрямик глаза,
Заострись, как у рыси мех,
Под чалмою шипит гюрза[79]79
Гюрза – змея.
[Закрыть],
Под чадрою – измены смех.
Легкий клинка визг,
Крашеный звон купцов,
Крылатая мышь задела карниз —
Так Азия дышит в лицо.
Неслышно, как в ночь игла, —
Для иных – чернее чумы,
Для иных – светлее стекла, —
Так в Азию входим мы.
Меняя, как тень, наряды,
Шатая племен кольцо,
Так дышит снам Шахразады
Советская ночь в лицо.
Курдский прицел отличен —
Стоит слова литого,
Падает пограничник —
Выстрел родит другого!
Что в этом толку, курд?
Слышишь, в Багдаде золото
Так же поет, как тут,
Только на ваши головы.
Что же, стреляй! Но дашь
Промах иль вновь не зря —
Будешь ты есть лаваш
Нашего тундыря.
1924 Армения
Выра – деревня около Гатчины, где 29/V 1919 г. бивший Семеновский полк перешел на сторону белых. Здесь погиб комиссар рабочей бригады, член исполкома, товарищ Раков. Раков – по профессии официант, начал революционную деятельность с 1912 г., был председателем Профсоюза служащих трактирного промысла, работал во фракции большевиков в Государственной думе, был арестован, выслан; в 1914 г., не желая идти сражаться, сдал экзамен на фельдшера. В Февральскую революцию был избран председателем 42-го армейского корпуса и членом Петроградского Совета от Выборгского крепостного гарнизона. Он принимал самое активное участие в гражданской войне в Финляндии. Когда финский пролетариат был разгромлен, комитет 42-го корпуса был весь уничтожен под деревней Раута, товарищу Ракову чудом удалось спастись от белых. Они назначили крупную сумму за голову товарища Ракова и даже послали своих агентов в Петербург, чтобы убить его.
[Закрыть]
15 марта 1918 года
Четвертый съезд Советов
Столпился перед зыбью,
Рокочут анархисты, взводя курки.
Ныряют соглашатели, чешуйчатостью рыбьей
Поблескивают в зале глухие уголки.
Колючей пеной Бреста
Ораторы окачены,
Выкриками с места
Разъярены вконец —
Эсеры гонят речи, но речи, словно клячи,
Барьеров не осилив, ложатся в стороне.
По лицам раскаленным
Проносится метелица,
Ведь нам же, ведь сегодня, здесь,
Вот здесь решать гуртом —
Винтовкой беспатронной ли
В глаза врага нацелиться
Или уважить вражью спесь
И расписаться в том.
«Вот когда мы шагали верстами,
Не так, как теперь, дорожим вершком,
Так ведь за нами – и очень просто —
Те же эсеры шли петушком!»
Зала разорвана, Ленин, заранее
Нацелясь, бьет по отдельным рядам,
Точно опять погибает «Титаник»,
Рты перекошены, в трюмах – вода.
«Теперь как бойцы мы ничтожны слишком,
Тут и голодный, и всякий вой,
Вот почему нам нужна передышка —
Мы вступили в эпоху войн».
Тонут соглашатели. Лысины – как лодки,
Рты сигналы мечут напропалую – ввысь,
Но гром нарастает – кусками, и ходко
Холмы рукоплесканий сошлись и разошлись
Рук чернолесье метнулось навстречу,
Видно, когда этот лес поредел,
Что это зима, где не снег бесконечен,
А люди – занесенные метелями дел!
1
Меж Ладогой и Раута
Угрюма сторона —
Только таборы холмов
Да сосна.
Только беженец,
От белых пуль ходок,
Гонит стадо несвежее
На восток.
Словно в ссылку сектанты,
Шагают там быки,
Кровавыми кантами
Обшиты их зрачки.
Скучая по крову,
Голосами калек
Поносят коровы
Разболтанный снег.
И лошади бурый
Волочат свой костяк,
Закат – как гравюра,
Но это – пустяк.
Над всеми голосами
Скотов, дыша,
Умные лыжи остриями
Судьбы шуршат.
По ветру в отчаянье
Удерживая крик,
От смерти – нечаянно —
Уходит большевик.
Меж Ладогой и Раута
Угрюма сторона —
Товарища Ракова
Еще щадит она.
Остались он да беженец,
От белых пуль ходок,
Холмы в личине снежной
Да в сердце – холодок.
Только с Красной Финляндией
Кончен бал,
Над черепов гирляндами
Бал забастовал.
Только в стадо включенный
Упрямый костоправ
Уходит побежденным,
Узлами память сжав!
2
Изведавшее прелести годов несчетных,
Развесистое дерево взирало на столы,
В саду за музеем на месте почетном
Пестрая очередь топтала палый лист.
Дождь струился по людям незнакомым,
Плечам и фуражкам теряя счет,—
Спасского Совдепа военкомом,
Товарищем Раковым, веден переучет.
Комсостав, окутанный паром
Осени дряблой и жирной, как
Борщ переваренный, – шел недаром
В списки резервного полка.
Всем ли довериться этим бывшим
Корнетам, капитанам, подпрапорщикам?
На месте погон были дырки, а выше —
Сентябрьская слякоть стекала по щекам.
Одни были напуганы, как сада ветви,
Жалобно трещавшие под сапогом,
Иным безразлично было всё на свете,
А третьи говорили: «Товарищ военком».
Очередь курила, таинственно крякала,
Как будто она продавалась на вес.
Самсоньевский, Зайцев? – разгадывать всякого —
Значит, в саду на полгода засесть.
Качавшееся дерево вместо промокательной
Пухлой шелухой осыпало стол —
Осень старалась быть только карательной,
Темной экспедицией, мокрой и густой.
Но, казалось, ссориться сегодня не придется,
Все глядели вымытыми, словно из колодца.
И, казалось, с лишними, снятыми отличьями
Снято всё давнишнее, снято – и отлично!
3
Весь день гоньба под знаком исполкома,
Верти до ночи ручку колеса,
Где совещанья, речи, пыль и громы,—
Ты доброволец, ты не нанялся!
Необходимость машет булавой,
Хвали и злись, ручайся головой,
Пока внезапно день не испарится,
И к полночи он различает лица
Лишь с точки зренья боевой
Или досадной единицы.
Блокада вкруг, как петли паука,
Давай, солдат, – крепись, товарищ Раков,
В ночной глуши досаден с потолка
Летящий герб в махорочных зигзагах.
И особняк, где шли пиры, обеды,
Черт знает что – в дыму других печей,
И в нем кипит, как варево победы,
Весь срочный быт военных мелочей.
Телефонист молодой
Перехмурил брови —
Он сидит как под водой
Иль витает с крышей вровень.
Страна полна такими,
Привычными, что крик,
Красноармеец – имя им,
А век их невелик.
И Раков смотрит: вот из тех —
Телефонист,
Кому отдать сейчас не грех —
Своей лепешки лист.
«Товарищ, ешьте!»
– «Военком, я сыт.
Я из гусаров спешен,
Я даже сбрил усы.
Из роты Карла Либкнехта,
В войне четвертый год,
Пишу стихи, отвыкнуть чтоб
От всяческих забот».
– «А ну-ка, попробуйте»… Сразу растет,
Лицо тяжелеет, но грусть водолаза
Кошачьим прыжком заменяется сразу,
Слова начинают зеленый полет:
«Книги друг к другу прижались,
В праздности шкап изнемог,
Вы разве в шелку рождались,
Гордые дети берлог?
В щепы – стеклянные дверцы,
Праздничных строк водопад
Каждому в душу и сердце —
Пей и пьяней наугад.
В буре – спасение мира,
К ней восхваленно взывай,
Души лови – реквизируй,
Если негодны – взрывай».
«Интеллигент, – подумал Раков тут,—
Такие все иль пишут, или пьют».
«Вы искренни – в том зла большого нет,
Но революция гораздо проще,
На кой вам черт разбитый кабинет,
Откуда книги тащите на площадь?..»
И он зевнул, стремясь зевнуть короче.
Ушел, засел до солнца коротать
Часы в бумажной пене и окрошке,
К рассвету мысли начали катать
Какие-то невидимые крошки.
Мышиный мир наладил визготню,
Стих мелькнул, усталость вдруг упрочив,
Окно зажглось – и солнце на корню
Увидел он, – и солнце было проще.
4
Фасад казармы давящий, всячески облупленный,
Он стоил прошлой ругани и нынешней насмешки,
А люди в шинелях глядели, как халупы,
Такие одинокие во время перебежки.
Тут бывшие семеновцы мешались с тем загадочным,
Как лавочный пирог, народом отовсюду,
Что бодр бывал по-разному в окопах и на явочных,
Оценивая многое, как битую посуду.
Ученье шло обычное – так конь прядет ушами,
И Раков слышал: рвением напряжены сердца,
Но чувствовал, как винт ничтожнейший мешает
Ему поверить в то, что это до конца.
Но было всё почтенно: портянки под плакатом,
Как встреча двух миров, где пар из котелка —
Достойный фимиам, и Раков стал крылатым.
Смеркалось… Плац темнел, как прошлое полка.
5
Сведя каблуки, улыбаясь двояко,
Блестяще он выбросил локоть вперед,
Смутился: «Вы – Ра…» Запинаясь: «Вы – Раков?
Самсоньевский, к вам в переплет».
Финские сосны в уме побежали,
С улицы лязгом ответил обоз.
Шел комиссар в офицерские дали,
В серую карту морщин и волос.
Карта тянулась: рада стараться!
Билетом партийным клялась за постой,
Билет был билетом, но череп – ногайца,
Но петлями – брови, но весь не простой.
6
Вопреки алебастру, вощеному полу,
Портьерных материй ненужным кускам,
Вопреки даже холоду, он сидел полуголый,
Отдыхая, как снег, под которым река.
Для него ль кресла с министерской спинкой?
У паркетного треска предательский ритм.
Разве дом это? Комнат тяжелых волынка,
Вражья ветошь, по ордеру взятая им.
Шелуха от картофеля с чаем копорским,
Плюс паек, плюс селедок сухой анекдот,
А над городом, в пику блокадам заморским,
Стопроцентное солнце весенних ворот.
Точно школьником – книги оставлены в парте,
Дезертиром – заботы в мозгу сожжены,
Он свободен, как вечность, от программ и от партий,
И в руках его – плечи спокойной жены.
Это то, когда место и вещи забыты,
Когда ребра поют, набегая на хруст,
Духоты потрясает все жилы избыток
И, пройдя испытанье, сияет осколками чувств.
Только губы застигнуты в высшем смятенье,
Только грудь расходилась сама не своя,—
Революции нет – только мускулов тени,
Наливаясь, скользят по любимым краям.
Отзвенело морей кровеносных качанье,
Рот и глаз очертаний обычных достиг,
По иссохшим губам, как неведомый странник,
Удивляясь жаре, спотыкался язык.
Шелуха от картофеля с чаем копорским,
Плюс паек – снова быт возвращен,
Снова встреча с врагом, и своим и заморским,
Шорох чуждого дома, не добитый еще.
И струею воды, до смешного короткой,
Так что кажется кран скуповатым ключом,
Он смывает костер. И по клочьям работа
Собирается в памяти. Мир заключен.
7
Не проблеск молнии,
Пробравшийся в шкапы, в лари,
Оно безмолвней,
Чем земля, горит,
Оно приходит смертью к вам на ужин
Или мигает сумеречно даже,
Оно – оружье,
Взятое у граждан.
Оно как образцовый Оружейника пир —
От маузеров новых До старых рапир.
Чтоб пыл боевой не остыл,
Сменяет хозяев оружье…
«Самсоньевский, ты
Смотри сюда поглубже…»
– «Не жалко ль тебе, эх, военком,
Ходить вокруг фонаря?
Сколько людей – раздели силком…»
– «Ну что ж – раздели не зря…»
– «Не страшно ль тебе, что со всех сторон
Не жизнь, а щетина ежа,
Одно оружье мы с поля вон —
Другого готов урожай».
– «Самсоньевский, ты ли
Нас предлагаешь потчевать
Елеем соглашателей,
Да разве мы остыли,
Да разве мы приятели
С господчиками?
Слова твои путают наши ряды,
Не изгибайся, брат батальонный…»
– «Но, Раков: я классовой полон вражды,
Что и красные эти знамена…
Им верен, как дому на родине – аист,
Скажи: распластайся – и я распластаюсь.
Но маузер взбросишь – богат заряд, —
Дашь по чужому, а валится брат?»
Оружьем комната завалена,
Закатной налита бурдой,
Они стоят, как два татарина,
Их мысли движутся ордой.
Отполированная сталь,
Она клокочет переливами,
Она имеет сходство с гривами,
И голос звонкий, как кастрат.
«Нет, ты с предателем не схож,
Самсоньевский, резок ты.
Ты – наш, я верю. Подхалимство ж
Я буду гнать до хрипоты.
Я сам в трактирах горе грыз,
Я был не блюдолиз —
Лакейства два: как ни рядись,
Одно – наверх, другое – вниз.
Одни держали на людей
Экзамен дорогой,
Зато уже никто нигде
Их не согнет дугой…
Другим понравилось житье
И сладость попрошаек,
Носить хозяйское тряпье
И хлопать в такт ушами…
Я пережил Думы
Имперский трактир,
Где больше болтали, чем пили,—
Солдатский, угрюмый,
Где смерть взаперти,
Пожалуй, лишь смерть в изобилье.
И я говорю тебе сущий резон:
Страшись притворяться лакейской слезой.
Гвардейская спесь на дыбы встает
В тебе и кричит тебе: „Здравствуй!“
Но если в рабочий ты вшит переплет —
Гордись переплетом – и баста!»
8
Тогда бывал незамечаем
Иных случайностей размер,
Случаен дом, где булки с чаем,
Случаен театр, а в нем – Мольер.
С толпой рабочей грея руки
Хлопками, гулко, – Раков с гор
Войны вошел в партер, в простор,
Он ощущал закланье скуки,
Он веселел, как сам актер.
Могло казаться даже страшным,
Что люди чтят переполох
Чужой, смешной, почти домашний,
А за стеной – борьба эпох.
9
Ночь гордилась луной, очень крупной,
Залихватской и шалой,
Зеленые листья кипели на струпьях
Домов обветшалых.
Трава шелестела, и шел человек не старинный,
Как будто он шел огородом,
Не городом – пахло тополем, тмином,
Пахло бродом,
Человек не мог заблудиться —
Он пришел из хитрейших подполий,
Город вымер и вправе обернуться лисицей
Или полем.
Раков шел огородом, не городом… Тучи
Кирпича, балконов умерших вымя,
Мог ли думать, что это воскреснет, получит
Его имя?
10
Эстонцы кривились, ругаясь с генералами,
Британцы шипели, требуя атак,
Нацелили белые мало-помалу,
Ударив через Вруду, на Гатчину кулак.
Тогда пришло в движенье пространство
за пространством,
От штабных неурядиц, от транспортных баз,
От крика беженцев до темного убранства
Лесов, уже весенних и гулких, как лабаз.
Фабричными гнездами, жерлами Кронштадта
Пространство завладело, угрозами звеня,
Вздувало коллективы и требовало плату:
«Резервы немедленно на линию огня!»
11
Оратор, не колеблясь, дышал прямотой,
Был выше кучи трагиков в волнении простом,
У служащих Нарпита короткий свой постой
Он делал историческим, не думая о том.
Над грудой передников, тарелок, бачков,
Над всем мелководьем, кусочками, щами,
Он видел: здесь мало таких дурачков,
Что шепчут и грустно поводят плечами.
Он видел, что слабость, голодная грусть
Исчезли, как лошадь, сраженная сапом,
Что стены прозрачны, собрания пульс
До Гатчины слышен – кончается залпом.
Он вспомнил, как был председателем их,
Союза трактирного промысла слуг,
Они были втоптаны в тину густых,
Безвыходных дней и разрух.
Их рвала свирепого быта картечь,
И вот они – свежи, как свечи,
Как будто им головы сброшены с плеч
И новые – ввинчены в плечи.
Волненье мешало, как ноющий зуб,
Как ссора иль спор из-за денег,
Есть в пафосе пункт, где пускают слезу
Актер, адвокат, священник.
Сейчас этот пункт пролетел стороной,
Толпа, что с плакатами щит,
Гудела – но Раков заметил одно:
«Самсоньевский здесь и молчит».
12
Доверье – не пышное слово
(И грустное «е» на хвосте),
С ним женщина ляжет к любому,
Прельстившему сердце, в постель.
Им можно испытывать дружбу,
Им можно растапливать печь,
И Раков, честнейший к тому же,
Доверьем не мог пренебречь.
Самсоньевский – скверненький зверь он.
Доверье! Весь полк запылен
Тревожною пылью! Доверье!
Пусть слухи идут на рожон.
Кто ждет их, должно быть, и глуп же.
Доверье чужим и родным!
Ну что же – Раков, и Купше,
И все подписались под ним.
13
Где подразумеваются развернутые взводы
Противника – разведкой не щупаны почти,—
Там самая ручная, знакомая природа
Омыта беспокойством, и мимо не пройти.
Лес мажется издевкой, поляны воспалены,
Болото смотрит гибелью, домашность потеряв,
Ползешь меж дружелюбных, хороших трав по склону,
А следующий склон – враждебных полон трав.
14
Длится поход бесконечный день,
Люди отупели, усталость под ребром.
…Философоподобные лбы лошадей,
Ба! санитарной двуколки гром.
Раненый кажется сплошь холмистым
От вздыбленной шинели, похожей на тьму,—
Раков узнает того телефониста,
Ночного сочинителя, не нужного ему.
Он существует пожухлой обезьяной,
Курит самокрутку, орет по сторонам,
Видно, несмотря на тряску и на рану,
Душа его весельем полным-полна.
Раков себя ловит на том, что не жалость,
А только досада сквозит, как решето:
«Он и про меня еще сочинит, пожалуй,
Его неугомонности хватит и на то!»
15
Как толстые суслики, вниз головой
Идут сапоги, наедаясь взасос
И мокрым песком, и шершавой травой,
И каменной кашей приречных полос.
Но люди унылы – без предисловий
Землисты и тяжки, и видно любому —
Вот так же шагали в Митаву и в Ковель,
Они не умеют шагать по-другому.
И вспомнились финские стаи волчат
И красноармейцев ударные взводы,
Они воевали, как струны, – бренча,
Шагали, как сосны особой породы.
Теперь он глядит из-под хмурых бровей,
И вот не хватает чего-то на свете —
Неужели молодость воли своей
Оставил он в финском лесу, не заметив?
16
Двадцать восьмого мая
Вошла деревня Выра,
Как вестница немая,
В глаза куриным выводком
Безмолвствующих изб.
Синея, встали долы,
Ручей, пески дробивший,
Лесов сплошная тушь,
И в уши хлынул голос,
Когда-то говоривший:
«Вы Ра-ков? Что за чушь!»
В разбросе окон дробных,
Овинов, лип, людей,
В колодезных цепях,
В тишине загробной
Сушившихся бадей —
Не чуялось худого,
А белый вечер белым был
Лишь по природе слова.
Тут, котелком мелькая,
Солдатский ожил улей,
Получше да поглубже
Избу отвоевать.
Пусть завтра – хоть сраженье,
Зачем же грусть такая,
Мгновенная, как пуля?
«Самсоньевский, Купше,
Отдай распоряженье —
Здесь будем ночевать».
17
Ночь как ночь, замела даже имя
Той разведки, где, как по разверстке,
Леса и поля рисовались такими,
Какими они на двухверстке.
Ну просто броди и броди по кустам,
Но, прогнана сквозь новоселье,
В последнюю комнату мысль заперта,
Как пробка, притерта к аптечному зелью.
Уже человек неотчетлив, как столб,
Разъеден, приближен, что радуга к бездне,
Нельзя же так мучить! Бросайте на стол
И режьте, но дайте названье болезни.
Не ночь, а экзамен на фельдшера, мел
Крошится, доска неопрятна, лица убоги,
Солдаты, как цифры, дробятся в уме…
Разведка вернулась к обычной дороге.
Раков, меж пальцев крутя лепесток
Замятый, крутя с непонятной заботой,
Советовал фланг отнести на восток,
За Оредеж к Лампову, вкось от болота.
Советовал верить, но тот комсостав,
Что за музеем шел в мути тревожной,
Казался теперь паутиной в кустах,
Которую снять, не порвав, невозможно.
Машина спешила на Выру – домой,
Он, фельдшером, знал вот такое томленье,
Его не возьмешь никакой сулемой,
Оно не в родстве ни с одною мигренью.
Заснувшая Выра, условный свисток,
Изба, простокваши нежданная нежность —
Замытый, закатанный вдрызг лепесток,
Прилипший к шинели, клялся в неизбежном.
18
Вот комиссары в штаб идут
Налево, а направо
Выходит запевала смут —
Самсоньевский с оравой.
Ночь как ночь, замела даже имя
Той разведки, глухой, как силок,
Командиры с плечами крутыми
По-гвардейски садятся в седло.
Вот их кони, как лани,
Ступают в дубравах ползущих,
Вот их жизнь, как ольшаник,
Становится гуще…
За деревней – леса. На пустом расстоянье —
Часовые с кокардой зовущей.
Как пейзаж лес не нужен совсем,
Люди сумрачны слишком,
Ночь их варит под крышкой
Стопудовых котлов, но Самсоньевский нем.
Спотыкаясь о корни,
Кони яму обходят правей,
Но Самсоньевский просто зловещ,
Загляделся на повод, как навязчивый шорник,
За копейку купивший непродажную вещь.
Если б лес этот встал, завопив,
И лесничих сожрал, как корова грибы,
На порубщиках их же топор иступив,
И охотников сжег ворохами крапивы —
Всё равно – не уйти от судьбы!
В большевистской вселенной
Он поденщика ниже,
Он сплеча ненавидит низы —
Он, как торф, догорел до измены,
Он, как пень, оголен, как ветви, обижен
Превосходным презреньем грозы.
Деловито, что хуторяне,
Морды коней набок кривя,
Всадники жмутся – дым совещанья
Заворачивается на поляне,
С куревом вместе – тает в ветвях.
Жизнь загустела, вздыбилась горкой,
Лесом покрылась для игрищ ночных,
Вот он – азарт! Но с такой оговоркой,
Что каторжанин счастливее их.
…Рысью меж деревьев – травы веерами,
Белой ночи в небе колеи,
Рокот затворов – погоны с номерами,
Голос через гриву: «Смирно! Свои!»
19
Сон переживал последнюю историю —
Предутреннюю вялость, недоступную перу,
Когда неожиданно, как смерть на плоскогорье,
По ставням забегали десятки рук.
Красноармейцы путались в подсумках,
Бились в шинелях, рукавов не находя,
«Белые в деревне!» – звенело, как по рюмкам,
По стеклам, иголками в головах бродя.
Батальона не было – вылезали тени,
Тени страшились того, что впереди,
Хриплого значенья стреноженных волненьем
Слов командирских: «Сдавайся! Выходи!»
Какой рябиной в будущем Подарит осень или
Какие облака – не кровь ли с молоком?
Вопросы тишины упали грудой щеп —
Забор оброс тоской, как подворотной пылью.
Кто не нашел сапог, сдавался босиком.
Самсоньевский, нежась в золоте погон,
Красным билетом махая, нарочно
Рвал его на части, плюя на картон,
Ничем не повинный, но гордый и в кусочках.
Выра обернулась берлогой, оврагом,
Где путник попадает на волчий бал.
Падает Калинин, Купше – с отвагой,
Падает Таврин, пробитый как бумага,
И враг его слетает, что камень, – наповал.
Воскреснув, врывается само янычарство,
Стирающее расу, привычки, лоск – насквозь,
Швыряют людей, их режут, как пространство,
В них шпарят, как в доску, и в мясо, и в кость.
И тут же целуются, тут же скулы
Подернуты дрожью у пленных, как у дев.
Артачатся лошади, и тащится сутулый
Царский семеновский марш, обалдев.
…К штабу запылили балахоны,
Криками набухла кутерьма —
Это смерть, махнув на все препоны,
Приближалась, прячась за дома.
20
Что ж истины доверья?
Их смерть всегда мгновенна.
Осталось хлопнуть дверью
И выйти на арену.
Схватить за горло, вклинить в мех
Золотовражий пальцы,
Остаться у друзей в уме
В порядке регистрации.
И завещать – что завещать?
Когда никто не смел прощать,
Любая мстящая праща
Не уставала верещать —
И голова желтком во щах Купалась…
Что здесь завещать?
21
Ракову даже не нужно было
Последнего слова – дулом водя,
Шаркал пулемет, как танцор, – относило
Шарканье каплями тончайшего дождя.
Что еще заметить напоследок,
Кроме гильз стучащих, кроме
Бревен потолочных, кроме объедков
Хлеба на растерзанной соломе?
В мире не осталось сожаленья —
Шквал огня по дому одному —
То не просто злость, а исступленье,
Выход в допотопнейшую тьму,
То не поединок – преступленье,
Шквал огня по дому одному.
Хоть бы кто – лишь хобот пулемета,
Хоть бы слово – вражья трескотня,
Хоть бы знак – хоть тряпка на воротах,
Голос друга – шквал и западня.
Так с курьерского прыгнувший наземь
Видит, летя сквозь кустарный лом, —
Точно медалями, точно призами —
Насыпь, усеянную щебнем и стеклом.
Насыпь, холодную, как спина,
Боль полосует, в ребрах натужась,
Это не отчаянье и даже не ужас —
Это готовность лететь до дна.
Сердце заплывает в удар еще,
Время иссякло – люди ни при чем,—
Только беспорядочная глина в товарищах,
Только репейник случайный на плечо.
22
Оно отмирало, сиянье полночное,
Как выхухоль зыбкая, прячась,
Когда в моховине, по зыбкости кочек,
Ступая в грязи наудачу,
Брели одиночки, хлебнувшие горя,
Красноармейцы предательских рот,
С гиблым лицом, как подмоченный порох,
Они изучали фарватер болот,
Они, превращенные случаем в сброд,
Бежали от белых, а было их сорок…
УЛИЦА ИМЕНИ РАКОВА
Дома, стоящие служебно,
Углы с коммерческой весной,
Из них восходит запах хлебный
И солнца сытости иной.
Доски прибитой не касаясь,
Судьбы, висящей наяву,
Проходит жизнь внизу, как зависть,
Как бык – на свежую траву.
Тьма пешеходов в пену канет,
Но им, во всем не знатокам —
Подобно лунному вулкану, —
Причина чести далека.
Партиец, может, вспомнит имя,
Школяр, сомненье задержав,
Заснет над строками седыми,
И есть в музеях сторожа…
Над Вырой вечность дует в перья
Легенд, на мельнице времен —
И всё же в мире есть доверье,
Да будет лозунг повторен.
Я доверяю простодушно,
Косноязычно, может быть,
Но без него мне было б душно,
Как душно жить всю жизнь рябым.
Слова ж горят из всех отдушин,
Ты слышишь плеск их, храп и хруст,
Но входит ночь – словарь потушен
И, если хочешь, входит грусть.
1927








