Стихотворения и поэмы
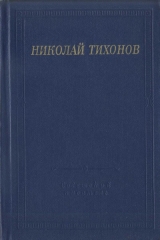
Текст книги "Стихотворения и поэмы"
Автор книги: Николай Тихонов
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 36 страниц)
В сиянье солнца гулкого,
За боевой трубой
Иду холмами Пулкова
В далекий этот бой.
Встают бойцы упорные
На утре давних дней,
Кость белая и черная
Пытают: кто сильней!
У Пулковских размашистых,
Неприбранных высот,
У подступов овражистых
В атаку полк идет.
Поет – и это пение
Всё шире и лютей,
Оно глушит шипение
Летающих смертей.
И белый полк без выстрела,
Бледнея, пятит шаг,
И рвется в поле чистое
Занывшая душа.
Но надо ж и ответ держать,
И, поборов тоску,
Идут они в штыки, дрожа…
Подходит полк к полку.
Сошлись они без выстрела,
Устлав траву собой…
Смотрю на поле чистое,
В далекий этот бой.
Вы, милые товарищи,
Вас бил далекий град,
Вы – те, что дрались давеча
За Красный Петроград.
Вы с честью били ворога
Разбойных всех племен,
Нам ваше имя дорого,
Ваш подвиг – с нами он!
В сиянье солнца гулкого
Он с нами навсегда,
Над славной высью Пулкова
Летит, горя, звезда.
То, крылья величавые
Приветно закачав,
Летит над нашей славою
Питомец новых слав!
1939
Большие годы, дальние
Запали нам в умы,
Как бились в Красной Армии
В Одиннадцатой мы.
Дробили вражьи полчища,
Летевшие на нас,
Храня твои урочища,
Твои края, Кавказ.
Пришло нам время лютое,
Повсюду враг залег,
Раздетые, разутые,
Ушли мы на восток.
Патроны все расстреляны,
Все кончились корма,
Ударила метелями
Калмыцкая зима.
Рука лежит на поводе
Синее топора,
Мы шли в тифу и в голоде,
Одетые в буран.
А над холмами снежными —
Замерзших груда тел,
Пустыней шли безбрежной мы,
Где ворон не летел.
Лишь волк спиной потертою,
От холода свинцов,
Блеснет да ткнется в мертвое
Шершавое лицо.
И на того на волка мы
Смотрели, как в бреду,
И каждый думал: «Долго ли…
Сейчас я упаду».
Упавших не считали мы,
Тоскуя без границ,
И снились нам за далями
Сады родных станиц.
На Волге отдохнули мы,
Утих метели гром.
Богаты стали пулями,
Всем боевым добром.
Мы отстояли Астрахань,
Ломали белым кряж,
Водил нас в битвы частые
Любимый Киров наш.
Мы дрались под Царицыном,
И – пленным – в эти дни
Смотрели прямо в лица им,
Угрюмей, чем они.
Смотрели в их по-кроличьи
Безумные глаза,
От ярости и горечи
Ни слова не сказав.
В ночь, звездами сожженную,
И сон нам не покой,
Всё снились наши жены нам
Над Тереком-рекой.
Уж тополя по зорькам там
Стоят, как бунчуки,
Лежат меж нами горькие
Пустынь солончаки.
Уже снега расцвечены,
Весна уж налицо,—
Однажды сизым вечером
Собрали всех бойцов.
* * *
Хоть сколько лет прошло с тех пор,
Я помню всё до дна:
Мы видим, вот идет комкор,
Идет сам Киров к нам.
Тесней сомкнув за рядом ряд,
Мы замерли без слов,
Глядим: глаза его горят,
А весь лицом суров.
«Товарищи, – он говорит, —
Вы помните Кавказ,
И все, кто там в степях лежит,
Не в памяти ль у вас?
Когда ударила зима
И между двух смертей
Вы шли, и даже смерть сама
Вас не была лютей.
Вас тиф валил и голод грыз,
Бурана волчий вой,
Свистел мороза синий свист
Над вашей головой.
И вы ушли от милых мест,
Покинув дом в ночи,
Там белых сабель блещет плеск,
Там бродят палачи».
Стояли мы как онемев,
Глядя по сторонам,
И только месть, и только гнев
Стучали в ребра нам.
«Молчат проклятые пески,
Где кости сложены,
Я знаю силу той тоски,
Которой вы полны.
Мы здесь сразили всех врагов,
И завтра – грозным днем —
От Волги вольных берегов
Мы к Тереку шагнем».
Стояли мы похолодев
И не сводя очей,
Но каждый вдруг помолодел
От кировских речей.
«Станицы ждут, аулы ждут,
Нас вольный ждет Кавказ».
Его слова нам сердце жгут,
Кипит душа у нас.
«Не так дорога далека,
Там кончим мы войну,
Обнимет горец казака,
И встретит муж жену».
Была весна, и степь цвела,
Хрустела соль в песках,
И тень орлиного крыла
Лежала на войсках.
Мы били белых, как гроза,
На Тереке седом,
Мы не смотрели им в глаза,
Подернутые льдом.
Мы гнали белых за Кизляр,
И пленникам своим —
Мы не глядели им в глаза —
На что веселье им?
Мы всю развеяли тоску
В садах родной земли,
И утром огненным в Баку
Мы с Кировым вошли.
Давно то было, но хочу
До старости сберечь
Неизменяемо ничуть
Тот путь, ту ночь, ту речь.
1937
От пен океанского вала
До старых утесов Кремля
Такой молодежи не знала
Видавшая виды земля.
Стучит ли топор дровосека
В глуши затаймырских болот,
Подводный ли строится флот,
Где сложные тайны отсека
И грозных машин обиход,
Плывет ли в Гренландию лед,
Где знамя советского века
Над полюсной льдиной встает, —
От книжных страниц до раскрытых
Пустынь стратосферных высот
Кипит этой силы избыток,
Идет комсомольский поход.
От пен океанского вала
До старых утесов Кремля
Такой молодежи не знала
Видавшая виды земля.
Под гулкий азарт стадионов,
Где мускулы бронзой полны,
Под грохот товарных вагонов,
Везущих богатства страны,
В морях ли, во льдах и туманах,
У горнов, где блещет литье,
В путях ли, которым Стаханов
Дал строгое имя свое,
Под гул самолетных моторов,
В колхозах, где рожь высока, —
Остры их горячие взоры,
Крепка молодая рука.
От пен океанского вала
До старых утесов Кремля
Такой молодежи не знала
Видавшая виды земля.
Идут, отшвырнув белоручек,
В тайгу, где лишь дебри рычат.
Там жизнь их суровая учит,
Где волки учили волчат.
В мученье трудов неприметных,
В закалке их яростных воль
Встает из тайги беспросветной,
Как юный рассвет, – Комсомольск,
И смотрят отцов их громады
На мир, что действительно нов,
И сердце отцовское радо
Такому упорству сынов.
От пен океанского вала
До старых утесов Кремля
Такой молодежи не знала
Видавшая виды земля.
Бандитский ли залп перекатом
Пройдет пограничной грядой —
На смену упавшему брату
Встает его брат молодой.
На сопках таких Заозерных,
Где желтый налетчик залег,
Где, флаг его сбросив узорный
В разбойничьей крови поток,
Сметая налетчика силу,
Промчался наш огненный шквал, —
Там над самурайской могилой
И штык комсомольский сверкал.
От пен океанского вала
До старых утесов Кремля
Такой молодежи не знала
Видавшая виды земля.
Далеко идут по вселенной
Круги нескончаемых битв,
Но слава о нас неизменно
Над ветхой землею гремит.
И племя растет молодое —
Могучего леса побег,
И солнце глядит золотое
На листьев зеленых разбег.
И в шуме той рощи веселой
Пророчество будущих лет:
Свободной земли новоселы
Идут во Всемирный Совет.
От пен океанского вала
До старых утесов Кремля
Такой молодежи не знала
Видавшая виды земля.
1938
Я так жалею, что я не был
В том сентябре в балканских далях,
Когда твои земля и небо,
Сестра Болгария, восстали!
Когда волна освобожденья
Сердца людские расковала,
Сентябрь, как май, дышал твореньем
Весны, доселе небывалой.
И годы черные казались
Обвалом, рухнувшим в глубины,
И вновь на Шипке повстречались
Болгаро-русские дружины!
Но уже новою весною
Болгарских братьев обнимал я,
Краса Софии предо мною
Всем блеском мартовским сияла.
Хотя и шли еще солдаты
На фронт, в холмы за Балатоном,
Но миру люди были рады,
Полям без выстрела и стона.
Я слышал вольных песен голос,
Долины пели и поляны,
Где Вела Пеева боролась,
Сражалась милая Лиляна.
И братства верною основой
Остались в сердце дни такие,
Летело слово Димитрова
Над пробужденною Софией.
И вот прошли года… Былое
Глядит героев павших ликом,
А настоящее – с тобою,
В размахе чудном и великом.
Сестра Болгария! Всё краше
Страна – любовь златая наша,
Пускай довольства полной чашей
Твой будет новый день украшен!
Я мысленно пройду от края
Тебя до края, от Дуная —
Все горы, к морю, где играет
Волна зеленая, родная.
И, как волна, пусть пенит радость
Все города, поля, высоты,
Сестер и братьев, зрелость, младость —
Годов трудолюбивых соты!
<1959>
Не может сердце позабыть былого,
Хотя оно уж за годов горой,
Я вспоминаю – и волнуюсь снова —
Далекий ныне год сорок второй.
Над обгорелой рощей легкой тенью
Весь голубой июньский день летел.
На линии резервных укреплений
Один участок генерал смотрел.
Смотрел окопы, блиндажи и доты,
Всю маскировку, лазы и ходы,
Всё было крепкой, мастерской работы.
Он вдруг увидел девушек ряды.
И в строгие он всматривался лица,
Как будто видел первый раз таких,
Каким не только надо удивиться,
А унести в солдатском сердце их.
«Скажите мне, что здесь работы вашей?» —
Спросил он.
– «Всё, товарищ генерал!»
– «Как, эти доты строили вы даже?
А кто ж их так хитро маскировал?»
«Мы все!..»
– «А кто вам проволоку ставил?
А кто же вам окопы одевал
Так чисто, что и щепки не оставил?»
– «Всё мы одни, товарищ генерал!»
И генерал пошевелил бровями:
«Но мины ж вы поставить не могли?»
– «Саперами мы тоже были сами,
Всю связь мы тоже сами провели…»
– «Немалый путь, я вижу, вы прошли!..»
И взгляд его скользнул по лицам острым,
По их суровой, девичьей красе:
«А что вы все похожи, словно сестры?»
– «Мы сестры все, мы комсомолки все!
Мы ленинградки!..»
В солнечные дали,
За Пулковский, в боях разбитый вал,
Невольно тут взглянул поверх развалин,
Чтоб скрыть волненье, старый генерал…
Когда теперь мы слышим отовсюду
Про молодости подвиг трудовой —
На целине, на стройках, равных чуду,
Сиянью зорь над юной головой,
Я знаю, что ничто не остановит
Бесстрашных тех, упорных юных тех,
Пусть грозы все гремят степною новью,
Шторма встают штормов превыше всех,
Пусть колет вихрь мильонами иголок
И валит с ног на предполярном льду…
Я вспоминаю этих комсомолок
Под Пулковом в сорок втором году.
1958
Поля, холмы, лощины темно-синие,
И перелески легкою волной,
Но через всё – невидимая линия,
Неслышная идет передо мной.
От Ладоги вы всю ее пройдете,
Она к заливу прямо приведет,
На старой карте вы ее найдете,
С пометкой грозной – сорок первый год.
Та линия еще сегодня дышит,
Она по сердцу вашему идет,
Она листву вот этих рощ колышет
И в новый дом подчеркивает вход.
Возможно, поколеньям близким
Не так, как будущим, она видна,
Хоть кое-где гранитным обелиском
И надписью отмечена она.
Но кажется, она еще дымится
И молнии пронизывают мрак,
На ней – на этой огненной границе —
Отброшен был и остановлен враг.
Заговорила роща на откосе,
Прислушайся, о чем шумит она,
Как будто ветер, набежав, приносит
Бесчисленных героев имена!
<1964>
Есть такое в ленинградцах,
И чему они верны,
В чем – никак не разобраться
Никому со стороны.
Не в удаче, не в богатстве,
Не в упрямстве даже суть —
А в особом нашем братстве
Над Невой, не где-нибудь!
И в бою и в непогоду,
Среди самых злых забот —
Ленинградская порода
Никогда не пропадет!
1964
ВРЕМЕНА И ДОРОГИ
Дома здесь двадцать лет назад
В огне и грохоте кипели,
И шли бойцы сквозь этот ад
Неотразимо – к высшей цели.
И вдруг над яростью атак,
Последним исступленным бредом —
Не красный над рейхстагом флаг,
А солнце красное Победы!
Здесь был окончен долгий путь,
Сюда пришли мы за расплатой —
И Гитлер не посмел взглянуть
В лицо советскому солдату…
…И вновь покой на тихих лицах,
Берлин встречать весну готов,
Не пепел – теплый дождь струится
На цвет сияющих садов.
О мире люди говорят,
Горит воспоминаний пламя,
Пусть злобные глаза следят
Из ночи западной за нами.
И пусть в двадцатую весну
Народы слышат наше слово:
«Здесь, где добили мы войну,
Мы не дадим родиться новой!»
1965
1967–1969
Бывает, в летний вечер красный
Иль в вечер с синим льдом
Вдруг с теплотой огней всевластных
Лучи ворвутся в дом,
К вещам обычным прикасаясь
Неслышно и светло,
Как будто передать стараясь
Последнее тепло —
То книге, ярко освещенной,
То шхуне костяной
Или фигурке полусонной,
Что вспыхнет белизной.
Живые токи света бродят,
Наш ослепляя взор,—
Как будто через жизнь проходит
Тот солнечный дозор.
С таким возвышенным стараньем,
С неведомых сторон,
Всё, что зовем воспоминаньем,
Вдруг освещает он —
И то, что было злым и ломким
Или сродни громам,
Души косматые потемки
И темный лес ума.
Но то, чем в прошлом сердце жило,
Ключей всех горячей,
Встает пред нами с новой силой,
Струясь в огне лучей.
Пока они блестящим дымом
Текут, как сон за сном,
Тем, что уже неповторимо,
Мы заново живем!
1969
Эта ночь была не проста,
В ней родился победы клич!
Броневик у вокзала встал —
И с него говорил Ильич.
И казалось ему самому —
Броневик лишь сигнала ждет,
Будто сам подставил ему
Броневое плечо народ.
Черной ночью, от искр рябой,
Изменился города лик,
Человеческий шел прибой,
Унося с собой броневик.
В море лет тот прибой не стих,
До сих пор он в сердцах звучит.
Жив и отблеск волн огневых,
Броневик в апрельской ночи.
А теперь он стоит суров,
Как исполнивший долг боец,
И не нужно высоких слов,
И не нужен красок багрец.
Пусть на нем играет заря
Молчаливо и горячо,
Только шапку сними, смотря
На его седое плечо!
<1967>
Июль девятнадцатый, год двадцатый,
Дворцовая площадь, по ней идет
Всех цветов кожи, замысловатый,
Интернациональный народ.
То делегаты Второго конгресса
Идут и глядят на громаду дворца,
Точно лишенную силы и веса,
Как этот ангел, что смотрит с отвеса
На равнодушную плоскость торца.
Всё удивительно здесь делегатам:
Древней квадриги над аркой полет,
Ходит рабочий по царским палатам,
Ленин по площади с ними идет.
Видит, шагая, он дальние ночи,
Тусклые светы рабочих трущоб,
Там, где кружки собирались рабочих,
Где он учил их, учился, пророчил,
Где о победе мечталось еще…
Слышит слова иноземца собрату:
«Чувствуй, товарищ! Идем не во сне,
Здесь дело сделано! Точная дата.
Нам бы такую в своей бы стране…»
Да, эта площадь, дворец, эта арка
Вписаны в нового века размах,
И от дыханья истории жарко
Нынче на хладных Невы берегах.
Вижу: уверен он, тверд и спокоен,
Слышу: народ приутих, не шумит,
Только лишь чайки кричат над рекою,
Он на трибуне, и он говорит.
Он говорит человечества ради,
Ради грядущего, об Октябре,
В этот последний приезд в Петрограде
Перед дворцом, на вечерней заре!
1967
Уэллс сидел, смущение осилив,
Мудрец, посол от Запада всего, —
Глаза прищурив, перед ним Россия
Заговорила, выслушав его.
Тьма за окном грознее всё и гуще,
А собеседник говорил о том,
Как жизнь народа расцветет в грядущем,
Наполненная светом и теплом.
Как будто бы страны он слушал душу.
Уэллс запомнит этот день и час,
Как будто бы впервые в мире слушал
Прекрасный утопический рассказ.
Но вспомнил грязь, детей голодных руки,
Всех бедствий за углом девятый вал,
Там холод, смерть искусства и науки,
Безграмотные нищие, развал…
«Как справитесь вы с вашим отставаньем
Во мгле слепой, никак я не пойму…» —
Российским фантастическим мечтаньем
Весь разговор представился ему.
Простился, шел, пожав плечами, к двери,
Иронии во взгляде не тая,
И мозг фантаста отказался верить
Простому реализму бытия.
Он снова в мире, где тепло и чисто,
Где и шутя не могут намекнуть,
Что именно в России этой мглистой
Нашли рычаг – жизнь мира повернуть.
Что именно в России – так уж вышло,
Превыше всех больших и малых правд,
Что именно отсюда к звездам вышним
Взлетит победно первый космонавт.
1967
Жизнь ваша стала книгою,
Которой дивится свет,
Вы начали путь под Ригою
В годину народных бед.
Встала над звездами низкими
Армии Красной звезда,
Вас называли латышскими
Чудо-стрелками тогда.
В мире отныне вольном,
В мире больших тревог
Кремль охранял и Смольный
Латышских полков стрелок.
Шли вы с отвагой недюжинной,
В битвах победу беря,
Вас называли заслуженно
Гвардией Октября.
Вы проходили над безднами,
Мало осталось в живых,
Вас называли железными,
Были такими вы!
Шли вы восстаний дымами,
И, не щадя головы,
Были непобедимыми,
Были верными вы!
Мир запомнил огромные,
Точно времен радар,
Ваши удары под Кромами,
На Перекоп – удар!
Всех и не счесть сражений,
Всех и дорог не счесть,
Пример для всех поколений —
Ваши гордость и честь!
Так оно было, братья!
А кончился ваш поход
В освобожденной Латвии —
Сорок четвертый год!
Ныне – салют над Ригою,
В вихре ракет – Москва,
Дела ваши стали книгою,
Что будет вечно жива!
1967
В Смольном комната есть небольшая,
Ее знает вся наша страна.
Глыбы времени в прах сокрушая,
Всё такая ж, как прежде, она.
И всё кажется в этом молчанье,
А оно неподвластно перу,
Что в нее он с ночных совещаний,
Как всегда, возвратится к утру.
Мы увидим всей памятью сердца,
Что сейчас лишь о нем говорит:
Он к окну подойдет, чтоб вглядеться
В нарастающий пламень зари.
Точно всё, что свершится на свете,
Всё, что будет с родною страной,
Он увидит на зимнем рассвете
В это синее с хмурью окно.
Пусть другим ничего не известно,
Ему видеть далёко дано…
Мы стоим в этой комнате тесной
И в волшебное смотрим окно,
Пораженные видом мгновенным,
Ощущая времен перелом,
Точно темные судьбы Вселенной
Вдруг столпились за этим стеклом.
1967 или 1968
Рафик Ахмад пришел на площадь Красную
И точно сон увидел наяву —
Почти полвека прожил не напрасно он,
Мечта сбылась – он прилетел в Москву.
Почти полвека он в столице не был,
А кажется, что лет прошло уж сто,
Из старого осталось только небо,
Да и оно какое-то не то.
И в нем, как верхолазы – вертолеты,
Разросся город – нет конца ему,
И вспомнил он далеких дней заботы
И в Пешаваре старую тюрьму.
В кровь сбитые свои увидел ноги,
Снег перевалов, каменную глушь,
Смертельный мрак басмаческой берлоги,
Разбойничьих, как ночи черных, душ…
«Из Индии в Москву идешь, изменник!» —
Убили бы… Но красные клинки
Его спасли. Освобожденный пленник
Пришел в Москву, жил у Москвы-реки.
Здесь сердце билось гулко, по-иному,
Здесь ленинские слышал он слова.
…И через горы вновь дорога к дому,
И вновь тюрьма и нищий Пешавар.
Всё позади… Над ним закат пылает,
И Красною он площадью идет.
Пред ним склонились нынче Гималаи,
Его увидя сказочный полет.
Московских зданий розовеют глыбы,
Сады осенним пламенем горят.
«Тебе, Москва, тебе, Москва, спасибо! —
Так старый говорит Рафик Ахмад. —
Когда-то шел я тропами глухими,
Сегодня вижу я побед зарю,
И славлю я твое большое имя, —
Спасибо, Ленин, трижды повторю!
Я шел в Москву кровавыми ногами —
Сейчас летел быстрее света дня,
Ты сделал так, что лет крылатых пламя
Крылатым также сделало меня.
Сегодня знают люди всей вселенной,
Что человек и должен быть крылат!» —
На этой Красной площади священной
Так старый говорит Рафик Ахмад!
1967
(Рассказ машиниста)
Это рассказывал Ялава Гуго:
«Разные были в борьбе пути,
Должен я был неизвестного друга
Через границу перевезти.
Ну, а реакция просто звереет,
Не обойдешь ее стороной,
Всё в революции силу имеет,
Даже вот поезд дачный ночной.
Был он под номером семьдесят первым.
Август. Темно. В вагонах огни.
У полицейских – крепкие нервы,
Ну а у нас – покрепче они.
Так в темноте подходим к Удельной,
Глянул из будки – тишь и покой.
Вижу: спешит походкою дельной
Среднего роста, плечистый такой…
И к паровозу. За поручни сразу,
Ловко поднялся, уж в будке стоит,
Смотрит в упор прищуренным глазом,
В кепке и в тройке – рабочий на вид.
Бритый. И сразу пальто в сторонку…
Грохот стоит – не слыхать слова.
Лазает в тендер, гремит заслонкой,
В топку подбрасывает дрова.
Трудно ему от шума, от жара,
Трески такие, как при пальбе.
Вот же какого, смеюсь, кочегара,
Ялава Гуго, послали тебе.
Но тут же я задумался остро,
Самой тревоги пришла пора.
Скоро граница, Белоостров.
Там полицейские, там юнкера.
Вот и конец уже перегона,
Все фонари вокруг зажжены,
Заперты наглухо все вагоны,
Входы и выходы окружены.
В шуме и крике блестит оружье.
Я говорю себе: „Погоди,
Ялава Гуго, ты ведь не хуже
И хитрецов не таких проводил“.
Вот уж они к паровозу, а я-то
Сразу тут свой паровоз отцепил,
Обдал их паром, ищеек проклятых,
Сколько хватило котельных сил.
И у колонки водонапорной
Я проторчал до отправки, пыхтя.
Третий звонок – прицепился проворно,
Свистнул – и снова уж рельсы летят.
Кажется, можно ехать без спешки,
Мой же помощник не хочет устать,
С хитрой усмешкой бросает полешки,
До Териок уж рукою подать.
А в Териоках дружка стороною
Тихо спросил я, в плечо постучав:
„Верно ли, был это Ленин со мною?“
– „Верно“, – мне шепотом друг отвечал.
Ленин простился, махал мне рукою.
Дальше, на Выборг, состав мой пошел…
Позже, в Кремле, мы встречались порою,
Смеялись, как ехали хорошо В ту ночь…»
1969
Хочешь, зови это северной сагой,
Эпосом, песней, гимном зови, —
Элламы с острова жили отвагой,
Зовом великой любви!
Их было пятеро – братьев трое,
Двое сестер, – заводилой была
Старшая, та, что ночною порою
По хуторам на восстанье звала.
Кто же Мари не знал у повстанцев,
Черного ее жеребца?
Тут не до песни и не до танцев,
В битве сражалась она до конца!
Эллам Антон – непримиримый,
В Таллине пал он в двадцать втором.
На хуторе Ааду, врагами гонимый,
Ушел Александр в огонь и гром.
Ксения Эллам – инструктор райкома,
Билась с фашистами с глазу на глаз,
Смерть она встретила в Таллине, дома,
Там, где боролся рабочий класс.
Иохан Эллам – последний из братьев,
В народ его имя легенды несут,
Смерть принимает его в объятья —
В схватке бесстрашной в родном лесу.
Чайки кричат, как строки поэмы,
На строгом, скалистом берегу:
«Элламы с острова Сарема —
Они никогда не сдаются врагу!»
Хочешь, зови это красной сагой,
Северным эпосом, песней зови,
Элламы с острова жили отвагой
И умирали во имя великой любви!
Август 1969








