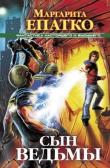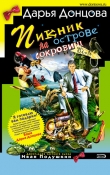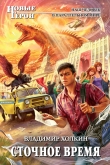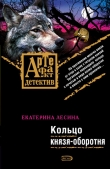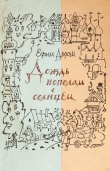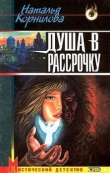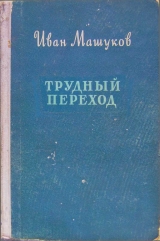
Текст книги "Трудный переход"
Автор книги: Иван Машуков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 39 страниц)
За организацию антисоветской группы суд приговорил Селивёрста и Карпа Кармановых к тюремному заключению с последующей высылкой без права возвращения в свои края, Луку Ивановича Карманова – к трём годам, но срок заключения, за старостью обвиняемого, суд решил считать условным. В конце приговора суд вынес частное определение о розыске Волкова Геннадия Васильевича, двадцати двух лет.
Но Егору не по себе стало, когда судья сказал ему после чтения приговора:
– Свидетель Веретенников! Вам понятно теперь, что вы вольно или невольно способствовали укрывательству преступника? Понятно, что суд имел право привлечь вас за это к уголовной ответственности?
– Понятно, – наклонил голову Егор.
– Подумайте о своей судьбе! Разберитесь в самом себе – кто вы такой?
Григорий Сапожков сразу же поехал домой. И приговор суда, и особенно то одобрение, с которым встретили его все присутствующие в зале крестьяне, взволновали Григория. «Народ за нас, – думал он. – Никто с вами не пойдёт! – мысленно обращался он к осуждённым. – Приходит вам конец!» О Егоре Веретенникове Сапожков думал: «Ну и упрям же Тамочкин, а не дурак!» Григории считал, что Егор, отрицая виновность Генки, выгораживал только себя. Он продолжал негодовать на Веретенникова.
– Ну, доказали тебе, что Егор ни при чём? – встретила жена Григория.
Его очень обидело, что она даже не поинтересовалась главным – к чему приговорили убийц Мотылькова, – и он промолчал.
Когда мимо их избы проехал на телеге Егор, Елена бросилась к Веретенниковым.
– Отпустили? Оправдали? Невиновен! – Плача, она обняла брата.
Ударилась в слёзы и Аннушка. Обе женщины сидели на лавке и плакали. И в эту минуту они стали друг другу ближе, роднее, прежняя неприязнь к Аннушке, которую держала Елена в своём сердце, исчезла, растаяла.
XV
Двор братьев Кармановых опустел. Дом стоял с закрытыми ставнями. Лошадей и коров с кармановской усадьбы передали в комитет крестьянской общественной взаимопомощи, председателем которого после Мотылькова стал Иннокентий Плужников.
Собравшись втроём, Григорий Сапожков, Тимофей Селезнёв и Иннокентий Плужников судили, как поступить им с конфискованным скотом и лошадьми. Стоимость их следовало внести в государственную казну. А кто должен это сделать – сельсовет или комитет крестьянской общественной взаимопомощи? Если сельсовет, то можно пустить скот и лошадей в обычную распродажу, если же крестком – так сокращённо именовались комитеты крестьянской общественной взаимопомощи, – тогда стоимость лошадей и скота внести в банк из общественных сумм, а тягло и молочный скот раздать бесплатно или за небольшую плату особо нуждающимся.
В иное время Григорий с радостью бы устроил такую раздачу. Всё, что помогало вчерашним батракам и беднякам подниматься на ноги, Григорий горячо поддерживал. Но сейчас он думал о другом.
Кочкинскне партизаны коммуну организовали. Слышно, им отводят хорошую землю, с весны начнут они общественную запашку. «Общий труд на общей земле» – этот лозунг давно известен крутихинцам. Ещё в 1919–1920 годах партизаны Сибири и Забайкалья создавали сельскохозяйственные коммуны; некоторые из них существовали и сейчас. Григорий об этом знал.
Почему бы не воспользоваться домом, усадьбой, инвентарём, землёй, а главное – прекрасным и сильным конским тяглом Кармановых для основания хозяйства коммуны!
С той минуты, как он только об этом подумал, Григорий и не представлял себе иного решения.
– И толковать нечего, – говорил он Плужникову и Селезнёву, – в коммуне мы докажем, что сибирские крестьяне-бедняки могут стать лучшими производителями зерна для общества, чем сибирские кулаки! Мы не токмо старые залежи – мы новую целину вздерём! Опять же и к коммунизму сразу ближе шагнём. Ведь в коммуне никакой этой проклятой собственности, а всё общее!
К его удивлению, товарищи не сразу поддержали это прекрасное предложение. Иннокентий Плужников усмехнулся:
– Ты для идеи, Гриша, даже от личной собственности готов отказаться… Обобществить даже рубахи и штаны. Вроде под одним одеялом спать – как выдумали про нас злые болтуны.
– Ну, да ведь на чужой роток не накинешь платок. То выдумали враги!
– Я вот не враг, – сказал Тимофей Селезнёв, – а что-то и мне не того…
– Говори прямо, – вскипел Григорий, – ты против коммуны?
– Я не то чтобы против, но и не очень за…
– Говори яснее! – потребовал Григорий.
– Я и говорю, что не потягивает на коммуну. Я считаю, лучше нам ТОЗ, товарищество по обработке земли, или артель организовать. Допрежь коммуны…
– Нет! Я категорически против! – резко рубнул ладонью воздух Григорий. – Это что же выходит, по-твоему: дескать, мы сначала побудем в ТОЗе, а потом в коммуну подадимся? Видишь, у нас вроде духу не хватает! Да какие ж мы после этого с тобой коммунисты! Нет и нет! – горячо продолжал Григорий. – Ты, Тимофей, наверно, плохо читал сочинения нашего дорогого товарища Ленина. А товарищ Ленин говорит, что собственность ужасная вещь, она каждый день возрождает капитализм! Да ты разве сам не знаешь? Тебе ж это должно быть на факте известно. Смотри ты, какой кулачина получился при советской нашей власти тот же Селиверст Карманов. Ведь это диво, что такое с ним сталося. А был сперва-то середняк, и даже маломощный. А другие, прочие? Вон возьми ты шурина моего Егоршу Веретенникова, этот ещё немного – и батраков начнёт наймовать. Вот ить чего делает она с народом, эта проклятая собственность! А коммуна её в корне уничтожает!.
Григорий говорил, и Тимофей, казалось, был побеждён его доводами. Но надо было хорошо знать Селезнёва, чтобы не обмануться на этот счёт. Тимофей, как понимал Григорий, всё же остался при своём мнении.
– Ну, а ты как? Чего скажешь? – спросил Сапожков Иннокентия Плужникова.
Молодой и ещё недостаточно твёрдый в своих мнениях, Иннокентий заколебался.
– Народ у нас, Григорий Романыч, беда как тугой на раскачку. С нашим народом разве сразу-то что-нибудь сделаешь?
– Да ведь где же! Конечно! Наше дело отступать, а не наступать, – насмешливо отозвался Григорий.
Иннокентий взглянул на него виновато, а Тимофей сидел попрежнему невозмутимо.
– Показывай список, кто скот просит, – повернулся к Плужникову Григорий.
Иннокентий достал разграфлённый листок бумаги.
– Домна Алексеева, – читал по списку Григорий. – Корову бы ей… Ну, этой надо. С ребятишками… Вдова.
– Николай Третьяков, – продолжал читать Григорий и запнулся. – Это какой же Николай Третьяков? – спросил он.
– Да Никула.
– Тьфу ты, пропасть! – усмехнулся Григорий. – Привыкли уж: всё Никула да Никула, а тут вдруг Николай. Ну, этому бы я не дал. Подкулачник.
– Заявление он подал, – сказал Плужников.
– Это мало важности, – строго взглянул на него Григорий.
– Анисим Шестаков… Савватей Сапожков… Филат Макаров. Это что за Филат?
– Который прошлое лето батрачил у Кармановых.
– Знаю, – сказал Григорий. – А чего он просит?
– Лошадь. Избу хочет ставить.
– Ну вот, к собственности подтолкнём! Чего вы испугались? Посмотрите, вон как сделали в Кочкине. Они не стали тянуть с коммуной, а раз-два – и готово! Нефедов молодец, он понимает, что всё надо делать перед весной…
– Одни-то мы не подымем, надо с народом, – сказал Тимофей.
– Дело ясное, с народом, – проговорил и Сапожков. – Да народ-то сам собой не может, его надо подтолкнуть.
– Вот и надо подумать, куда толкать-то будем. Дело новое.
– Да где ж новое! – сердито возразил Григорий.
А Тимофей вздохнул и сказал примирительно:
– Подумаем, остынем. В этих делах не мешает погодить. Вот поговори с мужиками, послушай, что скажут. Коммунистов, конечно, в порядке партийной дисциплины можно обязать в коммуну войти. А вот с беспартийными как? Попробуй сагитируй нескольких, тогда к этому вопросу вернёмся!
– Ладно! – махнул рукой Григорий.
«Упрямый, чёрт», – скорее с одобрением, чем с досадой на Тимофея, сказал себе Григорий. «Эх, был бы теперь Мотыльков! Дмитрий бы уж поговорил с Селезнёвым не так, как я». Григорию иначе и не представлялось, а только так, что Мотыльков, будь он жив, его непременно поддержал бы и убедил Селезнёва в необходимости организовать в Крутихе коммуну. «Плохо я говорил, не сумел доказать Тимофею», – думал Григорий.
Решили особо нуждающимся выдать коров и лошадей. Но не всех, большую часть временно оставить в распоряжении кресткома. Первым пришёл в сельсовет Филат Макаров – бывший кармановский батрак. Он был в овчинном полушубке, в лохматой шапке, подпоясан бечевой. Филат снял шапку, поздоровался.
– Подходи ближе, – сказал ему Иннокентий Плужников. – Тут вот расписаться надо.
– А видишь, какое дело, – смущённо проговорил Филат, – я ведь неграмотный.
– Ну ладно, я за тебя распишусь, – предложил Иннокентий.
Филат не ответил.
– Деньги-то платить, ай нет? – спросил он, когда Иннокентий расписался за него.
– Бесплатно, – сказал Плужников.
– Благодарим покорно, – поклонился Филат. – А который же, к примеру, конь-то мой теперь будет?
– Чалый.
– Чалый? Ну, спасибо вторично. Этого коня я знаю. Доводилось, когда жил у Селивёрста, езживать на нём. Конь добрый…
– И не старый.
– Какой же старый? По пятому, кажись, году..
Филат произносил эти слова сдержанно, степенно, а улыбка так и сияла на его обветренном лице. Потом он нахлобучил шапку и поспешно вышел. Через несколько минут он прошёл мимо окон сельсовета по улице, ведя в поводу рослого чалого коня.
Вслед за Филатом явился Никула Третьяков. Он стоял у порога и мял в руках шапчонку.
– Вот крестной тебе назначил выдать корову, – сказал Никуле Иннокентий. – Не надо бы тебе выдавать, да ребятишек твоих пожалели.
– Так, так, – сказал Никула.
– Бесплатно даём.
– Так, так…
– Иди, распишись вот здесь и забирай корову.
– Так, как, – снова повторил Никула, но не стронулся с места.
Третьякова одолевали сомнения. Он и подал заявление в крестком, и опасался, что может вернуться Селиверст или Карп Карманов. «Вдруг всё перевернётся?» – думал Никула. Он и сам не очень верил в вероятность этого «вдруг», но Кармановых привык бояться.
– Что же ты стоишь? – раздражённо сказал Иннокентий.
Тогда, решившись, Никула надел шапчонку и приблизился к столу.
Вошёл Григорий. Никула поспешил уйти.
Последней получала назначенную ей корову вдова Домна Алексеева. Это была ещё молодая женщина; муж её умер, оставив ей четверых малолетних детей. Домна вошла в сельсовет быстрым шагом.
– Здравствуйте, – сказала она от порога и окинула сидевших здесь Григория и Иннокентия смелым взглядом. – Зачем звали?
Плужников объяснил.
– Что ж, это хорошо, – сказала Домна. – А вот правду или нет говорят, что кто возьмёт в кресткоме коня или корову, того в коммуну будут записывать?
– Уже слухи идут? Ловко! – воскликнул Иннокентий и взглянул на Григория.
– А ты бы пошла в коммуну? – спросил женщину Григорий.
– Я-то бы пошла! – отозвалась та. – Хуже-то, поди, не стало бы, а, Григорий Романович? – повернулась Домна к Сапожкову. – А то мне с моей оравой ребятишек, ох, как тяжко! Ну, спасибо, теперь вот корова будет…
– Откуда же народ про коммуну знает? – удивлялся вслух Иннокентий, проводив Домну и делая отметки в списке. – Ну, никуда, никуда от народа не скроешься!
– А и скрываться-то не надо, – ответил Григорий. – Зачем скрываться? Объяснять надо, чтобы правильно поняли! Чтоб от нас про коммуну знали, а не с чужих слов. – И он решил заняться агитацией за коммуну среди беспартийных.
XVI
Крутиху волновал слух о коммуне. Что в Кочкине бывшие партизаны решили в коммуну объединиться, – это уже не было новостью. Но коммуна в Крутихе… Кто же в неё пойдёт? Григорий Сапожков и Тимофей Селезнёв – эти уж, конечно, главные закопёрщики. Ну, а кроме них?
Противоречивые толки шли по деревне. Вплетались в них и ядовитые шепотки…
В один из вечеров Григорий зашёл к старому своему сослуживцу по армии Николаю Парфёнову, человеку беспартийному, но преданному советской власти от всей души.
– Давно, брат, ты у нас не был, проходи, – поднялся навстречу Григорию Николай. Под пушистыми тёмными усами у него мелькнули ослепительной белизны зубы. Николай радушно усаживал Григория.
Во всём облике Николая – немолодого уже человека – была ловкость, подтянутость. Он в чёрной гимнастёрке, подпоясан широким солдатским ремнём.
Григорий иногда заходил к Николаю. Но за последнее время ему всё было некогда. Гибель Мотылькова многое нарушила и в его повседневной жизни. Розыски убийц, поездка в волость, суд – всё это было и само по себе необычно, а тут ещё обстоятельства сложились так, что Григорий по необходимости стал в центре всех событий. Теперь его мыслями владело другое – коммуна… О ней-то и пришёл поговорить к своему товарищу Григорий. Он любил иной раз посоветоваться с ним о деревенских делах и настроениях. Жена Николая, тихая, спокойная, была в девичестве самой близкой подругой Елены, они и теперь дружили. Григорий же хорошо узнал Николая в критический для них обоих момент. В девятьсот девятнадцатом году Григория и Николая в числе других молодых крутихинцев забрали в белую армию по колчаковской мобилизации. Но уже через месяц они были у красных – перешли большой группой, заранее сговорившись между собой. Об этом с первых же слов и напомнил сейчас Николаю Григорий.
– Не забыл, как за нами тогда пошли? Так вот, бра-туха, нынче нам вроде опять надо начинать… – и Григорий заговорил о коммуне.
Николай слушал его, не перебивая. Что-то переставляла в закутке у печки его жена, не обращая внимания ка разговор мужчин или делая вид, что ничего не слышит. Дети спали. А Николай сидел перед Григорием, слушал его и думал.
Больших успехов в хозяйстве у него не было. Подходит весна, а у Николая две лошади, земля же сухая, твёрдая, на паре лошадей пахать её тяжело, придётся где-то брать третью лошадь. «Конечно, вместе легче работать, но – коммуна?» Николай о коммуне уже со вчерашнего утра слышит, об этом говорит вся деревня. «Хорошо-то, хорошо, да надо бы посмотреть – как оно будет в этой самой коммуне? Жизнь по-новому повёртывать не шуточка!»
– У нас же целая свободная усадьба Кармановых, большой дом! – сдвинув брови на суровом и энергичном своём лице, говорил Григорий, смотря упрямо на Николая, опустившего голову книзу. – Пойми сам… Ведь глупо будет, если этим не воспользоваться!
Николай оторвал наконец глаза от пола, тряхнул головой.
– Знаешь что? Пошли к Ларьке Веретенникову! – вдруг сказал он. – Пошли, пошли!
Николай встал, решительно набросил на плечи полушубок, оглянулся на свою тихую и молчаливую жену, и они вышли. Тянулся ещё по-зимнему холодный ветер на крутихинской улице, но всюду пахло уже подтаявшим снегом. В окнах то там, то здесь светились огни. Высоко в небе сияли звёзды. Глотнув полной грудью свежего воздуха, Николай весело заговорил:
– Вот сейчас мы сразим Ларьку коммуной! Эх, Гриха! – и он сильно толкнул Сапожкова плечом.
– Ну ты, чёрт здоровый! – шутливо заругался Григорий и толкнул Николая.
Вздумали побороться и свалились в сугроб.
– Ага, ты вон как! Ну, смотри! – раздавались их голоса сквозь шумное пыхтенье.
По дороге шёл Никула Третьяков. Он постарался обойти барахтающихся сторонкой и вздрогнул, увидав перед собой Григория. Его-то уж он никак не ожидал встретить в таком виде – грозно-весёлого, всего залепленного снегом.
– А-а, Никула! – сказал, запыхавшись, Григорий. – Ну, как корова?
– Подоили, Григорий Романович, подоили… Хорошая корова… Да ведь, говорят, временно это, в коммуну забрать могут!
– Нужен ты в коммуне, – рассердился Григорий.
Когда Никула торопливо прошёл, он глухо проговорил:
– Пугливые черти, тележного скрипу боятся.
Ларион Веретенников был дома, когда они ввалились к нему в избу. Чубатая голова Лариона вскинулась широкой тенью по освещённой стене; он сидел со всей своей семьёй за столом, ужинал.
– Вот, Ларя, – сказал Николай с порога, – мы тут с Гришухой коммуну наладились устроить.
– Какую коммуну? – поднял белые брови Ларион.
– Давай сначала ешь, а потом потолкуем, – серьёзно сказал Григорий, садясь на лавку.
Жена Лариона молча глядела на вошедших, а трое ребятишек сначала притихли, но затем с ещё большим рвением принялись выхлёбывать из миски мясные щи.
Ларион кончил есть, отложил ложку и поднялся.
– Куда пойдём или тут будем? – спросил он.
– Давай тут, – ответил Григорий.
Ларион смотрел на него и на Николая вопросительно. И снова Григорий начал говорить о коммуне и её преимуществах для трудящегося крестьянства.
У Лариона, дальнего родственника Егора Веретенникова, было своё, нажитое трудом хозяйство, но он не так рьяно занимался нм, чтобы из-за своей избы и света не видеть. Он понимал, что жизни по-старому приходит конец. И в Крутихе будет что-то новое, если уж всюду в стране началось это – совхозы, коллективные хозяйства… «Вот оно и к нам пришло», – мелькнуло в голове Лариона, когда к нему явился Григорий. Слушая Сапожкова, он после первых же вопросов о коммуне для уяснения самому себе размышлял уже больше не о том, вступать ему в коммуну или не вступать, а о том, кто с ними ещё пойдёт, кроме Николая Парфёнова.
Он уже давно считал про себя, что крестьянину-трудовику, своими руками возделывающему землю, нет нужды в одиночку ковыряться в ней, надо объединяться.
«Да ты по душе-то настоящий коммунист, вступай в партию», – предложил как-то Дмитрий Мотыльков, выслушав рассуждения Лариона о земле и хозяйстве. «Нет, Дмитрий Петрович, в партию я ещё не достоин», – ответил Ларион.
«Какой умный мужик!» – восхищался тогда Ларионом Мотыльков.
– Коммуна вещь сурьезная, – ответил Ларион на слова Григория, обдумывая в то же время про себя, как высказать вспыльчивому и не терпящему возражений Григорию свои опасения, что народ коммуну не поддержит, не готов ещё к этому народ. – Я, конечно, не против, но надо всё же обсудить, – продолжал Ларион. – Может, мы зайдём сейчас к Тимохе?
Тимоха – это был Селезнёв. Круг замыкался. «Да что они, сговорились, что ли?» – с досадой подумал Григорий. Затевая разговор о коммуне сначала с Николаем, а потом с Ларионом, Григорий думал, что они сразу же согласятся; в этом он не сомневался. Тогда и Тимофей Селезнёв может изменить своё мнение. Но вышло всё не так, как он предполагал.
Была уже полночь, когда они пришли к Селезнёву и подняли его с постели. Вслед за ними сюда же явился и Иннокентий Плужников.
– Что вас черти носят? Здравствуй, Ларион! Здорово, Николай! Это ты, что ли, их привёл? – спрашивал Григория Тимофей, шлёпая по полу босыми ногами и ставя на стол зажжённую лампу.
– Не я их, а они меня, – хмуро сказал Григорий. – Вот беспартийные, а больше, чем ты, за коммуну!
Тимофей надел штаны, рубаху, сел к столу. В избе было жарко. На кровати спала жена Тимофея, ребятишки разметались по полу. Женщина один раз проснулась, приподняла голову от подушки, поглядела. Мужики сидели вокруг стола, глухо жужжали их голоса. Тимофей в расстёгнутой рубахе облокотился рукою на стол. Григорий сидел прямо, и суровое лицо его выражало внимание. Николай изредка поглядывал на Григория, но больше он смотрел на Лариона, а тот – плотный, чубатый, с белёсыми бровями – говорил чуть глуховатым баском, обращаясь к Сапожкову:
– Григорий Романыч, я всецело с тобой согласный. Ты правду говоришь, что на кармановской усадьбе мы очень свободно можем коммуну устроить. Справедливые слова. Но мы же должны не токмо что о себе, но и о всех прочих. В коммуне, если по правилу, мы и жить должны все вместе, так ведь? Ладно, ежели нас будет немного, а ну как поднавалит…
– Мы, наоборот, должны стараться, чтоб к нам больше народу шло, – сказал Тимофей.
– Истина, – подтвердил Ларион. – Для многолюдства кармановский дом малой. Стало быть, надо другие строить. А теперь, возьмите, как быть с едой. Общую кухню, где ты её там сделаешь? Или, скажем, столовую? Это всё нужно устроить. Моё мнение: не коммуной, а лучше артелью жить. – Ларион обвёл всех глазами: нахмурившегося Григория, доверчиво смотревшего на него Николая и поощрительно кивавшего ему головой Тимофея Селезнёва. – Артель – это для нас подходяще, – продолжал Ларион. – Я вот читал в газетке про одну артель. У них лошади и коровы, значит, на общем дворе. А сами они, безусловно, по своим избам. Конечно, желательно в коммуне, чтобы всем Еместе, как имеет думку Григорий Романыч. Может, выселиться куда-нибудь, построек наставить, земли побольше… Вроде хутора?
– Какой хутор? – встревожился Тимофей. – Выходит, мы будем в коммуне. А с остальными как же?
– Пусть вступают! – бросил Григорий.
– А вся деревня как? Мы на хутор выселимся, все сознательные, а народ бросим? Нет, это будет неправильно. Да и досуг ли нам сейчас о хуторе да о новых постройках думать? Ты сам посуди, Григорий: подходит весна, надо сеять, а мы будем в один дом сселяться, кухни да столовые устраивать. Нам впору с пашней управиться! Если мы, конечно, думаем по-хорошему дело зачинать…
Григорий молчал, насупившись. Николай, Тимофей, Иннокентий и Ларион выжидательно смотрели на него. Трудно было Григорию отказаться от задуманного, мучительной казалась даже самая мысль об этом. Но он понимал, что остался в одиночестве. «Эх, был бы Митрий!» – опять подумал он о Мотылькове. Однако от него ждут слова, и Григорий переломил себя.
– Ну ладно, – поднял он голову. – Не идёт коммуна – подумаем об артели… А ты ловко подвёл ноги к бороде, – метнул Григорий сердитый взгляд на Тимофея.
– Ты не серчай… Давай-ка лучше прикинем, кто в артели-то будет…
– Что ж, давай бумагу, составим примерный список.
– Да можно и без бумаги, – стал отнекиваться Тимофей.
– Тащи, тащи! – прикрикнул Григорий.
Тимофей покорно полез в сундук за тетрадочными листками. Иннокентий Плужников сходил в сельсовет за поселённым списком. Стали обсуждать возможных членов артели.
– Этот не пойдёт… этот пойдёт… должон пойти… – раздавалось в ответ на выкликаемые Плужниковым по поселённому списку фамилии крутихинских бедняков и середняков.
– Кузьма Пряхин, – называл Плужников.
– Упорный, чёрт, – сказал Григорий. – Он лучше зарежется, чем своё в артель отдаст.
– Да-а, – протянул Николай Парфёнов. – Кузьма не пойдёт…
В памяти всех сразу встал жилистый тридцатилетний крестьянин с курчавой бородой и беспокойными глазами.
– Кузьма, как клещ в кобеля, вцепился в своё хозяйство…
– Давай дальше, – сказал Тимофей.
– Да он же бедняк, Пряхин-то, – остановился Плужников.
– Это мало важности. Бедняк, а дух-то у него…
– Пелагея Мотылькова…
– Вдова Митрия Петровича, я с ней сам поговорю, – сказал Григорий.
– Анисим Шестаков…
– Это который Анисим? Снизу?
– Он.
В Крутихе было два Анисима Шестакова: один – сухопарый и длинный рыжий мужик, хитроватый, но с ленцой; другой – маленький, подвижной, горячий. Жили Шестаковы в разных концах деревни, по течению речки Крутихи, и потому отличались прозвищами: верховской звался Анисим Сверху, а низовский – Анисим Снизу.
– Анисим Снизу – этот пойдёт, – проговорил Николай с усмешкой, – на хитрость его лень понадеется…
– Что, плоховат? Ну, да ведь в артель – не одних ангелов… Организация массовая, – также с усмешкой отозвался Григорий.
– Филат Макаров. Батрак.
– Пойдёт, не пойдёт, а уговорить этого надо. Для прослойки!
– Ефим Полозков.
– Вот с Ефимом задача. Мужик на подъём тяжёлый. А надо бы его… Работящий. Я схожу к Ефиму, – сказал Ларион.
– А Егоршу Веретенникова как? – спросил Иннокентий Плужников, покосившись на Сапожкова.
Григорий молча поднялся. Встали и остальные. Так судьбу Егора и не обсудили на этот раз.
Запел петух, завозились под шестком куры. Жена Тимофея приподнялась на постели, села и стала надевать через голову юбку.
– Эх, засиделись-то мы! – смущённо сказал Ларион.
Уже совсем рассвело, когда они вышли на улицу. Звёзды побледнели. Из труб на серых крышах изб валил дым. Всё было, как обычно, но в эту ночь в Крутихе положено было начало будущему колхозу…
XVII
Много лет спустя какой-нибудь колхозный паренёк из той же Крутихи заинтересуется историей своей деревушки и станет расспрашивать пожилых людей о том, кто был самым первым организатором крутихинского колхоза. Ему без особого труда все укажут на Григория Сапожкова. А в ряд с ним поставят и Тимофея Селезнёва, и Иннокентия Плужникова, и Николая, и Лариона, а за ними, возможно, сохранятся в памяти людей и другие достойные имена. Николай и Ларион были беспартийными, а Григорий – коммунист. Но в самом большом вопросе – о том, что в Крутихе надобно создавать, колхоз или коммуну, – Григорий Сапожков послушался советов Лариона, хотя вся душа у него лежала к коммуне.
Прошло некоторое время, и Григорий с Тимофеем ещё больше оценили трезвый и здравый ум Лариона. Это был крестьянин, душой тянувшийся к городу. Он собирался бросить своё хозяйство в деревне и поступить на завод. У него была, как он говорил, «способность к механике». Но теперь намерение своё Ларион оставил: артельное дело заинтересовало его. Он вызвался сагитировать Ефима Полозкова. Жил этот труженик в достатке, но сам считал, что ему во всём не везёт. В детстве его «растащили» лошади. Простой смысл этого типичного крутихинского выражения заключается в том, что лошади, на которых он ехал с поля, вдруг чего-то напугались и понесли. Маленький Ефимка вылетел из телеги и сломал ногу. Ребятишки дразнили его: «Хромка!» Ефим беспощадно дрался из-за этого с ребятишками.
Покойный отец Ефима, Архип Никифорович Полозков, едва отстоял сына по хромоте от колчаковской мобилизации.
Сверстники Ефима побывали на войне, повидали другие края, Ефим же ни на один день не покидал своей Крутихи. Ему даже не о чем было говорить с девками на посиделках. Он мог бы им хорошо рассказать о привычном: какая нынче на той стороне речки Крутихи уродилась «рясная черёмуха», сколько в Скворцовском заказнике грибов – «лесники сказывали». Он мог с толком поговорить о домашнем скоте и с лошадях, о пахоте, жатве и косьбе. А девкам, как он думал, это было неинтересно; они и сами всё это каждый день видят. А вот «про интересное» он рассказывать не умеет… Даже Егорка Веретенников находил с Аннушкой какой-то разговор. О чём же мог болтать с девкой Егорка? Что уж у него такого диковинного? Ведь он тоже, как и Ефим, почти нигде не бывал. Месяц лежал в лазарете в Иркутске – но не такое уж это было большое дело, чтобы им хвастаться! Однако Егорка умел и про лазарет рассказывать так, что Аннушка его слушала.
И это Ефиму разрывало сердце. Он сильно любил Аннушку. Ведь он был первым, кто начал за нею ухаживать. Аннушка, живя у Волковых, редко показывалась на посиделках, но Ефим её заметил. Ефим никогда не забудет, как он впервые пошёл её провожать. Они долго шли молча. Подошли к переулку, от которого надо было сворачивать к дому Волковых. Аннушка сказала: «Дальше не ходи. Увидят».
И Ефим покорно побрёл назад. Вот и все слова, которые он от неё услышал в этот вечер, а сам и рта не раскрыл. Ефима сковала тогда робость. Отделаться от робости, застенчивости в присутствии Аннушки он так до конца и не мог. Из-за этого Ефим и в драку полез на Егора.
Ефим был крепче, сильнее Егора. Хромота его с годами стала еле заметной. Он бы тогда победил Егора, и, покоряясь его силе, кто знает, не пришла ли бы к нему Аннушка вновь? Однако, налетев с кулаками на Егора и поколотив его, он потом на всё рукой махнул. «Ладно!» Не желает Аннушка его любить, так и пускай достаётся Егору! А он назло ей и даже назло себе женится на какой угодно девке! И Ефим действительно так поступил, посчитав, что с любовью ему «не повезло». В соседнем селе Подворном высватали ему в жёны покладистую девку Федосью.
Так без любви началась семейная жизнь Ефима. Об Аннушке он думать перестал, но полностью чувство своё к ней подавить не мог. Всё больше и больше Ефим уходил в своё хозяйство, оставшееся ему после смерти отца. Он был старательным, трудолюбивым мужиком, но в хозяйстве, так же как в любви, ему «не было судьбы». До прошлого лета у Ефима стояли во дворе три лошади. Осенью одна из них, заболев ящуром, пала. Только успел Ефим прийти в себя от одного несчастья, двор его посетило второе: волки задрали стельную корову. Ефим остался с двумя лошадьми и одной яловой коровой. Правда, была ещё тёлочка, но когда-то она вырастет!
Ефиму представлялось, что живёт он сейчас хуже всех своих соседей. В особенности ревниво относился он к Егору Веретенникову, который, как думалось Ефиму, и хозяйство-то своё завёл благодаря помощи Платона Волкова. У Ефима это было давнее и твёрдое убеждение.
В ту ночь, когда сбежал Генка Волков, Ефим поздно возвращался из сельсовета, где допрашивали Селивёрста Карманова, потом он ещё заходил к Николаю Парфёнову. Идя по улице, Ефим заметил огонь в окне избы Егора и какую-то тёмную фигуру на крыльце. Затем он услыхал голоса в переулке, увидел Григория и милиционеров. Вместе со всеми он вошёл в избу Егора, смотрел на растерянную после бегства Генки Аннушку… С того времени Ефим у Веретенниковых не был, Федосья же бегала к ним не переставай. Она давно позабыла свою былую тайную ревность к Аннушке. И в этот день, когда к Полозковым пришёл Ларион, Федосья была у Веретенниковых.
Ларион вошёл, поздоровался, и весело сказал, сразу приступая к делу:
– А я, брат, к тебе пришёл от сельсовета и от комячейки. – Он сел, приготовясь к долгой беседе.
Ефим Полозков, в отличие от Егора Веретенникова, не пропускал ни одного сельского собрания, хотя и сидел там, по обыкновению своему, молчаливо. Тимофеи Селезнёв и Григорий Сапожков тем не менее считали его своим активом.
Ефим вопросительно взглянул на Лариона.
– Ты, наверно, уж слыхал, – продолжал Ларион, – что некоторые у нас в Крутихе коммуну задумали? – Ларион значительно поднял брови. – Но порешили, значит, не коммуну сделать, а артель. А это нам с тобой дело очень подходящее.
Ефим и бровью не повёл в ответ на эти слова Лариона. С улицы в избу прибежала девчонка. Ефим сердито сказал ей:
– Сбегай за мамкой, где её там черти носят!
Девчонка мгновенно повернулась, хлопнула дверью и побежала к Веретенниковым. Мужики продолжали разговаривать. Собственно, говорил только Ларион. Ефим молчал. Уже добрых полчаса они просидели вот так, друг против друга. Ефим смотрел спокойными глазами на Лариона, и не понять было по его взгляду, о чём он думает.
– Ты сам рассуди, – убеждал Ларион. – Землю мы возьмём кармановскую, скотом и лошадьми поможем один другому. У тебя теперь забота о коне, а тогда её не будет. И без коровы ты не останешься. И жить будешь в своём доме. Работать только сообща. А это, знаешь, какая у нас будет сила! Все залежные земли подымем, а то и целину вздерём. И хлеба у нас лично будет больше, чем сейчас, и государству дадим вдоволь.
– Это точно. В одиночку те земли не поднять.