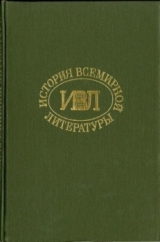
Текст книги "История всемирной литературы Т.4"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 67 (всего у книги 82 страниц)
При всех ее связях с яванским прошлым «прибрежная культура» Северной Явы во многом отличалась от старой доисламской культуры. Так, интерес к прошлому, стимулируемый у северояванских ученых XVII в. также и знакомством с мусульманской литературой, привел к созданию серат канда – длинных поэтических сводов, в которых комбинировались и выстраивались во временной ряд сведения из Корана, вариации на темы из древнеиндийских пуран, материалы ваянга кулита, местные исторические предания. Авторы серат канда, подобно древнеяванским книжникам, смотрели на исторический процесс как на повторяющуюся в восходящих поколениях борьбу двух половин человеческого племени, причем в серат канда родоначальником одной из этих половин оказывается сын Адама Кабил (Каин), а другая половина восходит к его брату Сису.
Романические поэмы, создающиеся в XVII в. как в городах северного побережья Явы (особенно в центральной его части), так и в суфийских обителях, безусловно, испытывают опосредованное влияние арабо-персидских народных романов, попадавших на Яву в виде малайскоязычных хикаятов. Однако в непривычной среде завезенные с запада сюжеты начинали жить своей жизнью. Так, яванизировавшийся, по-видимому, еще в XV—XVI вв. хикаят о дяде пророка Мухаммада – Амире Хамзе, получивший в Яве название «Менак», в XVII в. выбрасывает, как полагают, новую мощную ветвь – «Серат Ренганис» («Книгу о Ренганис»). Любовные приключения Келоно, сына Амира Хамзы (Вонга Агунга), связываются в поэме с войной против неверных и заканчиваются благополучной женитьбой Келоно на небесной деве Ренганис и на ее подруге и воспитаннице Кадарманик.

Куклы яванского театра ваянг клитик
Однако нередко фоном яванских поэм XVII в. служила яванская действительность. Наиболее популярной из этих поэм считается «Серат Дамарвулан» («История Дамарвулана»). Можно думать, что ядро этого произведения, известного также в варианте, приспособленном для кукольного театра ваянг клитик, составляет волшебная сказка. В пользу этого говорит сам сюжет, лежащий в основе произведения: покинутый своим отцом Дамарвулан прислуживает в доме дяди, подвергается всякого рода гонениям со стороны дяди и двоюродных братьев, отправляется затем по поручению царь-девицы Маджапахита на войну с ее противником Менакджинго, раджой Баламангана; убивает его с помощью волшебного средства и после разоблачения двоюродных братьев, пытающихся его уничтожить и приписать себе его заслуги, вступает в брак с царь-девицей и воцаряется в Маджапахите. Покорность судьбе, самоуглубленность отличают Дамарвулана от героев европейских рыцарских романов, с которыми часто сопоставляется поэма о нем.
Если принять во внимание шиваистскую окраску «Истории Дамарвулана», то можно утверждать, что, обратившись к этому памятнику,
мы, по крайней море частично, выходим за пределы распространения исламизированной прибрежной культуры и вступаем в круг придворной литературы Матарама, правители которого в первой четверти XVII в., разгромив и опустошив прибрежные города-государства Восточной Явы, всеми средствами пытались объединить в централизованную деспотию новые и частично разноплеменные территории с преимущественно натуральным хозяйством и плохой системой коммуникаций. Памятником этих великодержавных претензий Матарама отчасти является историко-поэтический свод «Бабад танах Джави», первые разделы которого датируются концом первой трети XVII в.
«Бабад танах Джави» представляет собой, в сущности, знакомое нам хотя бы по малайской литературе описание генеалогического древа государей Матарама, восходящего к древнейшим царским родам Явы. Придворный историк немало поработал над этим памятником, в результате чего яванская история являет собой здесь неизменное торжество высшей законности, и царские родословные древа Явы начинают давать подозрительно одинаковые боковые ветви, к которым постоянно переходит корона. Вещий сон или пророчество, по словам голландского историка Б. Схрике, как нельзя лучше «объясняют или оправдывают факт, противоречащий естественному космическому порядку», туманные метафоры прикрывают неблаговидные поступки государей, а «царское сияние», в котором материализуется божественная власть сюзерена, вдруг покидает венценосца, лишая его тем самым каких-либо прав на царство.
Заканчивая рассказ о матарамской литературе XVII в., нельзя не упомянуть еще об одной примечательной поэме. Это «Серат Барон Сакендер» («Жизнеописание Барона Сакендера») – история, долгие годы считавшаяся «фантастическим описанием приключений, выпавших на долю основателей голландского господства на Яве». Так было до тех пор, пока голландский яванист Т. Пижо не доказал, что главный герой поэмы может быть соотнесен также со столь популярным в мусульманской литературе Александром Македонским, а вся она в первую очередь призвана послужить вящей славе государства Матарам. В поэме идет речь о том, как, добившись владычества над Испанией и снискав могучую волшебную силу благодаря аскетизму, Сакендер отправляется на Яву, где и становится слугою Сенапати – основателя Матарама.
После разгрома большинства восточнояванских приморских городов-государств яваноцентристская архаическая культура Матарама сильно потеснила прибрежную культуру, но последняя продолжала существовать в центральной части побережья – в Джапаре, Семаранге – и оказывать известное влияние на матарамский двор. Традиции прибрежной культуры впитала в себя и литература населенной преимущественно сунданцами Западной Явы, т. е. в первую очередь придворная литература яванизированных султанатов Бантам и Черибон. Однако в результате голландской торговой блокады эти процветавшие некогда княжества, точно так же как Джапара и Семаранг, постепенно утратили связи с Арабским Востоком и с Индией. В результате в прибрежной культуре Западной Явы все более начинает чувствоваться сунданская традиция, умолкшая было после того, как индуизированное государство сунданцев Паджаджаран было побеждено яванизированным мусульманским Бантамом. Так, на Западной Яве возникает своеобразный театр объемных деревянных кукол – ваянг голек, растет влияние сунданского языка на литературный яванский язык, приспосабливается к особенностям сунданского выговора яванское письмо чаракан, наконец, все больше местных черт проступает в яванскоязычной литературе Западной Явы.
Одним из наиболее известных произведений этой литературы являются «Седжарах Бантен» («Бантамские родословия»), первая редакция которых датируется 1662 г. Начало этой поэмы восходит, по-видимому, к той же традиции, что и «Бабад танах Джави», и можно думать, что это связано с тем, что оба памятника обязаны своим происхождением не дошедшим до нас «Седжарах Демак» («Демакским родословиям»). В то же время в той своей части, где речь идет об исламизации Западной Явы и о строгих ревнителях ислама – бантамских султанах, «Бантамские родословия» не сбиваются на чужой голос и излагают, видимо, местные предания частью исторического, а частью агиографического характера.
Среди романических поэм, имевших хождение на Западной Яве, некоторые были как будто неизвестны на исконно яванских землях. Одни из этих оригинальных поэм тесно связаны с собственно яванским фольклором (например, «Джоко Салево» – история состоящего из черной и белой половинок юноши, отправившегося на поиски бога), другие – «Абдурахман и Абдураким», «Сили Венги» – возможно, обязаны своим происхождением устному народному творчеству сунданцев. Немалое влияние оказывала на западнояванскую словесность и литература на малайском языке, который – наравне с яванским – пользовался в Бантаме статусом литературного языка. Характерно, что «Бантамские родословия» известны и в малайском варианте,
именующемся «Хикаят Хасануддин» («Повесть о Хасануддине»).
Земля сунданцев – Западная Ява – была в XVII в. отнюдь не единственной иноязычной областью, где распространил свое влияние яванский литературный язык. Однако нигде за пределами яванской земли литературный яванский язык не сыграл такой роли, как на острове Бали. После того как ислам, по крайней мере официально, стал религией без малого всей Явы, Бали, которого не коснулись до поры до времени треволнения эпохи колониализма, ревностно сохранял профанированные яванцами традиции их же собственной домусульманской цивилизации. Цивилизация эта уже с первых веков нашего тысячелетия была известна на Бали благодаря постоянным, подчас вынужденным контактам балийцев со своими восточнояванскими соседями и единоверцами. Когда же Бали был захвачен в XIV в. Маджапахитом, яванская культура заняла на острове господствующее положение. Несмотря на то что Бали освободился при первой возможности от гнета Маджапахита, на острове и в XV, и в XVI вв. продолжали читать и переписывать древнеяванские поэмы или сочинять на так называемом «среднеяванском» языке новые произведения, в которых картины маджапахитского прошлого переходили в изображение прошлого балийского. Однако с XVI в. перемены обнаруживаются и на Бали: литературный «среднеяванский» язык приобретает здесь все более отчетливую балийскую окраску. При дворах государей Гелгела и Клункунга создается на этом языке богатая яванско-балийская литература, расцвет которой приходится приблизительно на XVII – начало XVIII в. При этом удельный вес балийских элементов в отдельных памятниках настолько значителен, что их, по существу, следует относить уже к балийскоязычной литературе.
Как и собственно яванская литература XVII в., яванско-балийская литература представлена в основном поэтическими жанрами. Балийские поэмы написаны или знакомым нам стихом тембанг мачапат или близким ему, но считавшимся более утонченным тембанг тенгахан («срединным стихом»), разновидности которого чередовались в определенном порядке по мере развития фабулы.
В новые меха нередко вливалось старое вино, и такие яванско-балийские поэмы, как «Бхаратаюдха-кидунг» («Песнь о войне Бхаратов») или «Адипарва-кидунг», представляют собой переработки древнеяванской «Бхаратаюдхи» («Войны Бхаратов») и «Адипарвы». Однако в тех случаях, когда яванско-балийские писатели освобождались от гипноза древнеяванской литературы, из-под их пора выходили оригинальные поэмы, подобные «Кидунг сунда» («Песнь о сунданцах»), – описание сунданского посольства в Маджапахит, гибнущего по воле всемогущего маджапахитского министра Гаджа Мады, или близкие по характеру яванским бабадам и известные как в прозаических, так и в поэтических версиях «Усана Бали» («Балийские свершения») и «Паманчангах Бали» – своды мифологических, легендарных и исторических сведений о Южном Бали. Расширяются и дополняются на Бали по сравнению со своими яванскими прототипами очень популярные здесь поэмы о панджи – «Вангбанг Видейя» или «Багус Умбара». Наконец, наряду с моралистической литературой, созданной по яванским, а в конечном счете индийским образцам (например, известная в нескольких версиях поэма «Тантри», восходящая к прозаической древнеяванской «Камандаке» («Баснословие»), а через нее к «Панчатантре»), имеется и даже значительно превышает ее по своему объему оригинальная яванско-балийская литература религиозного содержания – многочисленные гимны, заклинания, богословские труды, космогонические и религиозно-философские поэмы, трактаты о технике и целях йоги.
Завершая очерк литератур Индонезийского архипелага и Малаккского полуострова в XVII в., следует подчеркнуть, что при всех различиях этих литератур типологически они представляются до известной степени близкими литературам европейского Средневековья, а временами в них ощущаются тенденции, в чем-то сходные с тенденциями раннего европейского предвозрождения. Оживленный обмен культурными ценностями, который страны малайского мира вели между собой, осваивая в то же время многие культурные достижения Арабского Востока, Персии и Индии, к концу XVII в. все более сходит на нет – установленная нидерландской Ост-Индской компанией жесткая торговая блокада архипелага неизбежно блокировала те каналы, по которым обычно шел этот обмен. Новые культурные связи взамен утраченных, в сущности, не устанавливались. Не имея сил изгнать из своих вод иноземцев, превосходивших их организацией, сплоченностью, морской и военной техникой, резко негативно относясь к культуре пришельцев, народы Индонезии и Малаккского полуострова к концу XVII в. все более обособляются, пытаясь найти источник сил в глубине собственных культурных традиций.
*ГЛАВА 9.*
ФИЛИППИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА(Макаренко В.А.)
К началу XVII столетия было в основном завершено завоевание Филиппинского архипелага (за исключением его крайней южной части и некоторых горных районов) испанцами, укрепилась колониальная администрация, сложилась в основных чертах организация католической церкви, которой предстояло быть в течение последующих трех веков главной идеологической и политической силой на завоеванных землях. В первой трети XVII в. значительное большинство филиппинского населения (ок. 600—700 тыс. человек), особенно на острове Лусон, крестом и мечом было обращено в католичество. Испанские монашеские ордены энергично насаждали религиозное просвещение: создавались новые и новые учебные заведения (Коллегия, затем Университет св. Фомы в 1611 г., Коллегия св. Хуана в 1620 г., Коллегия св. Исабелы в 1632 г. и т. д.), организовывались ксилографии и типографии, выпускались первые книги. По мере обращения населения в католичество и распространения латинизированной филиппинской письменности, постепенно вытеснялось филиппинское слоговое письмо, гибли выполненные на пальмовых листьях и бамбуковых дощечках памятники филиппинской письменности.
Несмотря на то что в самой Испании XVI—XVII вв. литература вступила в пору своего наивысшего расцвета, на Филиппинах долгое время не были известны ни драмы и комедии Лопе де Веги или Кальдерона, ни новеллы и «Дон Кихот» Сервантеса, ни знаменитые в то время плутовские романы. Зато активно переводилась на местные языки, в особенности на тагальский, бисайские и илоканский, испанская религиозная литература: новены – девятидневные циклы молитв, основы христианского вероучения, проповеди, «страсти».
Первое печатное произведение на Филиппинах – «Христианская доктрина» (на испанском и тагальском языках, 1593). Считается, что тагальские переводы в этой книге принадлежат францисканскому монаху Хуану де Пласенсии, однако кристально чистый язык тагальского варианта «Аве Марии» заставляет думать, что Пласенсия прибегал к помощи кого-то из местных жителей. Из последующих ксилографических изданий следует отметить «Книгу Владычицы Розариума» (1602), тагальский текст которой принадлежит доминиканцу Франсиско Бланкасу де Сан-Хосе. Он же, по-видимому, переводил «Книгу о четырех исходах человеческой жизни», изданную типографским способом на тагальском и испанском языках. К филиппинским инкунабулам относят в общей сложности пятьдесят семь книг, напечатанных до 1640 г., однако следует иметь в виду, что книги эти предназначались, как правило, не для прихожан, а для священников и преподавателей католических учебных заведений.
Этническая принадлежность деятелей филиппинской культуры часто остается неясной, так как имена – порою единственное, что мы о них знаем. Известно, однако, что филиппинским первопечатником был крещеный китаец Хуан де Вера, а одним из продолжателей его дела был филиппинец Томас Пинпин (ум. 1639). Пинпин участвовал наравне с упомянутым уже Бланкасом де Сан-Хосе в составлении «Книги для обучения тагалов испанскому языку» (1610), причем в этой книге мы находим короткое стихотворение Пинпина, представляющее собой молитву о ниспослании божественной помощи. Примерно к тому же времени относятся и немногие известные нам религиозные стихотворения Фернандо Багонбанты, имя которого упоминается впервые в 1605 г. в книге «О христианской жизни» Бланкаса де Сан-Хосе. Пинпин и Багонбанта были, по существу, двуязычными поэтами: в их стихотворениях тагальские строки, чередуясь с испанскими, повторяют их содержание. Несколько религиозных стихотворений подобного рода оставил нам и Педро Суарес Осорио (Оссорио), третий поэт того времени, тагал из Эрмиты. Произведения его были напечатаны вместе с «Толкованием христианской доктрины» на тагальском языке Алонсо де Санта-Ана. Лишь в конце XVII в. появляется первый тагальский поэт, отказавшийся от параллельного использования испанского языка, – Пелипе де Хесус. Одно из немногих сохранившихся стихотворений Хесуса дает представление о его творчестве:
Птенец в гнезде,
Находящийся под опекой матери,
Не может летать,
Пока у него не вырастут крылья.
Сильные страсти
Подобны уголькам,
Взлетевшим под облака,
Но в сущности состоящим из праха.
(На основе испанского перевода Хосе Вильи Панганибана)
Приведенное стихотворение являет собой пример характерного для народной поэзии психологического параллелизма и свидетельствует о появлении новой тематики в филиппинской литературе.
Поскольку филиппинцы издавна обладали своей собственной развитой эпической традицией, естественно, что проникавшие на Филиппины произведения испанской эпической литературы осваивались филиппинцами гораздо быстрее, чем отвлеченные религиозные сюжеты. В результате очень скоро создаются местные варианты таких эпических поэм, как «Бернардо дель Карпио», причем эти переработки нередко весьма далеко уходили от оригиналов. Примерно то же самое произошло в XVIII в. и с театральным жанром моро-моро, возникшим на Филиппинах не без участия испанцев. «Моро» по-испански значит «мавр», и, как нетрудно догадаться, пафос этих пьес по идее должен был быть направлен против исламизированного населения Южных Филиппин, весьма активно не желавшего подчиняться колониальному правительству. Однако такому заказу вполне отвечали лишь первые образцы этого жанра (например, «Сражения с пиратами» – пьеса миссионера с Минданао – Херонимо Переса, написанная по-тагальски и торжественно поставленная в 1637 г. в Маниле). Последующие моро-моро отдавали предпочтение, как правило, авантюрным сюжетам, не несущим изначально предписанной идеологической нагрузки.
Тагальский язык стал главным литературным языком Филиппин уже в XVII в., но литературное творчество не прекращается в это время и на других языках. Предположительно в XVII в. возникает составленный на одном из диалектов бисайского языка сборник наставлений для юношества. Автор этого стихотворного дидактического произведения – безымянный августинский монах – первоначально назвал свою работу «Христианский Катон», но впоследствии она получила название «Лагда» (бисайск. «Прямой путь») и вобрала в себя многие черты местного фольклора. На илоканском языке появляются в 1621 г. изданная ранее по-тагальски «Христианская доктрина» и ряд религиозных стихов. На этом же языке писал стихи и слепой поэт Педро Буканег (род. 1592), воспитанник монахов-августинцев, который наряду с Т. Пинпином стал одним из первых среди филиппинцев знатоком и переводчиком с испанского языка. В 1640 г. со слов стариков-илоканцев он изложил на илоканском языке эпическую поэму «Жизнь Лам-Анга».
Ранние филиппинские литераторы, как правило, были одновременно и историками, и языковедами, и типографами-издателями. В частности, они принимали участие в подготовке и издании первых грамматических и лексикографических трудов по филиппинским языкам, выступая в качестве информантов испанских авторов. Так, в 1610 г. Т. Пинпин осуществлял редактирование и издание «Грамматики тагальского языка» монаха-августинца Франсиско Бланкаса де Сан-Хосе, а в 1613 г. – «Словаря тагальского языка» другого августинца, Педро де Сан-Буэнавентуры. П. Буканег помогал Франсиско Лопесу при работе над «Грамматикой илоканского языка» (1627) и «Словарем илоканского языка» (1630). В 1637 г. в результате совместных усилий испанцев и филиппинцев появился также первый «Словарь бисайского языка». Участию филиппинцев мы обязаны тем, что в этих ранних лингвистических работах содержится большое количество образцов филиппинского фольклора – пословиц и поговорок, шуток и загадок, легенд и сказок, которые были проанализированы в позднейшее время.
Филиппинская литература XVII в., относящаяся к так называемому «испанскому периоду» истории страны, представлена, таким образом, произведениями на испанском и на филиппинских региональных языках, преимущественно тагальском, бисайских и илоканском. И хотя эти произведения были созданы под контролем и при заметном воздействии римско-католической церкви, в своих лучших образцах они так или иначе продолжали и развивали местные фольклорные и литературные традиции.
РАЗДЕЛ IX.
-=ЛИТЕРАТУРЫ ВОСТОЧНОЙ, ЮГО-ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ=-
ВВЕДЕНИЕ(Рифтин Б.Л.)
XVII век – один из драматических периодов истории Восточной и Центральной Азии. К началу столетия к югу от Амура усиливается консолидация маньчжурских племен, которые начинают борьбу за расширение своих владений. В 1618 г. маньчжурское войско вторглось на территорию Китая, а в 1627 г. – Кореи. Одновременно шло завоевание и монгольских земель. Эти войны, затихавшие временами, завершились в 40-е годы полным завоеванием Китая и Монголии (без Джунгарского ханства на западе), корейский двор признал себя вассалом маньчжуров.
Этот век отмечен и мощными крестьянскими движениями, а также многочисленными войнами между местными феодалами. В Китае с 20-х годов одно крестьянское восстание следует за другим. В них принимают участие рудокопы, представители городских низов и даже выходцы из господствующих классов. Отдельные выступления постепенно перерастают в крестьянскую войну под предводительством Ли Цзы-чэна, который в 1644 г. взял Пекин – столицу Минской империи. Подавить это восстание китайские феодалы смогли лишь с помощью маньчжуров. Воспользовавшись ситуацией, те захватили всю страну. Мощное крестьянское восстание разразилось в 30-е годы и в Японии. Феодальные междоусобицы раздирают Вьетнам, где два государства, образовавшиеся в XVI в., – Нгуэнов и Чиней – ведут с 1627 г. почти полувековую войну за власть, в монгольских степях в первой половине века непрерывно происходят военные столкновения между родами.
Большую роль в подготовке крестьянских восстаний в Китае и Японии играли религиозные идеи (в первом случае близкое к буддизму учение тайной секты Белый лотос, во втором – христианство, которое продолжало оказывать заметное влияние на культурную жизнь страны). Буддизм влияет на умы многих литераторов Китая, Японии, Кореи, Вьетнама.
Длительное сосуществование различных религиозных и этических систем в странах Дальнего Востока приводило к тому, что идеи передовых мыслителей облекались в ту или иную традиционную оболочку. Те, кто развивал учение о государстве и участии человека в общественной жизни, искали идейные опоры в раннем конфуцианстве (Хуан Цзун-си, Ту Янь-у, Тан Чжэнь и др., японский мыслитель Ито Дзин-сай и его последователи, первый крупный представитель школы «За практическое знание» в Корее – Лю Хенвон). Писатели, стремившиеся к углубленному самовыражению, к раскрытию человеческих чувств, напротив, склонялись к буддизму или даосизму как к вероучениям, обращенным внутрь человека и отстаивавшим право на индивидуальный путь постижения истины. Различные общественные ситуации в той или иной стране вызывали к жизни и соответствующие течения в общественной мысли. Так, ослабление императорской власти в Китае, остро ощущавшаяся необходимость централизованного правления и стабилизации государственного уклада привели к подъему конфуцианской мысли: в конце правления национальной династии Мин (первая половина XVII в.) – в виде обращения в основном к раннему конфуцианству, а после завоевания страны маньчжурами – в виде ортодоксального неоконфуцианства. Создание феодально-абсолютистского режима династии Токугава в Японии в 1603 г. также привело к расцвету в стране школы неоконфуцианцев – «Канзаку» («Школа китайской науки»). Чжусианская философия и этика были официально признаны и в Корее, и во Вьетнаме. Одновременно в странах Дальнего Востока шла и критика неоконфуцианства как с позиций раннего конфуцианства, так и с точки зрения учения интуитивиста Ван Ян-мина – китайского философа XVI в., который утверждал, что субъективное начало лежит в основе мира и все реальное сводится к субъективным восприятиям («вне сердца нет вещей»), и отсюда делал вывод о важности личного опыта. Дискуссии с конфуцианцами ведут в это время и мусульманские мыслители в Китае, что также усложняет картину идеологической жизни эпохи. Но в основном противники конфуцианства питались идеями Ван Ян-мина, которые имели в XVI—XVII вв. прогрессивный смысл, так как способствовали развитию и утверждению индивидуального начала в противовес конфуцианской нивелировке личности. Эти идеи ощутимы в творчестве китайского драматурга Тан Сянь-цзу, их толкованием занимался поэт и теоретик поэзии Мао Ци-лин. В Японии философ Накаэ Тёдзю развивал учение Ван Ян-мина о «врожденных знаниях» и соединял его с некоторыми буддийскими идеями, в Корее в числе последователей китайского мыслителя были ученые Чон Чеду и Ли Гванса, которые подчеркивали роль практического познания и прикладных наук (астрономии).
В истории культуры Дальнего Востока возрастает значение буддийских идей, которые нередко соединяются с даосскими. Представление о непрочности и иллюзорности земного существования, о предопределении судьбы человека в предшествующем рождении находили отклик у многих писателей XVII века, полного трагических коллизий. Не случайно характерное для писателей Китая, Японии, Кореи этого периода стремление показать силу человеческих эмоций в противовес конфуцианской литературе, которая обычно избегала изображения сферы чувств, тесно связано с буддийской и даосской концепциями жизни. В китайской и японской драме (Тан Сянь-цзу, Кун Шан-жэнь, Тикамацу), в китайском или корейском романе (Ли Ли-вэн, Ким Манджун), в китайских и японских городских повестях (Фэн Мэн-лун, Ихара Сайкаку) обычно изображение бурного кипения страстей, чувства, способного преодолеть все на своем пути, завершается мыслью о том, что земные желания тщетны, а истинно лишь отрешение от жизни и мирской суеты. Буддийско-даосское мироощущение, связанное с уходом на лоно природы и попытками безмятежного созерцания ее, пронизывает стихи китайских, корейских, японских и вьетнамских поэтов XVII в. Подобные настроения не были новыми в поэзии этих стран, но в этот период они заметно усиливаются, что связано с драматическими событиями эпохи и реальным уходом многих поэтов в отшельничество (в Китае это было формой протеста против подчинения маньчжурским захватчикам).
Особым взлетом отмечена в XVII в. японская поэзия, выросшая на почве идей цзэн (по-китайски чань) – буддизма, в творчестве замечательного лирика Басё. Поворот к буддизму во Вьетнаме – особенно к концу столетия – дал замечательные образцы буддийской архитектуры. Если в Китае, Корее, Вьетнаме, Японии буддизм питал поэзию природы и созерцания и его влияние было в известной степени опосредованно, то, например, в Монголии создаются философские стихи, в которых прямо излагаются основные догматы буддизма.
Идеологическая жизнь в тот период была наиболее сложной в Японии, где, наряду с общими для всех стран региона идейными учениями, существовала и своя древняя национальная религия – синтоизм. В XVII в. это учение питало во многом ту оппозицию неоконфуцианству, которая получила название «Вагаку» – «Школа японской науки» в противовес «Школе китайской науки». Однако, как и в Китае того времени, в Японии делались попытки создания единой синкретической идеологии. Это стремление заметно и у составителей простонародных книг (так называемых «канадзоси»), и в более сложной форме у последователей известного мыслителя и поэта Мацунага Тэйтоку. Религиозно-философский синкретизм проявляется и во вьетнамской поэзии XVII в.
Со второй половины XVI в. в Восточную и Центральную Азию устремляются миссионеры: сперва португальцы, за ними испанцы, итальянцы, голландцы, поляки. Передовые мыслители дальневосточных стран с интересом взирали на необычных обликом людей, которые сразу же стали изучать этот край, его языки и верования. Миссионеры довольно быстро разобрались в местных идеологических течениях и начали борьбу с главными своими конкурентами – буддизмом и даосизмом. Отношение их к конфуцианству было более сложным. Во-первых, это было официальное учение, во-вторых, оно мало походило на привычные европейские религии, так как трактовало не вопросы божественного порядка, а лишь поведение человека в обществе и было учением крайне рационалистичным.
Иезуиты, чтобы привлечь на свою сторону правителей восточных стран, усиленно пропагандировали и прикладные науки, особенно математику, астрономию, баллистику, картографию. Знакомство с представителями иного культурного мира, с их наукой, необычными предметами (вроде очков или подзорной трубы), которыми они пользовались, и особенно с новейшим огнестрельным оружием, ввозимым из Европы, повысило интерес ученых Дальнего Востока к практическим знаниям. Интерес этот вытекал из внутренних потребностей развитого феодального общества, в котором все возрастающую роль играло товарное производство. Появление первых переводов европейских научных сочинений стимулировало этот процесс. Однако миссионеры принесли с собой не передовую европейскую науку XVII в., а главным образом средневековые представления о Вселенной, основанные на взглядах Птолемея. Одновременно, правда, в страны Дальнего Востока проникали и новые идеи (польские иезуиты, например, доставили в Китай расчеты движения планет, сделанные Коперником). Изобретенный в 1609 г. Галилеем телескоп был подробно описан по-китайски в 1626 г. немецким миссионером Адамом Шаллем в «Слове о телескопе».
Отголоски увлечения Европы XVII в. математикой донеслись и до стран Дальнего Востока.
Китайский ученый Сюй Гуан-ци, принявший христианство, переводит вместе с итальянским миссионером Маттео Риччи разделы евклидовой геометрии, он же изучает западный календарь и становится начальником придворного календарного управления; математикой интересуются и маньчжурские государи.
Именно в XVII в. Сэки Такакадзу, которого считают основателем японской математической школы, создает труд «Законы круга», близкий отчасти идеям Ньютона и Лейбница. Интерес к математике, механике, астрономии заметен и у корейских мыслителей, например у Ли Сугвана – одного из основоположников школы «За практические знания» (сирхак). Аналогичную картину мы находим и во Вьетнаме.








