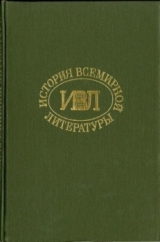
Текст книги "История всемирной литературы Т.4"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 82 страниц)
Но это вовсе не означало, что Грифиус был чужд или хотя бы безразличен к земным интересам. Именно потому, что он так сильно любил свою отчизну, бывал он столь мрачен и недоверчив к жизни. Как можно было, например, не скорбеть по поводу гибели Фрейштадта? Но, скорбя о гибели города, поэт вместе с тем выражал надежду, что настанет радостное время, когда погаснет злоба, разжигающая пламя войны, прилежные руки подымут город из пепла и меч будет перекован на плуг или топор. А заставляя мертвеца твердить о неизбежности смерти, Грифиус не уподоблялся сумрачным анахоретам Средневековья, отвергавшим земную жизнь, а только призывал людей прожить эту дарованную им жизнь достойно, оставив по себе добрую, а не худую память. Даже самого Христа осмеливался Грифиус осыпать упреками за то, что он бездействует, когда люди безмерно страдают. «Помоги, пока утлый челнок еще не разбился о скалы! – восклицает поэт, обращаясь к Христу. – Неужели же вопли отчаяния не могут пробудить тебя от сна?» (сонет «Вставай! Вставай! Пробудись, владыка Христос! Смотри, как неистовствуют ветры!»).
Представляя себе мир юдолью слез и страданий, ареной неутихающей борьбы враждующих сил, Грифиус вполне закономерно обратился к жанру трагедии, еще не получившему в Германии заметного развития. Он явился первым выдающимся немецким «ученым» драматургом,
стремившимся привить немецкой драматической литературе формы новейшей европейской риторической драмы, основанной на определенных «классических» правилах.
Будучи полиглотом, человеком всесторонне образованным, Грифиус мог непосредственно опираться на богатый опыт как современной, так и древней европейской драматургии, в том числе на практику нидерландского (Вондел) и французского театра. Он культивировал александрийский стих, членил трагедии на пять актов, стремился соблюдать единство времени или под занавес выводил на сцену хор. При всем том Грифиус оставался драматургом самобытным, тесно связанным с немецкими условиями. Подчас в его трагедиях заключена огромная эмоциональная и интеллектуальная сила, заставляющая вспоминать о Шиллере.
В предисловии к своей первой трагедии «Лев Армянин, или Цареубийство» (1646) на сюжет из византийской истории начала IX в. Грифиус заявлял, что намерен извлечь горький урок из бедственного положения страны, «погребенной под собственным пеплом и превратившейся в игралище мирской тщеты». Тридцатилетняя война подходила к концу, породив невероятный хаос во всех сферах жизни. При этом источником народных бедствий являлись не только военные опустошения, но и господство реакционных сил в стране, душивших все живое. Немецкий партикуляризм придавал княжеской тирании особенно уродливые, циничные формы. Понятно, что мимо вопроса о тирании не мог пройти такой писатель, как Грифиус, глубоко скорбевший о страшном падении отчизны. Тирания, попирающая нравственный закон, была для него одним из наиболее мрачных выражений «мирской тщеты». В связи с этим тираноборческие мотивы звучат почти во всех его трагедиях, начиная с «Льва Армянина...».
В этой ранней трагедии Грифиуса изображена заслуженная гибель коронованного деспота – императора Льва V, преступно захватившего византийский престол. Заговор против узурпатора организует военачальник Михаил Бальба. В кругу заговорщиков он гневно обличает преступления императора. При этом рисуемая Михаилом картина византийского неустройства, несомненно, во многом напоминала состояние феодальной Германии XVII в. Государство изнывает под бременем деспотизма. Двор стал притоном убийц, логовом предательств. Здесь тон задают временщики и льстецы, бесследно исчезла свобода, повсюду царят страх и ужас. Свирепый нрав монарха, его необузданная алчность, разлад в империи, раздоры в церкви, неверность в государственном совете, волнения в городе уже довели страну до крайней степени падения. Во имя попранной свободы и справедливости Михаил поднимает стяг мятежа.

А. Грифиус. «Оды и сонеты»
Фронтиспис лейпцигского издания 1663 г. Гравюра Чернинга
Но не только люди судят тирана. Грифиус обрушивает на него гнев небес. Заговорщики лишь выполняют волю всевышнего, предрешившего гибель венценосного злодея. Все начинания Льва оборачиваются против него. Со всех сторон теснят его грозные пророчества. Бессилие императора становится все более очевидным. Он знает, что рука всевышнего настигнет его в любом месте. И действительно, вскоре заговорщики убивают его в храме, у алтаря, во время пасхального богослужения. Не спасает тирана даже «животворный» крест, к которому он прильнул всем телом. Его черная кровь пятнает древо, на котором некогда был распят спаситель. Свершилась воля небес. Деспот повержен, но события в храме бросают зловещий свет на грядущие судьбы нового императора. Ведь торжество Михаила воздвигается на предательском убийстве и святотатстве. От трона до темницы – один шаг, а высота и бездна неразлучны. Напрасно цари мнят себя живыми богами. Все в мире изменчиво и бренно (хор придворных).
Эти экклезиастические мотивы, столь характерные для барокко, придавали трагедии мрачный оттенок. Ведь тираноборческий порыв Михаила Бальбы ничего не мог изменить в трагическом круговороте жизни. Византия не пробуждалась от тяжелого сна, а божественная справедливость в руках людей оборачивалась святотатством и предательством. Но ведь и Германия, угадываемая за контурами византийской истории, истекая кровью, блуждала в то время в кромешном мраке. Суровая правда жизни водила трагическим пером Грифиуса. И все же пьеса осуждала тиранию и ее мрачные порождения, отражая протест лучших людей Германии против произвола коронованных деспотов.
Однако, когда в Англии в 1649 г. восставший народ казнил короля-тирана, Грифиус не только не понял огромного исторического значения Английской буржуазной революции, но и осудил казнь венценосца в трагедии «Убиенное величество, или Карл Стюарт, король Великобритании». Пьеса (в первой редакции) была написана в 1649 г. под свежим впечатлением казни короля. Грифиус окружает Карла I ореолом мученичества, а пуритан, сокрушивших королевский трон, рисует извергами и тиранами. В заключительном акте трагедии хор убиенных королей взывает к небесам о мщении за смерть английского самодержца. Все это говорит о том, что свободолюбие бюргерского драматурга витало в мире абстракций, а его политические идеалы отнюдь не были революционными. Следует, однако, иметь в виду, что после ужасов Тридцатилетней войны любое кровопролитие и общественное потрясение казались немецкому писателю преступными и враждебными человеку.
К событиям недавнего прошлого обращена и трагедия-мартиролог «Екатерина Грузинская, или Несокрушимая стойкость» (изд. 1657). В ней Грифиус изобразил судьбу царицы Кахетии Кетеваны, матери грузинского царя-поэта Теймураза I, которую иранский шах Аббас I повелел в 1624 г. предать лютой смерти за то, что она отказалась отречься от христианства и стать его супругой. В трагедии Екатерина обнаруживает беспримерную стойкость. Решительная моральная победа на ее стороне. Ради Иисуса Христа готова она вытерпеть самые страшные пытки. Смерть ее не страшит. Мученический венец представляется ей высшей наградой. Поэтому с восторгом выслушивает она свой смертный приговор.
В противоположность Екатерине, обретшей внутреннюю цельность в религиозном подвижничестве, шах Аббас исполнен глубокого внутреннего смятения. Любовь борется в нем с ненавистью и жаждой мести. Он словно весь соткан из непримиримых противоречий, которые в конце концов доводят его до порога безумия. В истолковании Грифиуса шах Аббас – воплощение деспотизма и дурных эгоистических страстей, чреватого раздорами, смутой, устрашающими контрастами и преступлениями, в то время как жертва царского произвола – Екатерина олицетворяет собой нравственную чистоту и могущество духа. И хотя царство героини трагедии не от мира сего, все же пьеса Грифиуса, клеймившая религиозный деспотизм, звучала достаточно злободневно в Германии, сотрясаемой разгулом религиозной нетерпимости.
К теме самодержавного произвола Грифиус обращается также в трагедии «Великодушный правовед, или Умирающий Эмилий Павел Папиниан» (1659). Опираясь на труды римских историков, он изображает в ней трагическую гибель знаменитого римского юриста Папиниана, который предпочел умереть, но не уступить тираническим проискам императора Каракаллы. Автор не щадит мрачных красок при изображении деспотизма и той порочной придворной среды, которая окружает самодержца.
Драматурга восхищает гражданское мужество и нравственное благородство Папиниана. Однако, ненавидя тиранический произвол, он оказывает ему только пассивное сопротивление. Он такой же подвижник и мученик, как Екатерина Грузинская. Оба они способны одерживать лишь моральные победы. Зато в их моральном подвиге заключена огромная сила духа, неподвластная низкому миру эгоизма и тирании. Правда, герои Грифиуса погибают, а этот низкий преступный мир остается, но их гибель утверждает незыблемый нравственный принцип, освященный небесами. Так тленное сталкивается в трагедии Грифиуса с вечным, в царстве мрака вспыхивает свет, уводящий за пределы косного земного бытия. В связи с этим в трагедии Грифиуса в качестве безымянного героя нередко появляется потусторонний мир. К нему тянутся многочисленные нити. О нем напоминают призраки, встающие из могил. О нем гласят вещие сны и хоры погибших.
Подчас сверхъестественные силы, долженствующие, по мысли Грифиуса, олицетворять неусыпную бдительность и всемогущество небес, непосредственно вторгаются в ход мирских дел, обуздывая греховные влечения людей и тем самым спасая их от козней дьявола. Так дело обстоит в трагедии «Карденио и Целинда» (ок. 1649), героями которой выступают не монархи и царедворцы, как обычно в драматургии классицизма, а простые люди, в силу чего эту пьесу можно рассматривать как один из ранних опытов немецкой «мещанской» драмы. К тому же в пьесе отсутствует и обычная для «высоких» трагедий кровавая развязка. Но, конечно, пьеса Грифиуса только отчасти соприкасается с более поздней мещанской драмой, тяготевшей к очень трезвому изображению повседневных будничных событий. «Карденио и Целинда» – это прежде всего драматизированная новелла о демонической страсти, украшенная всеми цветами барочного вымысла. Страсть заставляет студента Карденио помышлять об убийстве своего счастливого соперника, и только вмешательство потусторонних сил (появление призрака) разрушает его преступные планы. Безумная, темная страсть толкает гетеру Целинду на путь святотатства. Желая вновь привязать к себе Карденио, полюбившего другую женщину, Целинда по совету колдуньи Тихе спускается в гробницу некоего рыцаря, убитого в свое время Карденио, чтобы добыть сердце покойника, необходимое для колдовства. Но вновь вмешательство потусторонних сил (говорящий мертвец) разрушает преступные планы. Потрясенные пережитым, Карденио и Целинда принимают твердое решение навсегда покинуть этот грешный, суетный мир. И хотя победу над дурными страстями им удалось одержать благодаря вмешательству таинственных сил, приведенных в действие благими небесами, тем не менее их нравственное очищение знаменует торжество в человеке светлого начала над темными силами преступных влечений. Характерно только, что средством нравственного очищения выступают в барочной драме Грифиуса страх и ужас.
Ужасом веет от описания пыток, убийств и казней, в изобилии приводимых в трагедиях Грифиуса. О суетности земного могущества неумолимо твердит Вечность, появляющаяся на сцене, «заваленной трупами, статуями, коронами, скипетрами, мечами и т. п.» («Екатерина Грузинская», пролог). Мрачный колорит пьес усугубляется жуткими сценами колдовства («Лев Армянин», акт IV, сцена 2), изуверств, святотатств, появлением призраков. Все в трагедии Грифиуса до крайности напряжено, все чревато внезапными катаклизмами, наполнено резкими диссонансами. Увеселительный сад мгновенно превращается в «отвратительный пустырь», юная дева – в скелет мертвеца, угрожающий смертоносными стрелами («Карденио и Целинда», акт IV). Храм становится ареной кровавой расправы («Лев Армянин», акт V). Любовь порождает смерть («Екатерина Грузинская»).
Грифиус не устает нагромождать кричащие антитезы и оксюмороны («бессильная сила», «безжизненная жизнь», «беззаконный закон» и пр.). Он любит пышные риторические формы и в этом продолжает традиции поэтов-классицистов. Однако если последние тяготели к риторике величавой, торжественной и несколько холодной, то в трагедиях Грифиуса звучит речь, клокочущая бешенством или пронизанная бурным отчаянием, иногда почти бессвязная. Подчас пространные монологи героев Грифиуса почти целиком состоят из восклицательных предложений, оборотов и междометий, которые, как бушующие волны, налетают друг на друга, подавляют читателя своим бешеным клокотанием («Лев Армянин», акт II, сцена 6).
Но Грифиус писал не только кровавые трагедии. Его перу принадлежит также ряд комедий, относящихся к лучшим образцам немецкой комедиографии XVII в.
В комедиях Грифиусу уже не нужны высокие котурны. В них он ближе к повседневной жизни. Он даже готов осмеять надутую прециозность риторических трагедий либо в нелепом и смешном виде выставить социальные уродства своего времени. Пародийные тенденции содержит комедия «Господин Петер Сквенц» (1658), представляющая собой вольную обработку известного эпизода из шекспировской комедии «Сон в летнюю ночь». Под руководством хитроумного писаря и школьного учителя Петера Сквенца простоватые ремесленники разыгрывают перед царской четой «преизрядное действо» о любви Пирама и Тисбы, «веселое и печальное для исполнителей и зрителей». В исполнении наивных простолюдинов действительно печальная любовная история, обремененная пышными фестонами классицистской риторики, превращается в веселый фарс. Галантная жеманность придворной трагедии самым забавным образом «приземляется», обнаруживая свою внутреннюю фальшь. Между прочим, среди исполнителей «преизрядного действа» перед публикой появлялась гротескная фигура популярного шута Пиккельхеринга – завсегдатая голландских и немецких комедий XVII в.
Гротескные маски наполняют также многоязычную комедию «Хоррибиликрибрифакс» (1663). Парад монстров открывают здесь два «хвастливых воина», носящие причудливые имена. Это – «высоко и великоблагорожденный, несравненный, необоримый, мужественный» капитан Хоррибиликрибрифакс от Громовой Стрелы и капитан Дарадиридатумтаридес Ветрогон от Тысячи Смертей, в лице которых Грифиус, используя плавтовскую традицию, не без остроумия высмеивает высокомерных кичливых и заносчивых бездельников в офицерских мундирах, которые по окончании Тридцатилетней войны наводняли Германию, мечтая о легкой наживе и привольной праздной жизни.
Среди гротескных масок комедии видное место занимает также ученый педант Семпроний, исполненный крайнего самомнения. Из него, как из рога изобилия, непрерывно сыплются греческие и латинские фразы, перемешанные цитатами из классических авторов, с точным указанием литературного источника. Гротескным маскам комедии под стать «разборчивая невеста» – молодая дворянка Селена, которая становится жертвой своего безмерного честолюбия. Она отдает руку нищему проходимцу капитану по имени Дарадиридатумтаридес, ослепившему ее своими «великосветскими» манерами.
Однако в этом мире корысти, лицемерия, бахвальства, самомнения, ученого педантизма, обмана и лукавства Грифиус все же находит светлые образы. Оказывается, в мире не все прогнило, не все затянуто тиной порока. В лице бедной и добродетельной девушки Софии, готовой скорее голодать и даже умереть, чем вступить на стезю порока, автор прославляет нравственную красоту человека. Только конечное торжество Софии куплено дорогой ценой. На каждом шагу ее подстерегают опасности. Ее целомудрию грозят соблазны и насилия. И лишь подвижническая стойкость безупречной девушки открывает ей врата радости и благополучия. Судьба Софии придает комедии трагический оттенок. Сама жизнь ее висит на волоске. Уродливые маски порока обступают ее тесным кольцом. Только счастливый случай спасает ее от нищеты и гибели.
«Хоррибиликрибрифакс» – превосходная комедия нравов. Перед глазами автора стояла Германия, переживавшая период глубокого общественного и нравственного падения. Сама жизнь подсказывала ему нелепые, гротескные образы. Драматург имел все основания горько сетовать на высокомерие, алчность и нравственную испорченность немецкой знати; надутое чванство и паразитизм офицерских кругов; происки своден, размножившихся в период всеобщего разорения; заносчивый педантизм последышей гуманизма, презиравших все немецкое и «вульгарное»; а также на порчу немецкого языка, засоренного в годы войны иноземными словами и оборотами.
Реалистические черты проступают и в «крестьянской» комедии «Возлюбленная Роза» (1660), написанной на крестьянском силезском диалекте. Комедия, включенная в довольно бесцветную придворную пьесу «Влюбленный призрак», всецело посвящена жизни силезских крестьян. В то время когда на востоке Германии свирепствовали крепостники, а придворные поэты либо вовсе игнорировали жизнь поселян, либо рисовали ее как безмятежную, вымышленную идиллию, Грифиус заговорил о крестьянах как о живых людях, способных любить и страдать, показав попутно процесс социальной дифференциации немецкой крепостной деревни XVII в.
Комедия «Возлюбленная Роза» – наиболее демократическое произведение Грифиуса, свидетельствующее о том, что ему в конце жизни удалось ближе подойти к народу и к проблемам его повседневной жизни. Если в ранних своих произведениях Грифиус подчас порывался в мир иной, а здешний мир рисовался ему юдолью страха и ужаса, то в комедиях, завершающих его творческий путь, он уже прокладывает дорогу бытовой немецкой драме, которая достигла своего расцвета в XVIII в.
БЁМЕ И ДРУГИЕ МИСТИКИ
К числу характерных явлений немецкой духовной жизни XVII в. относится широкое распространение мистических взглядов и настроений. В религиозном экстазе многие искали забвения от ужасов окружающей жизни. Когда все вокруг шаталось, трещало, готово было рухнуть и ниоткуда нельзя было ждать помощи, человек, трагически предоставленный самому себе, порывался к богу, видя в нем единственный надежный оплот. Пытаясь найти кратчайшие пути, ведущие к Спасителю, он искал их в глубине своего пламенеющего сердца.
В XVII в. мистические веяния проникали в философию и в литературу. Они заявляли о себе в творениях Шпее, Герхардта, Грифиуса и др. Даже среди учеников рассудительного Опица встречались поэты, тяготевшие к мистицизму. Такими поэтами были сын сапожника – силезец Андреас Скультетус (ок. 1622—1647), страстно осуждавший губительную войну, автор лирического сборника «Победная пасхальная труба» (1642), и сын пастора Даниэль Чепко (1605—1660), который в своих рифмованных афоризмах («Монодистихи») оживлял идейные традиции Мейстера Экхарта и других немецких мистиков-вольнодумцев.
При этом следует иметь в виду, что немецкий мистицизм XVII в. вовсе не был чем-то единым и равнозначным. У разных авторов были различные, иногда прямо противоположные цели. Религиозная экзальтация одних утверждала власть католической (Шпее) или протестантской (Герхардт) церкви над умами и сердцами людей, в то время как у других она оборачивалась против церковной рутины и становилась «ересью», вызывавшей негодование правоверных. Ведь, невзирая на разгром освободительного движения в 1525 г., в передовых кругах Германии продолжала жить мечта о свободе, справедливости и человечности. Только в новых исторических условиях эта мечта уже не могла опереться на социальную активность масс. Ее сферой стала область духа, пытавшегося сбросить с себя оковы официальной идеологии. Именно в этом обращении к самоценной человеческой личности, в протесте против мертвящей рутины, против несправедливого миропорядка, поддерживаемого церковной ортодоксией, наконец, в провозглашении необходимости «новой реформации», которая очистит христианский мир от скверны и приблизит его к богу, и заключался прежде всего «еретический» элемент немецкой мистики XVII в.
Одним из первых на церковную ортодоксию посягнул философ-самородок, крестьянский сын Якоб Бёме (1575—1624), занимавшийся в Герлице сапожным ремеслом. Этот скромный труженик, подвергавшийся гонениям со стороны лютеранского духовенства, высказывал смелые мысли, давшие впоследствии основание Л. Фейербаху назвать его «теоретическим материалистом». Герлицкого философа высоко ценили также Шеллинг и Гегель, отмечавший «великую глубину мысли Якоба Бёме», его диалектику, попытку соединить абсолютные противоположности. «Темной, но глубокой душой» назвал Бёме молодой Ф. Энгельс, с интересом штудировавший его замысловатые творения (Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956, с. 265).
Прежде всего учение Якоба Бёме о боге решительно не совпадало с учением церковников. Склоняясь к пантеизму и отвергая ходячее мнение, согласно которому «бог обитает только над голубым небом звезд» («Aurora, или Утренняя заря», 1612), Бёме утверждал, что бог есть все и пребывает везде. «Когда имеют небо и землю, – писал он, – звезды и стихии, и все, что в них, и все, что над всеми небесами, то тем самым именуют всецелого бога». В другом месте он уподобляет мир саду, в котором почва знаменует природу, древесный ствол – звезды, ветви – стихии, плоды, растущие на дереве, – людей, а животворный сок дерева – бога. Так, бог и природа сливаются у Бёме в единый могучий поток бытия. Не случайно, конечно, немецким философом живо интересовались на родине Спинозы. Именно там, в Амстердаме, в 1675 г. увидело свет первое Собрание его сочинений.

Портрет Якоба Бёме
Гравюра 1677 г.
Представление Бёме о мире отличалось от представления библейского, согласно которому мир является чем-то раз и навсегда данным. Ведь, завершив творение, создатель в день седьмой почил удовлетворенный. У Бёме же мир не знает неподвижности. Он все время течет, развивается, сам из себя возникает в непрерывном борении отрицающих друг друга начал, составляющих вместе с тем единое целое. И в этом неутихающем творческом процессе формируется не только природа, но и творящая божественная сила («Описание трех начал божественной сущности», 1619—1620). Характерно, что «вечной матерью природы» Бёме называет христианскую троицу, которая, по его словам, есть «кипящее, подвижное существо и содержит в себе все силы, подобно как природа» («Аврора»). И о сущности добра и зла как о двух сторонах одного потока («О рождении и определении всех существ») Бёме рассуждал совсем не так, как было положено в официальном богословии. И человека он рассматривал как часть природы, как микрокосм в макрокосме, полагая при этом, что человеку не следует искать свою родину где-то в стороне от великой матери природы («Clavis, или Ключ»). Ведь, существуя в боге, он и ад и рай обретает в себе самом. Но подобная мысль освобождала верующего от церковной опеки, равно как зачеркивала учение Лютера о предопределении. Особенно отчетливо эта антицерковная мысль выражена в следующих словах Бёме: «Святой имеет свою церковь в самом себе, изнутри она гласит и поучает; Вавилон же владеет грудой камней, куда входят, чтобы лицемерить и притворяться, покрасоваться в нарядных одеждах, представиться набожными и благочестивыми; каменные храмы – их божество, на них они уповают. В отличие от них святой в любом месте имеет храмы при себе и в себе; ибо и стоит он и идет, и лежит и сидит в своих храмах, в истинной христианской церкви, в храме Христовом: дух святой проповедует ему из всех творений, и на что бы он ни взглянул, все это проповедники господа» («О возрождении»). А так как под «святостью» Бёме разумел не внешнюю обрядность, но жизнь «по правде», он не придавал большого значения конфессиональным ограничениям. Он даже утверждал, что многие «иудеи, турки и язычники, хорошо оправившие светильники свои», раньше нерадивых христиан «войдут в царство небесное» («Аврора»). И писалось все это в стране, отравленной религиозной враждой, накануне опустошительной войны, развернувшейся под конфессиональными лозунгами.
Но, высоко подымая человека-богоносца, превосходящего даже в чем-то ангелов, Бёме видит темные, трагические стороны земной жизни, справедливо, по его словам, именуемой «долиной плача, наполненной скорбью, постоянным убийством, войной, борьбой и раздором» («Аврора»). Миром правят четыре сына дьявола: Гордость, Жадность, Зависть и Гнев. Ведь мир, кичащийся своим великолепием, уже «стоит посреди ада», ибо, покидая любовь, он «предается жадности, лихве и живодерству, и нет больше милосердия в нем. Каждый кричит: были бы у меня только деньги! Сильный высасывает у низкого мозг из костей и выжимает из него пот насилием» («Аврора»). Однако, скорбя о горькой участи обездоленных, Бёме не возвращается к заветам Томаса Мюнцера, призывавшего силой оружия сокрушить твердыни Вавилона. Утешение он ищет в идеальной «духовной природе», являющейся плодом его пылкого воображения. Столь же пылким воображением обладал Бёме и как писатель, рисуя вертоград ангелов, играющих прекрасными «небесными цветочками и сплетающих красивые венки» («Аврора»), либо рассыпая по страницам своих книг яркие сравнения и параболы и какие-то неожиданные и в то же время живые образы, способные тронуть, а то и поразить читателя.
Если Бёме был по преимуществу натурфилософом, развивавшим традиции немецкой натурфилософии предшествующих столетий, то многие представители мистической оппозиции главное внимание уделяли религиозно-нравственным и социальным проблемам.
О «всеобщей реформации», далеко выходящей за пределы религиозных начинаний, мечтал плодовитый писатель, ученый и педагог Иоганн Валентин Андрее (1586—1654), некоторое время связанный с тайным обществом розенкрейцеров, предшественников «вольных каменщиков». Одно из его наиболее значительных произведений на латинском языке – «Описание республики Христианополитанской» (1619). Это утопия. Идеальным государством, расположенным на далеком острове, управляют ученые теологи, заботящиеся о наилучшем общественном устройстве. Здесь уже осуществлены многие полезные нововведения, о которых можно было только мечтать в феодальной Германии. В частности, большое внимание уделяется на острове народному образованию. Как педагог и реформатор школьного дела, Андрее разделял многие передовые идеи «учителя народов» Яна Амоса Коменского, с которым состоял в переписке. Он был уверен, что до тех пор, пока не сокрушено невежество, на земле будут царить «тирания, софистика и лицемерие». Ведь темные силы, главенствующие в жизни, все время «убивают правду» («Менипп», 1617, и «Мифология христианская», 1619). Однако, призывая содействовать победе света над тьмой, Андрее некоторые свои произведения писал в манере крайне туманной и малопонятной, например мистико-аллегорический рассказ «Химическое бракосочетание» (1616), полный запутанной символики.
Выше уже отмечалось, что среди мистиков-вольнодумцев встречались поэты, и нужно сказать, поэты бесспорно одаренные. Наиболее значительным из них являлся Иоганнес Шеффлер (1624—1677) из Бреславля, сперва протестант, затем ревностный католик, выступавший в печати под псевдонимом Ангелус Силезиус (Вестник Силезский). Еще до перехода в католичество он начал по примеру Д. Чепко писать мистические «монодистихи», близкие по своей направленности Мейстеру Экхарту и Якобу Бёме. В 1657 г. стихотворения увидели свет. В 1674 г. появилось второе, расширенное издание книги, получившей название «Херувимский странник». В своих «монодистихах» Ангелус Силезиус подчас далеко отходил от церковных норм в сторону мистического пантеизма. Для него, как и для Бёме, бог – во всем и вся, человек же – инобытие бога:
Бог жив, пока я жив, в себе его храня.
Я без него ничто, но что он без меня?
(Перевод Л. Гинзбурга)
К этому следует добавить, что Ангелусу Силезиусу были близки «еретические» воззрения Дж. Бруно на Вселенную, например его учение о множественности миров, резко расходившееся с библейской традицией. «Ты утверждаешь, что на небосводе есть только одно солнце; я же говорю, что там много тысяч солнц», – пишет поэт.
И в дальнейшем, до самого конца XVII в., мистицизм продолжал играть заметную роль в духовной жизни Германии. Правда, в пиетизме, возникшем в конце XVII в. и широко развернувшемся в XVIII столетии, он почти вовсе утратил свой еретический характер, превратившись в законопослушную «религию сердца», зато у поэта Квирина Кульмана, пророка новой Реформации, он вновь стал дерзкой ересью, стремившейся сокрушить твердыни современного Вавилона. Сын бреславльского ремесленника Квирин Кульман (1651—1689) восторженно отзывался о Якобе Бёме, в творениях которого, по его словам, «правдиво описана сущность всего сущего». Только Кульмана занимала не столько натурфилософия, сколько судьба человечества, изнывающего под бременем деспотизма и конфессиональной розни. Папство называет он «антихристовой головой», а лютеран и реформатов, а также все другие секты – «антихристовыми волками, медведями и львами» («Воскрешенный Бёме»).
Ему уже рисовались величественные очертания приближавшегося «тысячелетнего царства», когда на развалинах ныне существующих государств и церквей возникнет новый, единый, справедливый мир, населенный праведниками, «без каких бы то ни было грехов, без шаек и сект, без войн и раздоров, без нужды и хлопот, болезней и горя, и будут жить люди так, как некогда жили в раю до грехопадения Адама» («Воскрешенный Бёме»). Мысли о новом, идеальном мире развивает Кульман также в утопии «О монархии иезуэлитской» (1682). Эта «монархия» должна прийти на смену четырем царствам, упоминаемым в «Апокалипсисе Иоанна». Монархом является здесь сам Христос. В остальном же в «пятом царстве» господствуют республиканские порядки: есть парламент, состоящий из представителей различных сословий, и новая церковь, осуществляющая заветы «Вечного евангелия», процветают всеобщее образование, передовая наука, социальная справедливость и свобода совести. В обновленном христианстве (религия иезуэлитов) растворятся все существующие религии, в том числе иудейская и магометанская, и тем самым прекратится конфессиональная вражда, разделяющая человечество. С годами взгляды Кульмана приобретали все более радикальный характер, приближаясь к требованиям христианского коммунизма, утверждавшего социальное равенство и отвергавшего частную собственность.








