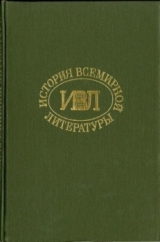
Текст книги "История всемирной литературы Т.4"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 82 страниц)
Гуманистическая концепция «Люцифера» и мотив восстания были развиты Вонделом в трагедии «Адам в изгнании, или Драма всех драм» (1664), рисующей грехопадение и изгнание из Эдема «первосозданной четы». Обе трагедии поэтому часто рассматриваются вместе, а вкупе с трагедией «Ной, или Гибель первого мира» (1667) как трилогия о «падении первого мира». Помимо этого, Вондел создает несколько трагедий, общую тему которых можно определить как историческую обреченность самовластья («Салмоней, царь Элидский», 1657, «Адония, или Бедственное властолюбие», 1661, «Цунчин, или Гибель Китайского господства», 1667, и др.). Но под царскими одеждами, за спорами о престолонаследии все яснее обнажается терзаемая антиномиями своего времени душа вонделовского человека. В драму все глубже проникают впечатления трудной личной жизни. Так, «Давид в изгнании» и «Давид восстановленный» (1660), «Фаэтон» позволяют почувствовать скорбь отца о блудном сыне Йосте. В принципе же Вондел – как Хофт, Рефсен – в духе своего времени всегда стоически сдержан в самоизлияниях и избегает прямого автобиографизма.
К этому же времени относится работа Вондела над переводом древнегреческих трагедий и «Поэтики» Аристотеля, что связано, в частности, с его углублением в природу трагического конфликта; центр тяжести в художественном мироощущении драматурга перемещается с классицизма на барокко. В первый «римский» период творчества (1610—1640), пору увлечения Сенекой, Вондел трактует трагическое как преимущественно внешнее потрясение, грозящее жизни общества, народа, героя (падение Иерусалима, гибель Саулова рода, убиение св. Урсулы и ее «сестер христовых», казнь апостолов Петра и Павла), сами же герои не несут в себе трагических противоречий (Гейсбрехт, Паламед, Иосиф, св. Урсула, Мария Стюарт). Уже в «Соломоне» и особенно в «Люцифере» проступают очертания новой концепции трагического – как внутреннего конфликта, столкновения противоречивых страстей, ведущего к гибельным последствиям. Углубляется понятие человеческого «я», его психологической и социальной детерминации; судьба, внешняя и враждебная человеку сила, творится теперь самим человеком – и так же слепо. В более общем плане Вондел эволюционирует от близкого ренессансному (как у редерейкеров, например) противостояния Добра и Зла к более диалектичному конфликту Добра и Зла, допускающему их сочетание, взаимопереход. Ответ на вопрос: «Что есть истина?» – усложняется, ускользает из рук.
В этом отношении самой интересной трагедией второго, «греческого» периода (1650—1670) может считаться «Иевфай» (1659). Неосторожный обет военачальника израильтян Иевфая, принесший ему помощь Иеговы и победу над аммонитянами, должен стоить жизни его единственной дочери Ифис (имя напоминает об Ифигении). Главный герой переживает тяжелую внутреннюю борьбу, он и инструмент, и одна из жертв трагедии. В столкновении отцовского чувства с религиозным долгом побеждает долг, но, выполнив его, отец-детоубийца проклинает себя. Кроткая жена Иевфая Филопея, лишившись дочери, превращается в разъяренную львицу, и даже священники возражают против жертвоприношения. Мало, однако, заключить, что Вондел еще раз осудил бессмысленный религиозный фанатизм и его «кровавый триумф». Слова Иевфая намекают на другое: бог равен совести, перед героем неотвратимо стоит проблема нравственного выбора, и автор не видит для нее однозначного решения. «Трагическое для Иевфая – для каждого человека – заключается в том, что он не может осуществить своей идеи, не запятнав себя» (Я. Бомхоф) – сделкой с совестью или кровью ближнего, например. Век Вондела не раз убеждал его в этом, и он, плоть от плоти своего времени, принял на себя его «трагическую вину».
Однако осознание этой «вины» не заслонило у Вондела жажду, поиск основных, устойчивых жизненных ценностей, конечной опоры шаткого людского бытия. Такой взгляд на вещи свойствен человеку барокко. И вряд ли возможно высветить всю – не раскрытую пока до конца, несмотря на сотни исследований, – концептуальную глубину вонделовской драмы, особенно второго периода, если видеть в ней одно отражение католической догмы или парафразу деяний и мук богочеловека. В конце концов «богоискатель» Вондел, подобно своему Адаму, остался верен земному человеку, с его силой и слабостью, красотой и неприглядностью. Мудрая любовь к людям и сочувствие неизбывным их страданиям в полном противоречий мире характеризуют особенно глубоко поздние трагедии Вондела.
«Иевфай» – лишь самый яркий пример барочной концепции Вондела. Жестокая альтернатива лежит в психологической основе большинства трагедий Вондела, в том числе и некоторых произведений первого периода. В любом варианте принимаемых героями драматурга решений неизбежна ужасная потеря или даже катастрофа, а компромисс невозможен. От солнечного пламени, волн потопа рушатся стены городов, разверзается преисподняя, гибнет Эдем, вся Земля. Внешние катаклизмы не только подчеркивают новый, тревожный взгляд на мир как на трагически непостижимый хаос, но нередко выполняют и эмблематическую роль – самостоятельно или в качестве фона духовной драмы героев, изображаемой и конкретно-психологически и обобщенно. Подобным же образом эмблематическую и, шире, символическую роль играют сами персонажи, прежде всего ведущие, причем второстепенные часто как бы воплощают в себе отдельные черты главного образа (земная греховность Соломона – в жене его Сидонии, верность высшему долгу – в первосвященнике и т. д.).
Центральный конфликт развивается на разных уровнях абстракции (борьба идей, группировок, личностей, героя с самим собой) и в обеих сферах – небесной (в теологическом плане) и земной (в плане культурно-историческом, политическом, психологическом). Возникающие драматургические параллели обусловливают многозначность, символизм самого действия – при всей его сознательной простоте и даже статичности. Произведения Вондела изначально предполагали активного, подготовленного читателя и никогда не были в числе популярных. Этот своеобразный, «темный» стиль Вондела-драматурга в какой-то мере предопределен и сложностью самой жизни – личной и общечеловеческой, и переформированием мира в творчестве писателя.
Если «Люцифер» был признанной самим Вонделом вершиной собственного художественного мастерства, то «Иевфай» – любимым детищем, в котором автор находил наиболее полное для себя воплощение классических правил. Злые языки утверждали, что Вондел писал трагедии с «Поэтикой» Скалигера в руках; известно, как он учил следовать образцам и правилам молодых поэтов в прозаическом «Введении в нидерландскую поэзию» (1650). Но, во-первых, «правильность» манеры, стилизаторство, подражание древним, как и мифологизация современности, остались в наследство от предшествующей эпохи. Во-вторых, поскольку в Нидерландах теории барокко не существовало, Вондел в поисках путеводной нити опирался на теорию классицистическую.
Классицизм великого преемника нидерландских гуманистов в той мере, в какой он присущ его творчеству, был продиктован, однако же, не одной лишь верностью традиции и не теоретическим голодом. В превращенной форме библейской или мифологической трагедии Вондел сумел выразить некоторые из тех мыслей о мире, об обществе и человеке, которые волновали величайших рационалистов его времени – Гоббса, Декарта, Спинозу. Именно в философском, гносеологическом плане, в объективном соотношении рационального и иррационального нужно искать самую глубинную основу синтеза барокко и классицизма у Вондела. Что же до правил, то «Поэтика» Скалигера (т. е. по существу Аристотеля) скорее прояснила, чем подсказала Вонделу его драматургический метод.
Насколько свободно Вондел обращался с формальными требованиями, видно на примере лирической линии многих его трагедий и пространных отступлений и картинных описаний, которые затормаживают внешнее действие (ибо упор делается на внутреннем). Среди персонажей часто отсутствует традиционный вестник – рассказ о происшедшем за сценой органически входит в текст, произносимый одним из главных героев; нет наперсников – их заменяет хор, который, однако, «в духе времени и предмета, как хор друидов в священном лесу, клич народа на шумном вече» (П. А. Корсаков). Наконец, в самой «правильной» трагедии, «Иевфай», Вондел допускает бросающееся в глаза «нарушение» – впервые в нидерландской драме применяет вместо александрийского стиха пятистопный ямб (точнее, ямбический пентаметр). Последнее было связано с более разговорным звучанием этого размера, с особым, интимным характером данного произведения (другой редкий пример – «Тайны алтаря»).
Как три единства позволяли предельно сжать внутреннее действие, сконцентрировать противоборство многих и разновременных сил в одном ведущем конфликте, так классическая форма в целом организует, дисциплинирует, сдерживает в узде мир кипящих страстей, роковых столкновений, переломных событий, весь тот хаос в человеке и вне его, который оптимально выражался средствами барокко и который Вондел стремился умерить, прояснить, дабы лучше постичь его, овладеть им.
Невозможно разъять живой организм вонделовского стиля, не повредив ему. Лишь условно можно позволить себе сравнение его с новой амстердамской ратушей Я. ван Кампена, классицистический скелет которой словно заполнен барочной плотью. Красочное и экспрессивное слово (с его типичным для барокко «отлетом» от подразумеваемого смысла), поражающая воображение метафора, выразительные повторы, размашистая гиперболизация, удвоение (умножение) синонимов, тавтологии, плеоназмы, аллюзии – все это создает впечатление живой, играющей светотенями, динамичной (Вондел неспроста больше всех частей речи любил глагол) и атектоничной, как это свойственно барочной драме, художественной массы, в действительности же подчиненной строгому, логически и эмоционально оправданному ритму развития: прилив, кульминация и отлив, поступь периодов, регулярность заключительных хоров-цезур. Последние, кроме того, перекидывают «барочный»
мостик между иллюзией и реальностью, художественным и действительным временем. В общий поток времени-истории включена и вся драма; как сама жизнь, она не любит замкнутой системы: завязка в ней обычно происходит еще до поднятия занавеса, а финал бросает свет в будущее (например, сотворение человека перед началом действия в «Люцифере» и предсказание его плачевной судьбы финальным хором).
Укрощенная классической мерой бурная стихия традиционного барокко приобретает в творчестве Вондела неповторимый облик. Словно бы дало подспудно себя знать то самое здоровое чувство реальности, которое решительно повлияло на гуманистическую концепцию Эразма, возвышенно-поэтически претворилось в живописи Рембрандта. Вонделовский стих, до предела использовавший потенции своей, классической условности, в конечном итоге также воодушевлялся правдой жизни. Как многие в его время, Вондел любил повторять, что жизнь – это театр, и театром своим боролся за улучшение этой жизни.
Хорошо знал он и другое изречение: «Поэзия есть говорящая живопись». В творчестве Вондела всеми красками переливается достигший полной зрелости нидерландский язык. Наравне с драматургией Вондела и, может быть, даже более щедро пышет барочным изобилием его поэзия, в особенности так называемые стихи «на случай», посвященные новой ратуше, театру, бирже, именитым лицам и т. д., – мозаики из общих истин и словесных красот, мастерски составленные, но лишенные органичности, при всей гениальной свободе владения поэтической формой. Индивидуальное восприятие Вондела проявлялось и в переводах: при сопоставлении «Арфических песен царя Давида» (1657) с псалмами, например, или его «Электры» с оригиналом Софокла барочная амплификация и динамизация первоисточника бросаются в глаза.
Вондел – это эпоха в нидерландской литературе, но он не создал большой школы. Среди его ближайших последователей в драматургии выделяются И. Аудан, Р. Ансло, И. Антонидес ван дер Гус, Л. Ротганс, Г. Брандт (который был и первым биографом Вондела). Трагедии Вондела во второй половине века вытесняются со сцены барочными «трагедиями с машинами» нового регента «Схаубюрха» Я. Фоса, проводившего принцип «видеть важнее, чем слышать».
Творчество Вондела позволяет особенно плодотворно ставить вопрос о месте нидерландской литературы XVII в., о ее широких общественных связях и влиянии на литературы Запада. В частности, давно изучается вопрос о воздействии Вондела на драматургию А. Грифиуса, поэзию Второй силезской школы и в особенности о возможных заимствованиях у Вондела, сделанных автором «Потерянного рая». Полагают далее, что тему и общую композицию поэмы подсказала Мильтону трагедия «Изгнанный Адам» Гроция, с которым английский поэт был знаком лично. Историки литературы находят серьезное влияние Д. Хейнсия у М. Опица (в «Книге о немецком стихотворстве»), у поэтов-неолатинистов Швеции и Франции, у теоретиков французского и английского классицизма. Богатые результаты дает анализ зарубежных литературных взаимосвязей творчества Хофта, Хейгенса. Это же относится к переводам Катса, Н. Хейнсия. При общем высоком уровне даже голландская литература XVII в. второго, если так можно сказать, плана представляла интерес для иностранного читателя. Активная же роль культурного посредника, которую играли Нидерланды той эпохи как политическое убежище для преследуемых церковью прогрессивных мыслителей (Декарт, Бейль, Локк), как крупнейший в Европе книгоиздательский и университетский центр, помогала распространению нидерландской философской мысли и художественной словесности далеко за рубежами страны.
Последнее уже не относится ко многим младшим современникам Вондела, которые начиная примерно с 1670 г. (года основания первого из многочисленных «поэтических обществ») вместе с художниками украшающе-классицизирующего направления (Б. ван дер Хелст, К. Нетсер и др.) тщатся обогатить свою оторвавшуюся от народной почвы литературу внешней культурой французского классицизма, но дальше соблюдения правил классицистической поэтики и формального мастерства не идут. Известное исключение на этом фоне – раннее творчество Яна Лейкена (Льежского) (1649—1712), автора сборника «Голландская лира» (1671), чья барочная, с уклоном в мистику условность (Лейкен испытывал влияние Я. Бёме) не мешает проявить себя – пусть «не ко времени» – живой и искренней радости бытия. Но впоследствии и его коснулся трезвый бюргерский дидактизм, который вместе с эпигонским, поверхностным культом классицизма должен был перейти в наследство литературе XVIII столетия от Золотого века в развитии художественной культуры Голландии.
ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ВЕКА
Из-за преобладающей тенденции к торговле и накопительству голландская буржуазия все более теряла свою историческую прогрессивность, превращаясь в прослойку рантье, аристократов денежного мешка. Морально-дидактическая литература,
в которую внесли свой вклад писатели разных идейно-художественных направлений эпохи, отвечала тем буржуазно-ограниченным настроениям, которые возобладали среди широких слоев зажиточного городского и сельского населения, особенно второй половины XVII в., когда окончательно рассеялись послереволюционные демократические надежды. Апостолом нидерландского, и не только нидерландского, мещанства на два с лишком столетия стал Якоб Катс (1577—1660), зеландский патриций, в прошлом важный государственный деятель (особенно популярен был Я. Катс в Германии, известен и в России как в переводах, так и благодаря монографии П. А. Корсакова «Иаков Катс, поэт, мыслитель и муж совета», СПб., 1839). Его поэмы «Брак» (1625), «Обручальное кольцо» (1637), «Старость» (1656) и др. – своего рода рифмованный домострой, доходчивая, не без юмора, проповедь умудренного жизнью, рачительного и набожного хозяина. «Как живописец нравов Катс прямо противоположен всему сильному, глубокому и возвышенному», отмечал Э. Верхарн, не находя у него «ни искры света и гения». Питая слабость к назидательной эмблеме (сборник «Зерцало старого и нового времени», 1632, и др.), Катс часто бывает до натурализма мелочен. В целом его поэзию можно связать с буржуазно-охранительной тенденцией нидерландского бытового реализма, которая приблизительно со второй трети века начала активнее проявлять себя в живописи (Г. Доу, Г. Метсю, П. де Хох и др.), а в литературе вышла на поверхность в плутовском романе последней трети века.
Появление плутовского романа подготовили многочисленные переводы знаменитых иноземных образцов этого жанра: «Ласарильо с Тормеса» (1669, с фр. версии – 1579), «Гусмана де Альфараче» (2-е изд. 1665), «Бускона» (1642, 1699), «Франсиона» (1669), нескольких новелл Сервантеса. С благословения издателей переводчики все внимание сосредоточивали на передаче увлекательной интриги, нередко огрубляя тонкости содержания и языка, делая купюры там, где задевалось религиозное чувство. Все это определило облик и оригинального нидерландского романа. Хотя, строго говоря, он не мог быть оригинальным не только литературно-генетически, поскольку отталкивался от переводных (и непереводных, если учесть распространенность в Нидерландах испанского и французского языков в ту эпоху) первоисточников, но в силу несвойственности самого типа профессионального пикаро для нидерландских условий второй половины XVII в.
Основная цель – развлечь публику – не предполагала в таком романе критики социально-экономических или политических неблагополучий, не говоря уже об антицерковных выпадах. Нидерландские авторы мало заботятся о познавательной ценности своих произведений. Это относится как ко многим посредственным, так и к немногим лучшим образцам данного жанра, романам «Дитя роскоши, или Гаагская ветреница» (2-е изд. 1679), «Двое знаменитых детей удачи, или Чудесная жизнь и диковинные похождения йонкера Михаэла ван дер Мусел, господина из Торнфлита, и Никласа де Моланбе» (1681), отчасти к «Торжествующему и говорящему дукату» (1682).
Сильные и слабые стороны нидерландского плутовского романа отразились в творчестве известного (и за рубежом) его представителя Николая Хейнсия (1656—1718), внука Д. Хейнсия. Писатель провел бурную жизнь, под стать своим героям: был замешан в убийстве, спасся бегством из тюрьмы, скитался по Европе. Вслед за талантливым переводом «Комического романа» Скаррона («Потешный роман, или Благородные комедианты», 1678) он пишет «Легкомысленное, занимательное и не менее удивительное житие Мирандора» (1-е изд., вероятно, 1687). Несмотря на сюжетные заимствования (из Сервантеса, Кеведо, Скаррона и др.), при всей верности традиционным требованиям жанра (характер интриги, сюжетные параллели, вставные эпизоды и т. д.), Хейнсию удалось создать вполне самобытное произведение. Во-первых, читатель видит перед собой свою страну, Нидерланды, в привычных картинках быта, типичных интерьерах и пейзажах, живых зарисовках второстепенных персонажей. Во-вторых, главный герой – вполне порядочный бюргер, выбившийся было из колеи, но к финалу снова благоустроенный (роль пикаро выпадает на долю его беспутного брата). В-третьих, весь тон романа, несмотря на известную дань социальной сатире, остается по-кальвинистски благочестивым, а в отношении католических священников и бродячих комедиантов – резким. Автор избегает прямой дидактики, проводя ее всем ходом повествования.
Второе произведение Хейнсия – «Дон Кларасель де Гонтарнос, или Неистовый странствующий рыцарь» (1697), переработка «Ипохондрического рыцаря» Дю Вердье – тяжеловатая пародия на рыцарский роман, в общем повторяющая схему «Мирандора»: благонравные главные герои, второстепенные – пикаро, благополучный конец для всех, кроме отпетых негодяев. Если в испанском плутовском романе герой, пикаро, объективно выступает как носитель стихийного социального протеста, то голландский бюргер давно забыл своих предков – гёзов и преклоняется перед основной буржуазной добродетелью – стяжательством, освященным господствующей религией. Плутовской роман в Нидерландах неизбежно должен был утратить свою реалистическую основу и не смог оставить заметных следов, тогда как демократическая по своему духу реалистическая комедия, в жанре которой пробовали свои силы самые различные по силе драматурги XVII в. (П. Хофт, К. Хейгенс, В. Фокенброх, Т. Асселейн, П. Бернаги), в первую половину следующего века оплодотворила творчество «голландского Мольера» – Питера Лангендейка.
*ГЛАВА 9.*
НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА. (Пуришев Б.И.)
ГЕРМАНИЯ В НАЧАЛЕ XVII в.
Если в немецкой литературе XV—XVI вв. преобладали мотивы и формы Позднего Средневековья и в ряду европейских литератур эпохи Возрождения она была едва ли не самой старомодной, то в XVII в., несмотря на крайне неблагоприятные исторические условия, она в значительной мере утрачивает свой былой архаический характер и начинает идти в ногу с другими современными европейскими литературами.
К XVII в. Германия подошла сильно ослабленной в социальном, политическом и экономическом отношениях. Германия превращалась в отсталую аграрную страну, в которой свирепствовала феодальная реакция. Священной Римской империей фактически правили князья, сумевшие извлечь для себя значительные выгоды из Реформации и трагического исхода Великой крестьянской войны. Власть императора распространялась почти исключительно на наследственные владения дома Габсбургов.
К началу XVII в. власть региональных правителей еще более возросла, а вместе с ней усугубилась и раздробленность Германии. Князья нимало не заботились о государственных интересах страны. Смуты и междоусобия выступали в форме неутихавшей религиозной борьбы. Германия фактически распалась «на преимущественно протестантский Север, на католический по преимуществу, однако, весьма смешанный Юго-Запад и на сплошь католический Юго-Восток» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 18, с. 573). К тому же и политика Габсбургов, тесно связанных с наиболее реакционными феодально-католическими силами тогдашней Европы, не сулила Германии ничего хорошего. Борьба империи с князьями привела лишь к усилению междоусобной борьбы, в которую вскоре вмешался ряд иностранных государств, стремившихся использовать политическую слабость Германии в своих корыстных интересах. Положение осложнялось тем, что император и князья, нуждаясь в сильных союзниках, сами вовлекали иноземцев в немецкие распри.
События начались с того, что для отпора преуспевающей католической реакции кальвинистские князья и протестантские города Южной и Западной Германии объединились в 1608 г. в Евангелическую унию. В ответ на это католические князья под предводительством герцога Баварского организовали в 1609 г. свой военный союз – Католическую лигу, тесно связанную с императором, папой и Испанией. Эта консолидация феодальных сил объяснялась, однако, не только враждой двух феодальных лагерей, но и тем, что с конца XVI в. в Германии вновь начало нарастать народное освободительное движение, вызывавшее глубокую тревогу господствующих сословий, которые еще не забыли о народной войне 1525 г. В австрийских землях в 1595—1597 гг. полыхало крестьянское восстание. Волновались городские низы. Положение осложнялось национально-освободительным движением народов, подавленных господством немецкого юнкерства. В 1618 г. против Габсбургов восстала Чехия. К инсургентам примкнули Моравия, Силезия, Венгрия и другие земли. С исключительной жестокостью восстание было подавлено католическими войсками. Ободренные успехом лигистов, в протестантский Пфальц вторглись испанские войска, помогавшие императору. За испанцами последовали датские, шведские и французские армии. Вскоре пламя военных действий охватило всю Германию. Началась Тридцатилетняя война (1618—1648), принесшая стране неисчислимые бедствия.
На протяжении трех десятилетий изо дня в день война калечила, разоряла, опустошала Германскую империю. Понятно, что из войны Германия вышла совершенно разрушенной. В выигрыше оказались лишь Швеция и Франция да некоторые территориальные князья (Бранденбург, Бавария, Саксония), которым удалось округлить свои владения. Зато население империи сократилось с шестнадцати миллионов примерно до шести. Волки бродили по опустевшим городам. Уничтожены или разграблены были ценнейшие культурные сокровища.
Вестфальский мирный договор, подписанный 24 октября 1648 г., окончательно закрепил политическую раздробленность Германии, предоставив князьям право вести совершенно самостоятельную как внутреннюю, так и внешнюю политику. И еще долго кровоточили и болели раны Германии, нанесенные войной. Не раз впоследствии вспоминали люди о военном кошмаре, боясь его возвращения.
К исходу XVI в. бюргерство утратило свое былое значение. В XVII в. уже не вольные города, а княжеские дворы, опиравшиеся преимущественно на феодальные элементы, задавали тон в общественной и культурной жизни страны. Многочисленные потентаты, представлявшие собой немецкий абсолютизм, не жалея средств, стремились подражать великолепию европейских королевских дворов, и прежде всего двору французского короля. Наряду с собственными чиновниками и солдатами они хотели также иметь собственных придворных поэтов и писателей. Среди последних немало было выходцев из бюргерских кругов, которых властители Германии охотно возводили в дворянское звание. Но большой национальной идеи немецкое мелкодержавие не могло подсказать отечественной литературе, поскольку самим своим существованием оно отрицало столь необходимую стране национальную консолидацию. Поэтому вполне естественно, что лучшие поэты, близко принимавшие к сердцу судьбы отчизны, не могли подчинять свое творчество жалким региональным интересам и в наиболее значительных своих произведениях далеко выходили за тесные пределы придворного мира. И голоса народа слышались в литературе XVII в. Звучали они в стихах и прозе. Особенно большое впечатление производят дошедшие до нас песни о бедствиях Тридцатилетней войны.
Но не только бедствия и ужасы войны порождали глубокий трагизм немецкой жизни. Его усугубляли также и разгул Контрреформации, и застарелая конфессиональная вражда, и бесчинства феодальной реакции, и порожденные отчаянием крестьянские мятежи 20—30-х годов, и дикая охота за ведьмами, и моровая язва, и прочие несчастия, обрушившиеся на Германию. Все было так запутано, так зыбко, противоречиво и нелепо, что многие, разуверившись в жизни земной, устремляли свои взоры к миру нездешнему. С надеждой и страхом ждали тогда прихода Страшного суда. В годы войны эти эсхатологические пророчества зазвучали особенно громко (анонимное стихотворение «Предвестник Страшного суда» и др.).
Вполне естественно, что в Германии в XVII в. широкого распространения достигли мотивы и настроения барокко, утверждавшего, что человек – лишь странник на этой бренной, жалкой земле. Контрреформация всемерно раздувала подобные настроения, свойственные, впрочем, не только католическим кругам. Но порыв в потустороннее, принимавший нередко экстатический характер, вовсе не исключал человека из сферы внимания немецких писателей. Следует отметить, что именно в XVII в. возрастает интерес к его душевному, личному миру и индивидуальная поэзия занимает видное место в литературном процессе. В XV—XVI вв. корпоративный бюргерский дидактизм заглушал лирические порывы. Пожалуй, лишь в народной песне, евангелических гимнах и отчасти в латинской поэзии прорывались они тогда наружу. В XVII в. личное начало утверждается в немецкой книжной поэзии, которая за короткий срок достигает значительного расцвета. Это усиление лирического начала особенно заметно в поэзии барокко или в поэзии, которая в той или иной степени соприкасалась с барокко. В немецких условиях именно литература барокко в течение длительного времени оказывала решающее воздействие на духовную жизнь страны. Классицизм, зародившийся еще до войны и имевший многообещающее начало (Опиц), был смят сокрушительным вихрем грозных событий. Зато литература барокко, которая взволнованно, с большой художественной силой отразила безмерный трагизм немецкой жизни, овладела почти всеми ведущими жанрами немецкой словесности, будь то лирика, драматургия (Грифиус) или роман (Мошерош). Примерно до середины XVII в., т. е. в период, непосредственно связанный с великими национальными потрясениями, эта литература была своего рода рупором немецкого горя. Ее характеризует большая душевная сила и страстный протест против уродств окружающей жизни. Позднее, на новом, послевоенном этапе литература барокко выступает в формах прециозной салонной словесности. Она утрачивает свою былую непосредственность и трагическую мощь. На исходе века быстро растет оппозиция прециозному жеманству. Она отчетливо проявляется в демократическом романе, правдиво рисовавшем трудную жизнь простых людей (Гриммельсгаузен), а также в борьбе за «хороший вкус», подготовлявший реформу Готшеда.
ОПИЦ И НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XVII в.
Наиболее значительным литературным событием первых десятилетий XVII в. явилась деятельность новой литературной школы, так называемой Первой силезской школы поэтов, признанным главой которой был уроженец Силезии Мартин Опиц (1597—1639). Одаренные поэты Теобальд Хёк, автор антологии «Красивый цветочный луг» (1601), и Георг Рудольф Векерлин («Оды и песни», 1618—1619), введший в немецкую поэзию жанр торжественной оды, подготовили последующие успехи этого нового направления. Силезскую школу можно рассматривать как ранний этап немецкого бюргерского классицизма, еще довольно тесно связанного с поэзией ренессансного гуманизма и в то же время подчас склоняющегося к барокко. Задача новой школы заключалась в том, чтобы освободить немецкую поэзию от средневековых напластований и, подчинив ее «разумным» правилам, ввести в ряд современных европейских литератур.
В «Книге о немецком стихотворстве» (1624), которая явилась первой поэтикой, написанной на немецком языке, и представляла собой основной манифест новой школы, М. Опиц, опираясь на авторитет античных и ренессансных авторов, в том числе Скалигера и Ронсара, решительно отстаивал требования, продиктованные «разумом» и «хорошим вкусом». Бюргерская поэзия XVI в. представлялась ему вульгарной и примитивной, и он противопоставлял ей литературный опыт ренессансной Европы, и прежде всего античную литературу. По его словам, «поэт должен быть весьма начитан в греческих и латинских книгах, могущих послужить для него школой поэтического мастерства», под которым Опиц разумел не только тщательную отделку стихотворения, но и поиски более «достойного», «благородного» стиля, способного возвысить литературные произведения над немецким мещанским захолустьем. Ведь подлинное искусство должно содержать большие мысли и чувства, а не превращаться в нарядную погремушку, звенящую по любому поводу. И хотя самому Опицу в качестве придворного поэта все-таки не раз приходилось выступать с легковесными стихотворениями «на случай», он тем решительнее призывал современников всемерно содействовать успехам большой отечественной литературы и, заботясь о чистоте немецкого языка, «сообщать немецкой поэзии тот блеск, который она давно уже должна была иметь».








