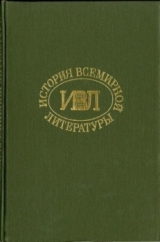
Текст книги "История всемирной литературы Т.4"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 82 страниц)
Реальная жизнь с ее конфликтами, острыми социальными противоречиями все шире входила в так называемую придворную литературу (например, у поэтов Мантыки – ум. 1635, Даи – ум. 1659, и др.). Прославленный поэт Наби (ум. 1712) в сатирических стихах остроумно высмеивал те же социальные пороки, что и Нефи, и Вейси. Он не мыслил человека вне связей с обществом и утверждал, что человек не может быть счастлив, если не заботится о благе общества. В поэзию Наби вошли приметы реальной жизни, которые ранее не привлекали внимания «высокого искусства». Поэт порицал сочинителей стихов, замкнувшихся в кругу привычных образов: вино и чаша, роза и соловей, локон и родинка и т. п. Он ратовал за поэзию мудрых мыслей, ибо ее задачу видел в том, чтобы наставлять людей, исправлять, опираясь на знание и религию, пороки общества. Сам Наби попытался стать учителем жизни, когда писал свою известную дидактическую поэму «Благо» («Хайрие»). В назидательных целях, стремясь оживить высокую поэзию, сделать ее доступной для читателя, он ввел в эту поэму в большом количестве народные пословицы и поговорки. Много сюжетов из народных сказок использовано Наби в другой его интереснейшей поэме, «Хайрабад» («Страна добра»), тематически опиравшейся на поэму перса Аттара и некоторые стихи Низами и Навои. Примечателен положительный герой «Хайрабада» – выходец из «низов» общества, вор Чалак, который показан человеком добрым, смелым, энергичным. Антиподами этого типичного героя городской литературы выступают в поэме придворные во главе с самим султаном.
Много общего с поэзией Наби у известного его поэта-современника Сабита (ум. 1712). Газели и касыды, входящие в диван Сабита, отвечают всем требованиям классической поэтики; их отличают при этом живые описания природы, естественно остроумный тон рассказа, мастерское использование простонародной, даже вульгарной лексики, народных пословиц и поговорок. Большую оригинальность придает его поэзии своеобразный прием – стихи, якобы серьезные, вдруг оказываются насмешкой автора над обветшавшими представлениями читателя о предмете поэзии, издевкой над читательским пристрастием к «чистой» лирике.
Поэзия Сабита обретает обличительную силу, когда он пишет о современном ему обществе. В его сатирические стихи о шейхах, проповедниках, святошах входит дыхание самой жизни (поэт многое повидал, служа кадием в разных краях империи – от Балкан до отдаленных районов Анатолии). В «Книге парикмахера» («Бербер-наме»), в «Книге ущелья» («Дере-наме»), в «Рассказе о падишахе Амр-уль-Леисе» («Амр-уль-Леис») герои из народа действуют в традициях фольклорных персонажей анекдота, плутовской повести и т. п. Прямая связь с фольклором и определяет своеобразие этих поэм Сабита.
Турецкая суфийская поэзия к началу XVII в. утратила былое значение и претерпела существенные изменения. С одной стороны, лишившись в творчестве ряда поэтов своих демократических тенденций, она все более замыкалась в узких рамках религиозной мистики. С другой, у поэтов, связанных с крестьянскими и ремесленными кругами, она все чаще обращалась к устной народной поэзии, используя ее образную систему, ее поэтику.
В этой связи привлекает внимание своеобразное творчество шейха Ниязи-и Мисри (ум. 1694). Дервишский поэт-мистик, он порой высказывал идеи, несовместимые с взглядами мусульманина (ему даже приписывали тайное сочувствие христианству), и такие его стихи воспринимались как мятежные, «бунтовщицкие». Ниязи-и Мисри трижды подвергался изгнанию и умер в ссылке.
Сходные процессы можно отметить и в ашугской поэзии. Ашуги (турец. ашыки), связанные с ремесленными и торговыми кругами, а также с янычарами, испытывали на себе в XVII в. влияние письменной классической поэзии, часто следовали ее эстетическим принципам, пользовались ее поэтикой, метрикой и отходили от народных песенных традиций (например, Ашык Омер, Гевхери и др.). Этот процесс был менее заметен в творчестве ашугов, близких к крестьянской среде: они по-прежнему придерживались народных традиций. Сохранялись замечательные ашугские произведения, среди которых следует упомянуть сочинения в традиционной форме жалобы, в которых высказывалось недовольство порядками в стране, попранием прав человека, падением нравов.
Среди ашугов талантом, верностью народным поэтическим традициям, широтой отображения жизни выделялся Караджаоглан (1606—1679 или 1689). В лирических стихах и в героических песнях он умел рассказать и о своих личных горестях, не отделяя их от бедствий народных, и о судьбах народа. Поэтому так проникновенны его стихи во славу турецких повстанцев, боровшихся с социальной несправедливостью. В этом его творчество перекликалось с героическим эпосом «Кёроглу» («Кёр-Оглы»), широко известным в странах мусульманского Востока и особенно популярным в Азербайджане и у народов Средней Азии. Турецкая версия «Кёроглу», окончательно оформившаяся в XVII в., также отражает народные представления о справедливом обществе; главный герой выступает с позиции борца с притеснителями бедняков, воюющего за счастье людей. В эпосе нашли непосредственный отзвук народные восстания конца XVI – начала XVII в.
В эпическом творчестве турок, азербайджанцев и ряда других народов Востока значительную роль играли разнообразные в жанровом и тематическом отношении дестаны (дастаны) в стихах и прозе (любовные, героические и др.). Большой известностью пользовался дестан «Керем и Аслы», названный по имени главных героев. Предполагают, что его автором был ашык Керем, чья подлинная биография заслонена более поздними легендарными рассказами о нем, а сам он выступает уже в роли героя дестана. В основе этого произведения – трагическая история любви сына хорезмского правителя мусульманина Керема и дочери христианского священнослужителя – армянки Аслы. Прозой дается в основном сухая информация о ходе событий, а главные достоинства дестана заключены в его обширных стихотворных частях, функционально аналогичных стихам «Кёроглу».
В XVII в. был создан и ряд прозаических сочинений, преимущественно исторического характера, в которых отразились мысли передовых людей того времени. Критическое отношение к общественным порядкам, осуждение причин упадка Османской империи составляют пафос таких широко известных сочинений, как «Трактат» («Рисале») Кочи Бея Гёмюрджинского (ум. в середине XVII в.), «Резюме» («Фезлеке») Кятиба Челеби, иначе – Хаджи Калфа (1609—1656), десятитомная «Книга путешествий» («Сейахат-наме») Эвлии Челеби (1611—1682), «История [написанная] Печеви» («Печеви тарихи») Печеви (1574—1650). Названным книгам свойственны отступления публицистического характера, содержащие авторскую оценку излагаемых исторических событий. Часто эта оценка выражена подчеркнуто эмоционально, иногда – остросатирически: многое позволяет видеть в этих произведениях истоки жанра памфлета в турецкой литературе. Традиции прозаических сочинений XVII в. получат развитие на новом уровне в произведениях передовой общественной мысли Турции следующего столетия.
Наряду с прозой исторической, существовали в турецкой литературе XVII в. и произведения, называвшиеся рассказами (хикайе) или притчами (фикра). У таких писателей, как Сухейли Сейид Яхья (первая половина XVII в.), Исмаил Анкарави (ум. 1631) или Нергиси (ум. 1633), автор знаменитой прозаической «Пятерицы» («Хамсе»), они были связаны с фольклором, в частности с репертуаром народных рассказчиков – меддахов (они знали множество бытовых и фантастических историй, рассказов о животных, юморесок, анекдотов типа фацеций и др.), а также с народным теневым театром «Карагёз», где представления строились на основе известных сюжетов типа «Фархад и Ширин», «Тахир и Зухра» и т. п., но предоставляли возможности для импровизации на темы из турецкой жизни.
Совокупность позитивных явлений в литературе Турции XVII в. опровергает еще и ныне бытующее мнение, якобы этот век был периодом упадка. Передовые художники сумели и тогда отразить гуманистические идеи, народные представления о жизни и дать своей эпохе критическую оценку. В литературном развитии происходило также определенное «смещение акцентов»: трансформировались отдельные жанры и виды, начинало меняться назначение их, равно как и литературы в целом.
*ГЛАВА 2.*
ПЕРСИДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (Левковская Р.Г.)
XVII столетие в Иране началось в обстановке экономического и военно-политического укрепления государства Сефевидов. Наибольшего подъема оно достигло в период правления шаха Аббаса I (1587—1629). Его внутренняя и внешняя политика была направлена на создание сильной централизованной державы. С этой целью административные посты в государстве были переданы представителям иранской бюрократии, заинтересованной в укреплении центральной власти и в возрождении экономики страны. В результате было подорвано могущество кызылбашской кочевой знати с ее сепаратистскими устремлениями.
При шахе Аббасе I была реорганизована и перевооружена армия, что обеспечило Сефевидам успехи в борьбе с внешними врагами и позволило им не только вернуть утраченные ранее земли (Азербайджан, Луристан, часть Армении и Грузии), но и получить передышку от опустошительных войн с Турцией и узбекскими ханствами.
Реформы по упорядочению финансовой и налоговой системы стимулировали рост производительных сил страны, развитие земледелия и ремесел, расширение внутреннего рынка. При Аббасе I и его ближайших преемниках укрепляются торговые и дипломатические связи с Россией и рядом стран Западной Европы. Европейский купец, мастер-ремесленник, художник-живописец, ученый-путешественник были частыми гостями при дворе шаха и других крупных феодалов. В это время велось интенсивное городское строительство, особенно в центральных и западных районах страны. Не говоря уже о столице Сефевидов Исфагане, заново перестроенном и превратившемся в огромный город с 600 тыс. жителей, украшались и отстраивались такие города, как Шираз, Казвин, Йезд, Тебриз, Ардебиль, ставшие оживленными центрами торговли и ремесленного производства.
Однако в условиях феодальной монархии этот подъем не мог продолжаться долго. Уже вскоре после смерти Аббаса I возобновились столкновения с западными и восточными соседями, далеко не всегда завершавшиеся в пользу Сефевидов и расшатывавшие внешнеполитическую мощь государства. С ослаблением центральной власти вновь активизировались сепаратистские действия вождей племен, то и дело вспыхивала борьба между различными группировками феодальной знати и особенно ожесточенная – между светскими феодалами и шиитским духовенством, становившимся все более могущественным и влиятельным. Во второй половине столетия всевозможные налоги, подати, поборы тормозили развитие производительных сил, разоряли крестьянство и трудовое население городов, что, в свою очередь, подрывало торговлю, ослабленную к тому же освоением европейскими странами морских путей в Индию и другие восточные страны. Сокращение доходов от торговли нередко ставило и купечество в оппозицию к правительству. В стране постоянно вспыхивали народные восстания, в иранских владениях ширилось освободительное движение покоренных народов, вызванное жестоким произволом, гнетом и насилием властей. К концу XVII в. общий упадок сефевидского Ирана был уже совершенно очевидным.
Нестабильность в хозяйственно-политическом развитии Ирана, все большее обособление государства Сефевидов, выступавших воинствующими последователями шиизма, от других стран Востока, где господствующей формой ислама был суннизм, возрастающее влияние шиитского духовенства на все государственные дела сказались и на культурной жизни страны. Для культуры Ирана этого времени характерна неравномерность развития различных ее сфер. В условиях роста городского строительства и подъема торговли продолжают успешно развиваться архитектура, некоторые художественные ремесла, поставлявшие предметы иранского экспорта. В отдельных видах искусства почти на протяжении всего столетия наблюдается подъем и даже появляются тенденции, свидетельствующие о новом художественном видении мира. Это прежде всего относится к живописи, к искусству миниатюры, имевшему богатые традиции в прошлом. Для работ мастеров исфаганской художественной школы, сложившейся на рубеже XVI—XVII вв., характерно, как отмечает Б. В. Веймарн, с одной стороны, «стремление художников развивать свое творчество в пределах средневекового метода, доводя до изысканного совершенства декоративный художественный стиль, напрягая и исчерпывая все его возможности», а с другой – поиски новых приемов. Эти явления прослеживаются как в книжной, иллюстративной миниатюре, так и в миниатюре на отдельных листах, получившей в то время широкое распространение. Так, в работах Реза Аббаси (ум. 1637), наиболее яркого представителя этой школы, очевиден постепенный отход от канонов иранской миниатюры, в частности от плоскостности изображения и многокрасочной декоративности, от подчеркнутой четкости и плавности линий к рисунку живому, напряженному, сообщающему формам объемность, внутреннюю динамику и черты индивидуальности персонажам. С исфаганской школой связано и появление в иранской живописи новых тем – жанровых сценок из жизни простых людей, зарисовок человека труда. К концу столетия в миниатюре, особенно не связанной с рукописью, обычными становятся объемность изображения, использование светотени, воздушной перспективы в пейзаже, непосредственность передачи жизненных впечатлений. В творчестве некоторых художников начинает сказываться влияние европейской манеры письма. Все это приближало искусство миниатюры к станковой живописи.
Иная картина наблюдается в области точных и естественных наук, а также в философии. Здесь спад не прекращается даже в период относительного государственного расцвета Ирана. Шиизм, превратившийся в схоластическую догматическую систему, пресекал всякую попытку нерелигиозного материалистического миропонимания. Особенно в тяжелом положении оказалась свободная философская мысль. Противостоять засилью официальной литературы шиитского богословия и высказывать взгляды, не соответствовавшие религиозным догматам, было крайне опасно. Об этом красноречиво свидетельствует судьба Садры Ширази (ум. 1641) – последнего из замечательных иранских мыслителей-вольнодумцев. Его книга «О четырех путешествиях разума», в которой он нарочито сложным для понимания языком символов и аллегорий высказал мысли, по существу чуждые ортодоксальному исламу и господствовавшей идеологии, навлекла на него преследование со стороны духовных властей. И Садра Ширази вынужден был долгое время скрываться в глухом селении.
Сложные процессы присущи литературе этого времени. Она еще слабо изучена, а отсутствие в ней авторов, которых можно было бы сравнить с великими поэтами прошлых веков, давало основание многим иранистам говорить о постепенном угасании в персидской литературе XVI—XVII вв. того творческого подъема, какой был характерен для нее в предшествующие столетия. Однако, как свидетельствуют исследования последних лет, такая характеристика приложима в основном к творчеству представителей официального направления, подвизавшихся при феодальном дворе и ориентировавшихся на требования и вкусы придворно-аристократических кругов. В условиях централистских тенденций Сефевидов литературным центром страны продолжает оставаться шахский двор, снова вводится титул «царя поэтов». Аббас I и его наследники держали при себе большой штат поэтов, в этот период значительные собрания литераторов наблюдаются и при резиденциях некоторых крупных феодальных владетелей (например, в Герате, Ширазе).
Ведущими жанрами творчества придворных поэтов были панегирик и любовная лирика, в которых они стремились подражать признанным образцам одической касыды и газели блестящих мастеров прошлого. Однако это подражание чаще всего не имело уже ничего общего с творческим освоением произведений классиков. Традиционный материал все реже освещался глубокой мыслью и новыми яркими образами. Свои фантазию и мастерство поэты в основном направляли на техническое усложнение стиха, пытаясь перещеголять «искусственную» касыду своих предшественников в XVI в. и распространяя формалистические ухищрения на газель.
Многие поэты увлекались сочинением мухаммасов – пятистрочников, при написании которых требовалось к каждому двустишию газели другого поэта добавить три строки, выполненные в полном соответствии – формальном и смысловом – с заимствованными стихами. Такого рода упражнения нередко также демонстрировали лишь техническое мастерство автора пятистрочника.
Интенсивно в это время продолжалась традиция джаваб – ответа на произведения предшественников и особенно на пятерицы (см. об этом во II т. наст. изд.) или отдельные поэмы цикла. Однако и в этой области в большинстве случаев наблюдалось не обогащение традиции, связанное со стремлением поэта внести нечто новое в трактовку темы, по-своему переосмыслить концепцию произведения, а неоригинальный пересказ основных линий традиционного сюжета. Порой в угоду господствовавшим вкусам специально выхолащивался всякий смысл в таком пересказе. Примером тому может служить «инцидент» с пятерицей Хаджи Хедаяталлы Рази, придворного поэта шаха Аббаса I. В его пяти поэмах, вопреки принятым нормам, якобы оказались три двустишия, выражавших какую-то оригинальную мысль. Шах приказал вырвать у поэта три зуба, но за каждое из остальных двустиший заплатил ему по золотой монете.
Значительное место в литературе XVII в. занимают произведения на суфийские темы и мотивы. Не говоря уже о любовной лирике, большая или меньшая окрашенность которой суфийской мистикой давно уже стала традицией, мистический характер носили многие эпические произведения. Но в период, когда суфизм утратил свою оппозиционность и приобрел догматические черты, он и для литературы перестал служить своеобразной «школой вольнодумия».
Всякие намеки на свободомыслие, даже под прикрытием суфийской аллегории, вызывали противодействие ревнителей шиитских догматов. Еще при первых Сефевидах одно только чтение знаменитой «Маснави» Руми считалось преступлением. В произведениях суфийских авторов или раскрывались в сложных абстрактных символах этапы мистического восхождения к божеству, или повторялись в духе ортодоксального благочестия «истины» официального суфийского учения. Суфийская литература по сути дела смыкалась с ортодоксальной шиитской. Показательно, что даже при дворе довольно благожелательного к светским поэтам Аббаса I особым его расположением пользовался Бахааддин Амили (ум. 1621), автор религиозно-дидактических поэм, трактатов по шиитскому богословию и праву, сочинений, в которых он стремился примирить суфизм с официальной догмой. В творчестве придворных поэтов значительное распространение получила марсия – траурная элегия, описывавшая трагическую гибель Хусейна и мучения других имамов, а наряду с панегириками царствующему покровителю создавались пышные гимны в честь пророка, Али и его дома, потомками которых называли себя Сефевиды.
Строгая приверженность канону как основное требование к литературному произведению, преобладание религиозной тематики – все это уводило художественное творчество от жизни, замыкало его в кругу далеких от действительности тем и мотивов. Этому способствовали и особенности литературного стиля, все более искусственного и манерного.
Однако и в это столетие в Иране появляются литераторы, не мирящиеся со строгой регламентацией художественного мышления, с засильем традиционализма и религиозно-догматической схоластики. Это были в основном представители литературы, развивавшейся вне феодального двора, поэты, которые по своему происхождению и интересам были более связаны с городскими, торгово-ремесленными слоями. Не в силах противостоять гонениям на свободное творчество у себя на родине, многие из них уезжают в Индию, в государство Великих Моголов, где начиная с XVI в. находился один из влиятельных центров персоязычной литературы. К XVII столетию индо-персидская литература в целом испытывала настолько сильное влияние индийской жизни, культуры, философии и так явно обнаруживала сепаратистские тенденции, что ее можно рассматривать в это время как часть разноязыкой литературы Индии. Еще в XVI в. и особенно в первой половине XVII в., с оживлением культурных связей Ирана и Средней Азии с империей Великих Моголов, в Индию направляются сотни деятелей литературы и науки из разных областей этих стран. Так, навсегда покинули Иран такие одаренные поэты, как Назири Нишапури (ум. 1613), Талиб Амули (ум. 1627), Калим Хамадани (ум. 1651). Они немало способствовали подъему индо-персидской литературы и особенно развитию и распространению своеобразного литературного течения, сложившегося в результате тесного творческого общения персоязычных поэтов Индии и выходцев из Средней Азии и Ирана и известного под названием «индийский стиль».
Творчество представителей этого течения своей содержательной сущностью было направлено на подрыв основ религиозной идеологии и догматов мистической философии суфизма с его проповедью иллюзорности и бренности этого мира, ухода от действительности в самосозерцание, в растворение в божественной истине. Исходя из пантеистических, эманационных воззрений, столь распространенных на средневековом Востоке и, как известно, нередко служивших своего рода мостом при подходе к материалистическим взглядам, к признанию единственной реальной истиной окружающую человека действительность, к утверждению материального единства мира и непрерывности развития природы по внутренним, не зависящим от божественной воли законам, они стремились познать суть процессов, происходящих в природе. В XVII же веке, как отмечает З. Г. Ризаев в монографии «Индийский стиль в поэзии на фарси конца XVI—XVII вв.», поэтов-мыслителей живо интересуют проблемы натурфилософии. Они выдвигают различные космогонические теории, размышляют о возникновении Солнца и звездного мира, об образовании Земли и ее месте во Вселенной, высказывают гипотезы о происхождении живых организмов. Свои мысли они излагали в чрезвычайно сложных образных выражениях, насыщенных метафорами, аллегориями, иносказаниями, тонкими намеками. Трудность понимания таких стихов усугублялась еще тем, что в них использовалась традиционная суфийская символика, причем многим словам-символам возвращался их обычный, реальный смысл или придавалось иное символическое значение, выражающее философские взгляды авторов. Крайняя усложненность, почти кодированность поэзии индийского стиля, выглядевшая порой как самоцель, как стремление к оригинальности образного выражения мысли, была обусловлена не только ее глубоким философским содержанием, но и необходимостью вуалировать крамольные для того времени взгляды.
К середине XVII столетия индийский стиль широко распространился в Иране, привлекая к себе все новых последователей и воздействуя даже на тех литераторов, которые не были в числе его сторонников. Особенно сильное воздействие это течение оказывало на поэтов, не тяготевших к официальным, придворно-аристократическим литературным сферам, в творчестве которых поэзия философского свободомыслия проникалась гуманистическими идеями и мотивами социального протеста.
С «индийским стилем» в значительной мере связано творчество наиболее выдающегося поэта XVII в. – Саиба Табризи (1601—1677), в равной мере принадлежащего литературе Ирана и Азербайджана (см. также гл. «Азербайджанская литература» в наст. томе) и весьма популярного в Индии, Средней Азии и Турции.
Саиб Табризи родился в семье табризского купца, переселившегося в начале столетия в Исфаган. После завершения образования Саиб много путешествовал по городам арабских стран и Малой Азии и дважды ездил в Индию, где в общей сложности пробыл шесть лет. Там он знакомится с бытом и культурой страны, присутствует на поэтических меджлисах, участвует в философских дебатах поэтов и сближается со многими представителями индийского стиля – местными персоязычными литераторами и среднеазиатскими поэтами. С некоторыми из них он и в дальнейшем ведет переписку, обменивается стихами. В эти годы он и сам много пишет. Его произведения находят признание и у меценатов, и у знатоков литературы. На родину Саиб возвращается не только сложившимся, но и известным поэтом. По приглашению шаха Аббаса II (1648—1666) он входит в его литературное окружение и вскоре удостаивается звания «царя поэтов». Придворную службу, однако, Саиб оставляет сразу же после смерти своего покровителя. Скончался поэт в Исфагане в 1677 г.
Саиб Табризи – преимущественно лирический поэт. Лирика его составляет семь диванов, один из которых включает в себя стихи на азербайджанском языке. Панегирики Саиба малоинтересны. Это обычные восхваления шаха и других вельмож. Значительную ценность представляют собой газели – основа его лирического творчества. Многие из них сугубо философского содержания. Они весьма личностны, полемичны, являясь часто откликом на обсуждение тех вопросов, которые находились в центре внимания поэтов «индийского стиля». В них приводятся имена многих участников философских дебатов, вспоминаются жаркие споры, которые поэт называет «пиршеством счастливцев». Переживания, интеллектуальные поиски лирического «я» отражают сложную эволюцию взглядов Саиба Табризи на такие проблемы, как божественное предопределение и человеческая воля, сотворенность природы и естественность законов ее развития, богоданность этого мира и истинные источники жизни на земле и т. п. Образный рисунок таких стихов, хотя и базируется на традиционных приемах и средствах художественной выразительности, значительно усложнен иносказательностью, аллегоричностью, виртуозной игрой слов при конкретизации абстрактных философских понятий. Так, например, признание движения и изменчивости природы как естественного явления, не нуждающегося в сверхъестественной силе, поэт выражает в таком двустишии:
Хлыст для движения песчинки – ее собственное волнение.
К чему двигатель, выпустивший из рук поводья?
Отрицание потустороннего мира и роли предопределения в жизни человека высказано следующим образом:
Не уповает Саиб на атласное одеяние небес —
Эта одежда тесна для человека воли.
Примером многозначности образов может служить двустишие:
Кто в этом розарии соединится подобно росе,
Тот станет спутником украшающего мир солнца.
Здесь поэт говорит о значении воды и солнечного тепла как источников жизни, о вечном движении материи, состоящей из мельчайших частиц, и в то же время выражает мысль о том, что если люди объединятся, то они достигнут солнца, т. е. светлой жизни.
Однако в диванах Саиба Табризи немало и таких газелей, которые выполнены в традиционной манере и которые свидетельствуют о следовании поэта лучшим образцам лирического творчества классиков. Особенно заметное влияние на него, как отмечает сам Саиб, оказывали «напевы вдохновенного Хафиза». Такие газели большей частью описывают любовные переживания, а также передают размышления поэта о жизни, о назначении человека, о том, что лишает его счастья и радости бытия. Это не формальные перепевы традиционных мотивов. Они привлекают непосредственностью чувств лирического героя, новым смысловым наполнением уже знакомого поэтического образа, своеобразным сочетанием конкретности и особой утонченности словесного рисунка.
При всей условности традиционных мотивов многие газели Саиба отражают различные стороны современности и отношение к ним самого поэта. Немало строк в его газелях, созданных на персидском и на азербайджанском языках, наполнены горькими раздумьями о жестокости века, о том, что «к живущим в мире рок немилосерден» и что «на земле не найти даже клочка радости». Современная поэту действительность предстает в его стихах мрачной и гнетущей:
Под этим небом не знает радости ни одно сердце,
В этом саду не распускается ни один цветок.
На кого ни взглянешь, он словно бутон в тисках печали.
Неужели не оживит этот цветник утренний ветерок?
Для обитателей этого дома даже одиночество в могиле Лучше их жилища, где не бывает гостей.
И рев потока событий громко вещает,
Что даже сон на этом пепелище не бывает спокойным.
Как реакция на установленные Сефевидами порядки, при которых человек ощущает себя «птицей, схваченной за горло», звучат в произведениях Саиба призывы к милосердию и справедливому правлению. В духе идеалов поэтов-гуманистов прошлого он осуждает тиранию и считает, что народ – источник процветания и могущества государства. «Шах, обирая свой народ, обмазывает крышу, но подрывает стены дома», – говорит поэт. В другом месте шаха, притесняющего подданных, он уподобляет «пьянице, готовящему жаркое из своих собственных ног». Иногда, хотя и робко, в стихах Саиба проскальзывает предупреждение притеснителям: «Не найти тирану спасения от стрелы вздохов угнетенных. Ведь лук испускает стон раньше своей жертвы».
Гуманистическая настроенность поэзии Саиба наиболее ярко выражена в антиклерикальных стихах поэта. У него, правда, нет такого резкого бунта против религиозных устоев, какой был характерен для представителей лирики гуманистического протеста XIV—XV вв. и особенно Хафиза, учеником которого он считал себя. Но, учитывая время, в которое жил Саиб, когда, по его выражению, «ум и познания не стоили и ячменного зерна, зато в почете были чалма и толстое брюхо», приходится поражаться смелости поэта, остроумно высмеивавшего невежество и лицемерную набожность духовенства и «святых» суфиев. Его характеристики представителей «мира чалмы» кратки, но удивительно емки и убедительны:
Не обманывайся, Саиб, ученостью аскета из-за его чалмы,
Ведь звук гулко отдается под сводом потому, что тот пуст...
Если бы ум измерялся чалмой, то купол мечети считался бы самым умным...
Четки в руках, покаяние на устах, а сердце полно греховными помыслами;
И сам грех смеется над таким покаянием...
Саиб как бы снова наполняет живым содержанием ставшие к тому времени стандартным реквизитом газели образы, в которых кабачок противопоставляется мечети, весенняя лужайка – райским садам, восхищение возлюбленной – поклонению святым местам:
Душа аскета, словно четки, – черная, сухая,
Тебя, пусть будешь ты бедой сражен, понять не сможет.
Дороже в мире всех имен возлюбленной мне имя.
Каабу тот безумец, что влюблен, понять не сможет.
(Перевод Г. Асанина)
В своей лирике Саиб проповедует высокие моральные принципы: верность дружбе, благородство, честность и особенно сохранение человеческого достоинства. Его идеал – человек, который не унижается до того, чтобы «подбирать колосья у хироманов презренных», и не уподобляется тем, кто «ожидает хлеба из небесной холодной ямы». «Если ты не сотрешь со своего сердца ржавчину жестокости, то ничего, кроме сорняков, не сорвешь в этом саду», – поучает поэт и утверждает, что «богатства и счастья можно достичь благородством», а тот, «кто протягивает руку за подаянием, строит мост, по которому уходит от своей чести». Вера в человека, в его деятельность противопоставляется в поучениях Саиба идее рока, божественного предопределения: «Не возлагай своих забот на предопределение, вестником своего благополучия сделай собственный труд». Поэт убежден в силе объединения людей: «Мир расцветет улыбкой, если люди соединят свои руки в преодолении трудностей».








