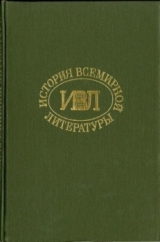
Текст книги "История всемирной литературы Т.4"
Автор книги: Георгий Бердников
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 82 страниц)
Однако в лесном уединении Симплиций не находит подлинного утешения. Между тем уже погасло пламя Тридцатилетней войны, и Симплиций без особых помех, пройдя через Швейцарию и Италию, уже надеется вскоре увидеть святую землю, как вдруг новые злоключения делают его добычей африканских разбойников. В конце концов, освободившись от рабства, он становится жертвой кораблекрушения и находит пристанище на плодородном необитаемом острове среди просторов Индийского океана.
Здесь обретает Симплиций долгожданный душевный покой. Он проводит свое время в приятном труде, ибо жизненный опыт подсказывает ему, что «человек рожден для труда, как птица для полета», в то время как «праздность порождает многочисленные болезни души и тела, а затем, когда этого меньше всего ждешь, ввергает тебя в пучину погибели». Симплиций становится свободным человеком на свободной земле, и когда европейские мореплаватели, случайно прибывшие на остров, предлагают ему вернуться с ними в Европу, решительно отвергает заманчивое предложение: ведь в большом мире царят многочисленные пороки и так все устроено, что «каждый открыто и без стеснения тщится задавить другого, дабы подняться самому, не щадя для сего никакой хитрости, плутни и политического коварства».
На этом, собственно, и заканчивает Симплициссимус свое пространное жизнеописание, обращенное к благосклонному читателю. Но у романа, впервые увидевшего свет в 1669 г., по воле Гриммельсгаузена появилось три продолжения, из которых мы узнаем, как Симплиций покинул необитаемый остров, вернулся на родину и стал продавцом календарей, а также сочинителем и исполнителем злободневных стихотворных ведомостей. Продолжения эти не были, конечно, чем-то случайным, как представляется некоторым исследователям. Ведь идеал отшельничества не мог стать для такого жизнелюбивого и социального писателя, каким, несомненно, был Гриммельсгаузен, конечной истиной земной. Симплиций должен был вернуться к людям, и он к ним вернулся, чтобы в качестве автора «Вечного календаря» и других сочинений доставлять им радость и пробуждать их мысль.
Действительно, роман Гриммельсгаузена по своей интеллектуальной насыщенности заметно превосходит обычные плутовские романы, ограниченные задачами бытописания. Автор все время касается различных вопросов, совлекая привычные покровы с тривиальных истин, обнаруживая их крайнюю относительность и зыбкость. Зачастую та или иная ситуация возникает лишь затем, чтобы можно было развернуть острые дискурсы. Да и герой произведения, по меткому замечанию А. А. Морозова, «не только личность», наделенная рядом индивидуальных черт, но и «точка зрения на мир», не связанная подчас непосредственно с этими чертами. Несколько отличен «Симплициссимус» от плутовских романов и по художественному составу. В очень трезвый рассказ о повседневной жизни неожиданно врывается народная сказка или прихотливый аллегорический образ. Так, Симплиций попадает на дно чудесного Муммель-озера, в царство безгрешных сильфов. В другом месте он вступает в беседу с изваянием древнего бога Бальдандерса (Напеременускор), олицетворяющего мирское непостоянство. Симплиций узнает, что именно Бальдандерс все время вел и продолжает вести его по извилистому жизненному пути и что в мире все изменчиво и непостоянно.
Но самыми сильными страницами романа являются все-таки страницы, посвященные правдивому изображению трагических будней Германии, охваченной «пламенем войны, голодом и мором». Рейнскому трактирщику Гриммельсгаузену самому пришлось побывать на войне, и он хорошо знал, что представляли собой алчные, разнузданные орды ландскнехтов, опустошавшие немецкую землю, и как на протяжении ряда десятилетий невыносимо страдал немецкий народ. При этом с особой симпатией писал Гриммельсгаузен о крестьянах, столь презираемых привилегированными кругами. Даже малолетний Симплиций поет песенку, прославляющую крестьянство. По словам автора, это наиболее древнее и наиболее полезное сословие. Разве не был простым землепашцем Адам и разве могла бы существовать империя, если бы крестьяне в поте лица своего не возделывали землю? Между тем положение крестьянства повсюду самое жалкое. Им помыкают большие господа. Прошли времена, когда землепашцы и пастухи, подобно библейскому Давиду, достигали высоких почестей. Теперь трудовой люд согнут в бараний рог. Над ним измываются власть имущие. О социальных воззрениях Гриммельсгаузена, подходившего к окружающему миру с широких народных позиций, дает также представление и аллегорический сон Симплициссимуса о диковинных деревьях, рисующий тяжелую долю крестьянина в феодальной Германии. Не раз возвращался Гриммельсгаузен в романе к вопросу о сословной иерархии, покоящейся на социальной несправедливости.
Не раз представлял он возможность Симплицию развенчивать феодальный миф о врожденном благородстве дворянина. По мнению простодушного Симплиция, сословная иерархия нелепа уже потому, что все люди произошли от Адама, созданного богом из праха. В другом месте вслед за гуманистами эпохи Возрождения он заявляет, что подлинно благородным может считаться не тот, у кого есть знаменитые предки, а тот, кто сам себя делает таковым «благородными и достойными своими делами». Но дела немецкого дворянства в романе Гриммельсгаузена вовсе не соответствуют тем высоким требованиям, о которых говорит Симплиций. Подчас между высокородным кавалером и самым заурядным грабителем стираются всякие грани.
Естественно, что писатель, столь близко принимавший к сердцу страдания отчизны и хорошо знавший, что такое социальная несправедливость, не мог не задумываться над грядущим своей страны, тем более что этого вопроса в XVII в. касались многие. Бесчисленные пророчества относительно будущего Германии исходили главным образом из еретических кругов. Не замолкали эти пророчества до конца XVII в., как об этом свидетельствуют «иезуэлитские» прозрения Квирина Кульмана. Есть и в романе Гриммельсгаузена эпизод, тесно связанный с утопическими исканиями той эпохи. Однажды Симплиций встретился с одним странным человеком, не то шутом, не то безумцем, вообразившим себя отцом богов Юпитером. Он обещал Симплицию пробудить ото сна Немецкого Героя, который без помощи ландскнехтов, только силой своего волшебного меча утвердит на земле справедливые порядки. Могущественные монархи должны будут признать его власть. В обновленной Римской империи возникнет парламент, состоящий из самых мудрых и нелицеприятных граждан. Воедино будут собраны все немецкие земли. Исчезнет крепостное право. Люди забудут о барщине, о всякого рода тяжелых и разорительных повинностях, о ростовщичестве и самоуправстве больших господ. Музы изберут Германию своим пристанищем. И каждый немец будет любить свою отчизну, станет образцом честности и добродетели, наподобие римлянина Фабриция. И на всем земном шаре утвердится всеобщий мир, не омрачаемый кровопролитными войнами и религиозной рознью, ибо Немецкий Герой из всех враждующих между собой вероисповеданий создаст единую христианскую веру, основанную на заветах древнего христианства.
Конечно, не все в этом эпизоде, вызывавшем разноречивые суждения исследователей, следует принимать за чистую монету. Есть здесь, вероятно, и пародийная тенденция. Ведь пророческую тираду произносит вшивый безумец. Никто из здравомыслящих людей в то время не мог утверждать, что Германия вплотную подошла к царству справедливости. Только экзальтированные маньяки вроде Квирина Кульмана твердили об этом. Вместе с тем сама мечта о справедливом мире, освободившемся от феодального и церковного фанатизма, не содержала в себе ничего несообразного. С давних пор жила она в немецком народе. Функция мнимого Юпитера в романе – это функция шута, который говорит о важных вещах, вызывая смех или недоумение окружающих. Шутовские личины то и дело мелькают в «Симплициссимусе». Одна из таких личин – крайнее простодушие юного Симплиция, вступающее в противоречие с жизненной практикой запутанного жестокого мира. Гриммельсгаузен склонен к шутке, к балагурству, но как часто в основе этого балагурства – едкая горечь! И вместе с тем неистребимое жизнелюбие, что сближает Гриммельсгаузена с писателями Возрождения, с создателями народных книг и шванков. Несмотря на то что автор «Симплициссимуса» ясно видел темные стороны земного бытия, он в отличие от некоторых идеологов барокко не отрекся от здешней жизни ради вечного загробного покоя. Его персонажи стойко борются за место под солнцем. Находчивость, изобретательность, отвага, жажда свободы и плодотворной деятельности, умение преодолевать препятствия – их характерные черты.
В ряде новых «симплицианских» романов появляются новые герои, так или иначе связанные с «Симплициссимусом». Каждому из них приходится идти по трудному жизненному пути. Все шире разрастается под пером Гриммельсгаузена эпос больших дорог, превращаясь в многоцветную эпопею человеческих и народных судеб, развертывающихся на фоне немецкой жизни военного и послевоенного времени. Ее участниками становятся как мужчины, так и женщины. Об одной такой женской судьбе повествует, например, роман «На зло Симплицию, или Обстоятельное и диковинное жизнеописание великой обманщицы и побродяжки Кураж» (1670). Мы узнаем, как потрясения военного времени превратили благонравную и скромную чешскую девочку в ловкую и смелую авантюристку, каких немало было в то мрачное время. Она кружила головы офицерам и солдатам, но война неотступно преследовала ее по пятам, все вновь и вновь делая ее одинокой вдовой. Со временем военная кутерьма и разгульная жизнь солдат стала для нее привычной стихией. В мужской одежде верхом на коне она охотно принимала участие в стычках и сражениях, особенно когда эти стычки сулили ей богатую добычу. В качестве полковой маркитантки Кураж умело выколачивала деньги из солдатских кошельков. Многочисленные любовные похождения, а также различные плутовские проделки заполняли ее жизнь. Одно время она была любовницей Симплициссимуса. Но исчезла ее былая красота, загубленная дурной болезнью, пропало достояние, нажитое среди военных потрясений, и Кураж связала свою судьбу с цыганским табором. Привыкнув к вольной жизни, она продолжала бродяжничать и плутовать. По словам Кураж, цыганская жизнь как нельзя лучше соответствовала ее нраву, и она не променяла бы эту жизнь даже на звание полковницы.
Героем третьего «симплицианского» романа Гриммельсгаузена, «Удивительный Шпрингинсфельд» (1670), выступает ближайший соратник Симплиция и верный любовник Кураж, бравый солдат Шпрингинсфельд. Как и других героев Гриммельсгаузена, его основательно трепали вихри войны. Он участвовал в различных походах, был барабанщиком, мушкетером, драгуном, попадал в плен, обогащался и все терял, болел чумой, страдал от раны, чуть не был съеден волками, бродившими по обезлюдевшим немецким деревням, а по окончании войны, побыв некоторое время трактирщиком, а затем скоморохом, вновь вернулся к военной профессии, но в сражении с турками на острове Крит лишился ноги. И вот Шпрингинсфельд опять в Германии. Постукивая деревянной ногой, бродит он по деревням и селам. Играя на скрипке, поддерживает свое существование. Его привлекает свободная независимая жизнь. Люди радуются приходу веселого музыканта. И Шпрингинсфельду даже кажется, что нет у него оснований мечтать об иной, «более блаженной жизни».
Своего рода продолжением «Удивительного Шпрингинсфельда» является нравоописательный роман «Волшебное птичье гнездо» (1672), рисующий жизнь послевоенной Германии. Молодой солдат становится владельцем волшебного гнезда, делающего его невидимым, которое до того принадлежало пронырливой жене Шпрингинсфельда. С помощью названного талисмана герой романа получает возможность проникать в различные социальные сферы Германии и наблюдать обычаи и нравы многих людей. Окончилась война, однако страну продолжают обременять нравственные и социальные недуги. Лицемерие и обман стали самым обычным делом в среде дворян, клириков и бюргеров, не говоря уже о бродягах и искателях легкого заработка. Страсть к наживе, обуявшая многих в послевоенный период, губительно отзывается на общественной нравственности, разрушая семейные устои, морально калеча людей, доводя их подчас до преступления и гибели. По-прежнему монахи и городские богачи утопают в роскоши, в то время как задавленные нуждой крестьяне обречены на голод и страдания. Их горькую судьбину Гриммельсгаузен рисует с исключительной силой.
Вопрос о бедности и богатстве, затронутый в «Волшебном птичьем гнезде», вырастает в центральную проблему в книге «Судейская камера Плутона, или Искусство стать богатым» (1672). О том, как избежать бедности и разбогатеть, беседуют разные люди, встретившиеся на минеральных водах в Бадене, в том числе Симплиций, его престарелые отчим и мачеха, побродяжка Кураж и потрепанный жизнью Шпрингинсфельд. Из разговоров выясняется, что, только махнув рукой на совесть, можно приобрести богатство. К нему быстрее всего ведут ложь, обман и бессердечие. Этой проповеди откровенного стяжательства противостоят в книге заветы привыкшей к скудости патриархальной деревни, утверждающие трудолюбие и крайнюю бережливость. Автор не подводит никаких итогов, он только ухмыляется, предоставляя читателю самому делать необходимые выводы. Зато уже без всякой ухмылки речь идет о тяжелой доле земледельца. Отчиму Симплиция хорошо известно, что дворяне, купцы, трактирщики, солдаты, ремесленники и прочие доброхоты «ощипывают мужиков, желая обогатиться за их счет, и что живодерству и обиранию нет конца и края».
Гриммельсгаузен был, несомненно, самым большим народным немецким писателем XVII в. Его заботили трудные судьбы простых людей, которых старались просто не замечать представители аристократической элиты. От народной культуры прошлого унаследовал он обличительный и в то же время жизнеутверждающий «шутовской» смех, почти совсем заглохший в литературе немецкого барокко. Земное, человеческое, конкретное всегда у него одерживает верх над метафизическим и абстрактным. Живая жизнь торжествует в его романах, обращенных к широкому читателю, с которым Гриммельсгаузен говорит на понятном ему живом и выразительном языке (временами подхватывая отдельные барочные стилевые и идейные элементы и подчиняя их общему замыслу своего произведения).
По пути, который проложил Гриммельсгаузен, пошли многие немецкие писатели последней трети XVII в. Разными авторами создавались «симплициады», использовавшие имя знаменитого героя Гриммельсгаузена. Это были жизнеописания, наполненные приключениями, зачастую связанными с невзгодами военного времени. Иногда в них проступали пародийные черты. Такой пародией на галантно-героические придворные романы являлся роман «Симплицианский всесветный зевака» (1677—1679), принадлежащий перу уроженца Австрии Иоганна Беера (1655—1705), сына трактирщика, с 1685 г. придворного музыканта герцога Саксен-Вейсенфельса. Человек разносторонних дарований (писатель, автор музыкальных трактатов, певец, композитор, актер), выступавший обычно под псевдонимами (Ян Ребхун и др.), Беер был наиболее значительным последователем Гриммельсгаузена, наделенным зорким глазом,
способностью выразительно зарисовывать образы окружающей жизни. Отойдя от распространенных в литературе барокко мотивов отречения от земной суеты, Беер в своих многочисленных занимательных романах («Приют дураков», 1681; дилогия «Зимние ночи в Германии» и «Занимательные летние дни», 1682, и др.), очень пестрых по художественному составу, вводит читателя в обширный мир, населенный представителями всех сословий. Выходец из демократической среды, Беер с симпатией относится к маленьким людям, в том числе к музыкантам. Зато сильных мира сего нередко поражают его сатирические стрелы. В произведениях Беера слышны отзвуки плутовского романа, народных сказаний, старинных веселых шванков, моральной сатиры. Он склонен к яркому бурлеску, выразительному просторечию. Создававшиеся в период, когда Германия залечивала глубокие раны, нанесенные ей Тридцатилетней войной, романы Беера наполнены были радостью жизни, оптимизмом, духом вольнолюбия, предвосхищавшим искания приближавшейся эпохи Просвещения.
ЛИТЕРАТУРА КОНЦА ВЕКА
К концу XVII в. картина немецкой литературы продолжала оставаться достаточно пестрой. Еще громче звучали голоса адептов различных религиозных лагерей. Развивался пиетизм, подготовивший в следующем, XVIII в. расцвет «поэзии сердца». Появлялись экстатические «псалмы» Квирина Кульмана. В католическом лагере по-прежнему культивировалась латинская орденская драма и назидательная проза на немецком языке («Новые легенды о святых» Мартина Кохема, 1634—1712).
Орденский театр пережил в XVII столетии особый расцвет в австрийских и южнонемецких землях. Это был в первую очередь театр иезуитов, а также бенедиктинского и других орденов, которые устраивали регулярные представления в резиденциях и главным образом гимназиях. Развивая художественные принципы барокко, орденский театр стремился к синтетическому действию, призванному захватить зрителя, воздействуя на все его чувства. Языком орденского театра была латынь. Между тем представления были рассчитаны на довольно широкую публику. Если многие не знали латыни, то это не мешало воспринимать спектакль как целое. Литературный текст в орденском театре был схож с оперным либретто. Сюжеты спектаклей, включавших в себя и музыку, и красочные декорации, и танцы, а иногда и фейерверк, брались, как правило, из библейской истории, из христианской и античной мифологии. Характерной особенностью орденского театра, наряду с патетикой и смешением трагедийных «ужасов» с комическими сценами, было изобилие аллегорий, вещих видений, символических толкований, настойчиво утверждавших назидательный смысл действия. Наиболее известным представителем театра иезуитов был Якоб Бидерман (1578—1639). Его «Ценодокс» («ценодокс» от греческого «кенодоксос» – тщеславный, любящий пустую славу), впервые поставленный в Аугсбурге в 1602 г., оказался единственной из иезуитских драм, удостоившейся в том же XVII столетии, вскоре после появления в свет, перевода на немецкий язык. Самым же известным среди авторов бенедиктинских драм был подвизавшийся в первую очередь в Зальцбурге Симон Реттенбахер (1634—1706).
К тому же времени, что и творчество Реттенбахера, относится деятельность талантливого венского проповедника, сына крепостного крестьянина Абрахама а Санта Клара (в миру Иоганн Ульрих Мегерле, 1644—1709). Охотно откликаясь на злобу дня (турецкая опасность, чума, свирепствовавшая в Вене в 1679 г.), обличая пороки и наставляя в добродетели, Абрахам, фигура яркая и самобытная, любил говорить с народом на языке ярмарочных острословов и зазывал («Запомни, Вена...», 1679; «Иуда Архиплут», 1686—1695; «Нечто для всех» и др.). Он вплетал в свои проповеди занимательные истории и анекдоты, почерпнутые из самых различных источников. Превосходный рассказчик, он находил острые и выразительные сравнения, прибегал к народным оборотам, пословицам и поговоркам, к забавной игре слов, все время вырываясь за тесные пределы чопорной церковной элоквенции.
Еще высоко стоял авторитет писателей Второй силезской школы, и галантно-исторические романы сиятельного герцога Антона Ульриха Брауншвейгского продолжали появляться на книжном рынке, а в немецкой литературе уже ясно обозначились новые веяния. Наступил закат литературы барокко. Приближалась эпоха Просвещения с ее культом разума и переоценкой традиционных ценностей. Важным симптомом наметившихся перемен явилась деятельность крупнейшего немецкого философа XVII в. Лейбница (1646—1716), выдающегося мыслителя-рационалиста, склонявшегося к деизму и стремившегося преодолеть трагический дуализм барочного миросозерцания. «Здоровый разум» человека прославлял философ К. Томазий (1655—1728). Прециозный маньеризм Гофмансвальдау и других силезских поэтов начал вызывать резкую критику со стороны передовых писателей, ратовавших за естественность и простоту, продиктованную самой природой. Возросла роль сатиры, звавшей на суд человеческого разума нелепости окружающей жизни. Так, поэт Кристиан Вернике (1661—1725) в многочисленных эпиграммах («Надписи или эпиграммы», 1697—1701), удостоившихся похвалы Лессинга, не только осмеивал салонную напыщенность и жеманную претенциозность поздних силезцев, но и, касаясь пороков современности, клеймил надменность и наглость высокородных вертопрахов.
На смену аффектированному Марино пришел строгий Буало. Его первым почитателем и последователем был просвещенный прусский аристократ, видный дипломат, поэт барон Рудольф фон Каниц (1654—1699), которого Готшед впоследствии назвал «зачинателем хорошего вкуса в Германии». В своих написанных чистым и ясным слогом сатирах он непосредственно опирался на сатиры знаменитого французского поэта.
Это стремление утвердить в литературе законы разума, поддержанное придворными кругами, перенимавшими обычаи и взгляды Версаля, означало в немецких условиях прежде всего победу «трезвого» бюргерского начала, из которого вскоре выросла реформа Готшеда. Продолжая оставаться слабым и зависимым, немецкое бюргерство все же постепенно оправлялось от страшных потрясений Тридцатилетней войны. Возрастала его роль в жизни страны, особенно в культурной сфере. Появление в конце XVII в. такой огромной фигуры, как Лейбниц, не было, конечно, счастливой случайностью. Вскоре выступили на культурную арену И. С. Бах (1685—1750) и Г. Ф. Гендель (1685—1759), а затем Лессинг и другие великие мастера культуры. Правда, на исходе XVII в. достижения немецкой литературы были довольно скромными. Почти все писатели этого времени имеют местное значение, в том числе и плодовитый романист, драматург и поэт Кристиан Вейзе (1642—1708), дороживший подчеркнутой «простотой» своего стиля и утверждавший, что язык поэзии ничем не должен отличаться от повседневной речи. В романах он выступает как сатирик и моралист с ясно выраженной бюргерской тенденцией. Его привлекает жанр сатирико-дидактического зерцала, к которому несколькими десятилетиями ранее обращался Мошерош. Первый роман Вейзе «Три главных развратителя в Германии» (1671) в ряде моментов (форма сновидения, нисхождение в подземный мир) даже прямо перекликается с «Филандером».
Наибольшую известность приобрел роман Вейзе «Три величайших на свете дурака» (1672—1673), в котором развернута широкая картина немецких нравов послевоенного периода. В многочисленных эпизодах перед читателем раскрывается обширное царство «глупости», населенное мужьями, ставшими рабами своих жен, дуэлянтами, расточителями, нуворишами, подкупными судьями и многими другими. Зарисовки Вейзе отличаются четкостью и близостью к жизни. Однако, примыкая к реалистической линии развития немецкого романа, Вейзе несколько отличен от своих предшественников. Его реализм – это уже не барочный, замысловатый реализм Мошероша и не народный реализм Гриммельсгаузена, хотя у Вейзе нередко встречаются шванковые приемы и мотивы. Вейзе более сдержан и рассудочен. Он не только писатель, но и педагог, все время держащий в руках школьную указку. Если для Гриммельсгаузена мир многозначен и внутренне подвижен, то у Вейзе он «выпрямляется», становится линейным, лишенным красочного богатства. Повседневному царству глупости противостоит здесь идеальное царство разума, и глупость не оборачивается мудростью, а мудрость не может обернуться глупостью. Как на старинной ксилографии, здесь можно найти только белый или черный цвет. К тому же многолюдная толпа дураков, движущаяся по страницам романа, невольно заставляет вспомнить «Корабль дураков» Себастиана Бранта, который на заре немецкого Возрождения уже рассматривал пороки и недостатки окружающей жизни как проявления людского неразумия. Конечно, с конца XV в. многое изменилось в немецкой литературе, и Вейзе далеко отошел от лубочного примитивизма Бранта. Все же знаменательно, что в преддверии «века разума» в Германии вновь ожила традиция бюргерской «литературы о дураках». Но, выступая против неразумия соотечественников, среди которых встречаются представители высших сословий, Вейзе не посягал на общественные порядки своей страны. Вольномыслие его было весьма умеренным. Ему только хотелось, чтобы людская глупость пошла на убыль, уступая место требованиям разума, и чтобы бюргерство не упускало своих интересов в сословном государстве («Три величайших в свете умника», 1675).
Был Вейзе также неутомимым драматургом. Опытный педагог, с 1678 г. ректор Образцовой гимназии в богатом городе Циттау, он написал пятьдесят пять пьес, которые обычно разыгрывались школярами в помещении городской ратуши. В соответствии с местной традицией это были библейские драмы, исторические трагедии и комедии. В комедиях, написанных живым разговорным языком с использованием диалектов, Вейзе далеко отходит от барочного велеречия. Стремясь к тому, чтобы язык каждого персонажа «соответствовал его натуре», драматург внимательно прислушивался к говору прачек, трактирщиц, кухарок и дровосеков. В комедиях Вейзе ожил дух старинного немецкого фастнахтшпиля с его забавными сценами из повседневной жизни, с грубоватым юмором, проделками ловкачей и пройдох. Под разными именами появлялся на сцене популярный шут Гансвурст. Понятно, что школьные комедии Вейзе должны были не только развлекать, но и поучать. Автор предостерегал от неразумных поступков, подсмеивался над людскими слабостями. Так, в наиболее удачной своей комедии, «О преследуемом латинисте» (1693), он осмеял погоню богатого бюргерства за громкими дворянскими титулами. В комедии ясно чувствуется влияние Мольера («Смешные жеманницы»), который на исходе XVII в. приобрел в Германии значительную известность. В 1694 г. в Нюрнберге вышло трехтомное Собрание его сочинений. Они подготавливают успех бытовой национальной комедии, достигшей расцвета в следующем столетии в творениях Лессинга.
Библейские драмы Вейзе интереса не представляют. А среди его трагедий на исторические темы примечательна только «Трагедия о неаполитанском мятежнике Мазаньелло» (1683). Зато это произведение сильное, даже смелое, стоящее особняком в немецкой литературе XVII в. В 1773 г. в письме к брату Лессинг весьма положительно отозвался о пьесе Вейзе, отметив в ней «свободный шекспировский ход действия». «Ты также найдешь в ней, – писал он, – несмотря на педантический холод, искры шекспировского гения». Трагедия посвящена антифеодальному народному восстанию, которое в 1647 г. вспыхнуло в Неаполе, находившемся под властью испанского короля. Протест против деспотизма не являлся новостью в немецкой драматургии XVII в. Он уже звучал в трагедиях Грифиуса. Но в «Льве Армянине» события развертывались в узком дворцовом кругу, а в «Папиниане» ревнитель правды и справедливости все время оставался трагически одиноким. Вейзе пошел значительно дальше Грифиуса. Он не только с подъемом изобразил народное восстание, но и указал на естественные причины этого восстания, коренившиеся в бедственном положении народа, из которого власти стремились выжать последний грош. Не будучи сторонником революции, не призывая низвергнуть существующий строй, он видел в то же время темные стороны феодальных порядков. Не раз в своих комедиях касался Вейзе тяжелого положения немецкого крестьянства, угнетенного крепостниками. Трагедия «Мазаньелло» предостерегала сильных мира сего от «неразумного» и опасного эгоизма. «Мы должны поддерживать дворянство», – заявляет в трагедии герцог Каррачиольский. «Но не за счет разорения всего народа», – отвечает ему государственный секретарь, несомненно отражающий точку зрения самого автора. Вопреки укоренившейся традиции трагедия написана прозой.
Но самым талантливым, самым значительным немецким писателем конца XVII в. был, безусловно, сатирик Кристиан Рейтер (род. 1665, ум. после 1712), выходец из крестьянской среды. Примыкая к реалистической традиции Гриммельсгаузена, он, подобно Вейзе, выступал против прециозной ходульности, против надутого чванства, против правды в искусстве и в жизни. Еще в бытность свою студентом Лейпцигского университета Рейтер написал две озорные комедии: «Честная женщина из Плиссена» (1695) и «Болезнь и кончина честной госпожи Шлампампе» (1696), в которых осмеял мещан, лезущих в дворянство. Трактирщица Шлампампе (нем. Schlampampe – кутила), ее наглые дочери и непутевый сын Шельмуфский (нем. Schelm – плут, обманщик), мечтая о знатности, корчат из себя больших господ. Любопытно, что почти одновременно Вейзе обратился к аналогичной теме. Этот пристальный интерес передовых немецких писателей конца XVII в. к теме мещанина во дворянстве свидетельствовал о том, что в Германии уже началась борьба за духовную эмансипацию бюргерства, привыкшего раболепствовать перед господствующим сословием. Сатирические комедии таили мысль, что подлинное благородство следует искать не во внешних атрибутах знатности, а в личных достоинствах человека.
За комедиями последовал задорный плутовской роман «Описание истинных, любопытных и преопасных странствований на воде и на суше Шельмуфского» (1-я ред. – 1696, 2-я ред. – 1697), в основе которого лежит все та же тема мещанской вороны в дворянских перьях. Впрочем, это плутовской роман совсем особого рода. События, излагаемые в нем, заведомо неправдоподобны, как неправдоподобны события, о которых спустя сто лет расскажет читателям изобретательный лжец барон Мюнхгаузен. Можно даже считать Шельмуфского из Шельменроде прямым предшественником знаменитого барона. Он такой же неугомонный враль, как и Мюнхгаузен. Только во вранье Шельмуфского, уже появлявшегося в комедиях Рейтера в качестве неотесанного сына трактирщицы Шлампампе, совершенно отсутствуют изящество и блеск, присущие вдохновенным рассказам Мюнхгаузена. Ведь Шельмуфский, охотно повествующий о своих мнимых «преопасных» путешествиях и приключениях, – всего лишь невежественный парень из бюргерской среды, никогда не питавший влечения к наукам или полезному труду и проводивший свое время преимущественно в трактире.
Но, будучи лентяем и забулдыгой, Шельмуфский хочет прослыть доблестным, образованным, умным и прежде всего галантным кавалером, якобы изумляющим мир своими подвигами и приключениями. Поэтому его хождения в трактир превращаются в «преопасные странствования», бродяга-собутыльник становится графом, а заурядная потаскушка, участница трактирных попоек, оказывается ослепительной мадам Шармант.
Шельмуфский лжет изо всех сил, стремясь выдать желаемое за сущее, но то и дело попадает впросак. Ибо, желая казаться галантным кавалером, в которого якобы непрерывно влюбляются богатые и знатные красавицы, с которым водят дружбу сиятельные аристократы и даже могущественные государи, Шельмуфский говорит тем не менее на чрезвычайно вульгарном кабацком жаргоне, наглядно свидетельствующем о его крайней неотесанности и грубости. Естественно, что и самое его представление о жизни крайне вульгарно. О чем бы он ни рассказывал, какие бы небылицы он ни плел, он не способен выйти за пределы своего узкого кабацкого кругозора. Верхом галантности и куртуазности ему кажется подчас то, что на самом деле является проявлением мещанской сиволапости.








