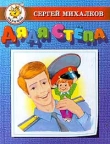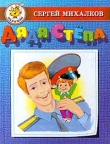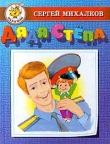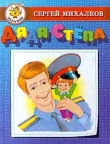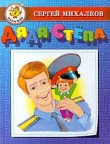Текст книги "Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов"
Автор книги: Евгений Добренко
Соавторы: Мария Майофис,Илья Кукулин,Марк Липовецкий
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 51 страниц)
Сопоставление с Гаспаровым дает возможность увидеть одну не слишком заметную черту эстетики позднего Пригова. Его романы были конструированием нового субъекта повествования – при том, что само это повествование осуществлялось с заведомо искусственной позиции, демонстрирующей искусственность и самого этого субъекта. С этической точки зрения такое сочетание качеств было продуктивной формой стоицизма в отношении культурной традиции и современного мира. Стоящий за этой стратегией импульс можно пересказать примерно так: поскольку все «органические» формы созидания «я» и культурного творчества дискредитированы как потенциально тоталитарные, давайте попробуем подчеркнуть искусственность и тем самым частность, партикулярность нашей позиции. Если рассматривать эту программу не как эстетическую, а как философскую, то она окажется довольно близкой к концепции Фуко 1970–1980-х годов [820]820
Этой проблематике посвящены малые работы М. Фуко, собранные в специальном выпуске журнала «Логос», посвященном мыслителю – 2008. № 2 (перевод всех текстов с английского – А. Корбута): «О начале герменевтики себя», «Технологии себя» и «Дискурс и истина», а также интервью «Минималистское „Я“» и «О генеалогии этики: обзор текущей работы».
[Закрыть].
По сути, именно такое «фуколтианское» отношение к субъекту повествования и оказывается наиболее продуктивным в современной русской прозе, от Гаспарова (при всем его неприязненном отношении к историко-культурным работам Фуко) до Александра Гольдштейна. Новаторство и уникальность романистики Пригова заключаются в том, что он в максимальной степени из всех современных русских писателей показал, что формирование нового субъекта в прозе прямо основано на полемике с традицией «серебряного века» («У нас с ним давние и весьма нелегкие отношения», как писал поэт о Кормере). Новый субъект созидался вместе с новым жанром в ходе этой полемики. Как ни странно, Пригов смог преобразовать поэтику современного русского романа потому, что проблему романной формы воспринимал не как содержательную, а как сугубо методологическую. Он не принимал гипотезы о том, что новый субъект уже существует и «под него» необходимо создать новый тип повествования. Напротив, он исходил из предположения, что новый субъект – это то, что нужно изобрести для того, чтобы написать роман, и что написание литературного произведения или создание визуальной работы, собственно, и есть единственный способ создания такого нового субъекта. В романах этот субъект, как и во многих других случаях, оказался созданной по особым, заново выработанным правилам реинкарнацией автора – Дмитрия Александровича Пригова.
Александр Чанцев
ИЗ ЯПОНИИ В МОЛЧАНИЕ
(о книге Д. А. Пригова «Только моя Япония» [821]821
Пригов Д. А.Только моя Япония: Непридуманное. М.: Новое литературное обозрение, 2001. Далее при цитировании этого издания страницы указываются в тексте в скобках после цитаты.
[Закрыть])
Бесплатным развлечением было для китайских и корейских студентов, обучавшихся по обмену в японском университете, попросить учившегося с нами на одном отделении украинца Вову произнести полное его имя – Владимир Вячеславович Людвиковский. Не обязательно даже было произносить его в японской транскрипции (хотя слоговая азбука количества букв никак не уменьшала) – восторг был обеспечен и так, прикрывали смеющиеся рты ладошками даже более политкорректные японцы.
Имя Д. А. Пригова, Домитории Арэкусандоробити Пуригофу(Пригов сам приводит в книге его японское написание, радуясь ему и, кажется, слегка путаясь в транскрибировании), не менее труднопроизносимое для японцев, они мужественно пишут целиком – достаточно сделать в японской поисковой Интернет-системе Yahoo запрос по его фамилии, на который будет, кстати, найдено довольно много страниц – больше из современных российских писателей, кажется, только у Сорокина, Виктора Ерофеева и Акунина.
Пригов прибыл в Японию в 1999 году по приглашению Токийского университета, Фонда международных обменов и других организаций – устраивал перформансы, выступал с местными поэтами, художниками и музыкантами. Так, по впечатлениям присутствующих на концертах японцев, стихи, которые читал Пригов со сцены в сопровождении местных авангардных музыкантов, даже не особо нуждались в переводе – они и так производили на собравшихся сильное впечатление [822]822
См.: Судзуки М.Пуригофу га боку-но маэ-ни араварэта (Пригов передо мной) // Сидзин-кайги. 2000. Декабрь. С. 53–57 ( http://www.human.niigatau.ac.jp/~masami/Poetry/prigov03.htm).
[Закрыть].
Кроме того, организаторы довольно много возили поэта по стране, показывая ему все традиционное и знаменитое и не скрывая современного, даже не очень презентабельного. Результатом этого путешествия и стала книга «Только моя Япония». «Первая моя книга прозы – „Живите в Москве“ – по жанру мемуары и „фэнтэзи“, вторая – „Только моя Япония“ – это записки путешественника. А третья будет в форме исповеди. Все три романа – это как бы испытание трех типов европейского искреннего письма – мемуаров, записок путешественника и исповеди», – говорил сам Пригов [823]823
Пригов Д., Яхонтова А.Отходы деятельности центрального фантома // НЛО. 2004. № 65. ( http://magazines.russ.ru/nlo/2004/65/prig16.html) (см. также републикацию в этом сборнике). Книгу в форме исповеди Пригов так и не написал: хотя последний его роман «Катя Китайская» имеет подзаголовок «чужое повествование», это рассказ о чужом сознании – русской девочки, путешествующей в середине 1950-х годов из Китая в СССР, – не «изнутри», а скорее с пограничной позиции, балансирующей между «извне» и «изнутри».
[Закрыть].
Скептиков, которые усомнились бы в том, что эта книга подходит под определение «записок путешественника», вполне могут убедить в законности определения элементы приговского текста, которые традиционно ассоциируются с этим жанром: этнографические и антропологические наблюдения, многочисленные экзотизмы, всевозможные воспоминания и фиксации ощущений. «Она (Япония. – А.Ч.) вполне обыденна и современна. Честно говоря, я не заметил у японцев особой склонности, повседневной и рутинной привязанности к традиционному. Особенно огорчило некоторое даже небрежение, прохладное равнодушие по отношению к столь любимой мной очаровательнейшей борьбе сумо. <…> Гораздо больше и чаще смотрят вялый и невысокого качества бейсбол» (с. 125). «Мобильниками <…> здесь снабжены практически все, разве что не уж совсем мелкие твари, типа мышей и комаров, которые по причине мелкости своего физического размера и мышечной массы не смогли бы справиться с громоздкими для них механическими устройствами» (с. 34). «На простенькой небольшой стоянке три-четыре регулировщика с улыбкой и чувством ответственности, стоя буквально метрах в пяти друг от друга, указывают вам место вашей парковки, впрочем, трудно минуемое и без их добросовестного усердия» (с. 112). Все это именно то, о чем рассказывают после жизни в Японии, – а по моим наблюдениям, все это действительно так и есть.
Но все это кажется слишком простым, слишком похожим на то, каким должны быть традиционные записки путешественника, – недаром книга Пригова буквально переливается различными оттенками этого жанра, напоминая то колонки-эссе Л. Рубинштейна («…а что японцы? – они и есть японцы. Не хуже и не лучше, а такие, какими и должны быть японцы», с. 99), то остроумно-парадоксальные эскизы А. Гениса (который встречается Пригову именно в Японии и совершенно справедливо замечает, что по-английски с японцами говорить смысла мало – потому что, как ни странно, мало кто в Японии, кроме интеллектуалов, знает английский язык хорошо), то описания японских кладбищ и смертей у Акунина-Чхартишвили («Кладбищенские истории» и «Писатель и самоубийство»). Больше же всего перекличек у этой книги, пожалуй, с прозой В. Сорокина, которому Пригов рассказал об особенностях японского кремирования и который в ответ поведал об эстетически радикальных модницах (попутно занимающихся и проституцией) из числа японских школьниц-когяру [824]824
У Пригова, впрочем, используется неточная транслитерация «кагяру».
[Закрыть].
«Концептуалистских» ходов в духе прозы Сорокина в этой книге действительно много. Например, Сорокин в ранних рассказах постоянно обыгрывал традиционные советские реалии, разрушая их и переосмысляя в ходе концептуалистской деконструкции. У Пригова рассказ об упражнениях сумоистов переходит в описание того, как те медитируют, поднимая и опуская свою кожу до пола; тот факт, что японцы почти не пахнут потом, объясняется тем, что они регулярно меняют кожу; а наличие под Фудзи огромного общественного туалета объясняется тоже весьма логично – во-первых, невыдуманной любовью японцев к туалетам (вспомним посвященные им страницы в знаменитом эссе Танидзаки о традиционной японской эстетике «Похвала тени»), во-вторых, буквально некуда было девать деньги во время экономического бума… Но при всей культурологической фундированности этого фрагмента он, конечно, представляет собой полную фикцию – никакого туалета под Фудзи нет.
Текст, очень часто крайне плавно переходящий в такие «отступления» (поданные, отметим, настолько серьезно, «на голубом глазу», что в них если не веришь, то сильно затрудняешься – где именно надо провести границу между «травелогом» и мистификацией), обнаруживает постоянную тенденцию к еще одному смещению. Пригов постоянно обращается к друзьям своего детства, «пацанам» из своего двора, и ведет с ними диалог, им, кажется, все и рассказывая: даже описанная им война с пикирующими в парке японскими воронами оборачивается местью за всех погибших в детстве и юности приятелей. В этом «схлопывании времени» содержится не только отсылка к первому из трилогии, мемуарному роману Пригова и уж точно не банальное ностальгирование, которое разыгрывает Пригов: «А я к себе [маленькому] склоняюсь нежнее, треплю по кудлатой головке и дрожащим от волнения и узнавания голосом бормочу в слезах: Счастливчик! Это ты! Ты еще не ведаешь!» (с. 190). Нет, мнимое ностальгирование, как и обещания рассказать всю правду («А вот до Японии из нашего двора добрались пока немногие. Немногие. Я первый добрался. Но я не подведу…» [с. 7]), не отвлекаться, быть объективным, рассказать множество подробностей, – та же игра, то же «кричание кикиморой», которым когда-то прославился Пригов.
Цель его та же, что и у раннего Сорокина: как тот в свое время деконструировал советский миф, так Пригов деконструирует японский миф русской литературы, расправляется со сложившимся на протяжении двух веков (от И. Гончарова – через Б. Пильняка – до Вс. Овчинникова) каноном восторженно-идеализированного описания Японии, пусть и приправленного – в случае советских журналистов – порцией ритуальной критики капитализма. Такой жест деконструкции ценен не только сам по себе, но и тем, что был действительно первым среди отечественных произведений о Японии.
Кажется, именно Пригов открыл дорогу появившимся позже, уже в недавние годы, произведениям о Японии, которые можно было бы охарактеризовать как непочтительные, – например, «Жапоналия» Д. Бандуры, А. Фесюна и А. Федоренко (2004) [825]825
В 2007 году в «Вагриусе» вышел развернутый и осовремененный вариант их книги – «Записки на манжетах кимоно».
[Закрыть](этакие занимательные «этнографические мемуары»), «Японские ночи» И. Курая (2005) (роман, в котором выведенный под прозрачным псевдонимом русский писатель-авангардист совокупляется в Японии с обезьяной [826]826
См. мою рецензию: Чанцев A.From Japan with Sorokin // Новое литературное обозрение. 2005. № 75 ( http://magazines.russ.ru/rrlo/2005/75/rec29.html).
[Закрыть]), «Записки гайдзина» В. Смоленского, «Годзюон» Н. Гладковой (бесхитростное женское повествование о японском быте) и многое другое.
С другой, не литературной, а бытовой стороны, но практически одновременно с Приговым к деконструкции японского мифа пришли Вадим Смоленский и Дмитрий Коваленин, работавшие в Японии в 1990-е годы и погруженные в самую «гущу» общества – так, Коваленин был портовым переводчиком. Вместе они создали сайт sushi.ru, где с 1998 года стали появляться «инсайдерские» байки об этой стране. Собственно, сочинение Курая или «Жапоналия» могут рассматриваться как результат совмещенного влияния этих «инсайдеров» и Пригова – или, во всяком случае, во многом обязанного Пригову концептуалистского стиля деконструкции мифов о той или иной культуре. Правда, здесь уместнее было бы не называние этих книг (к которым я отношусь достаточно сложно), а рассказ о том, как продолжилась приговская работа по переосмыслению японского, дальневосточного и, совсем шире, заграничного мифа в современной литературе со знаком плюс, – но, если не считать романа Леонида Костюкова «Великая страна», который повествует все же о вымышленной Америке, а не о Японии или Китае, примеров такого продолжения мне на ум не приходит, что является темой уже для другого разговора…
Избавление от ненужного априорного пиетета перед японской культурой у Пригова сродни своеобразной расчисткеместа или, точнее, «выключению» хора восторженных голосов. Недаром одной из главных тем в книге становится тишина – то есть потенциальная возможность новых голосов. Так, путешественнику рассказчик рекомендует расспрашивать у местных о стране «неслышно» (с. 53), пишет о пустоте и тишине, царивших в дзенском храме, несмотря на длившееся там застолье с настоятелем (с. 52, 56), призывает уходить во «внутреннюю Японию» – «еще глубже, в самую глубину, как в молчание» (с. 281). Добравшись же в своем повествовании до конца пребывания в Японии, восклицает а la Гамлет: «дальше – тишина» (с. 300).
Выражение «внутренняя Япония» в романе Пригова, безусловно, является отсылкой к расхожему в последнее время выражению «внутренняя Монголия» из романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота». У Пелевина под ним подразумевается некое сокрытое, мистическое пространство духовного мира, а отнюдь не провинция Китая под названием Внутренняя Монголия (Халха). Но если Пелевин не без иронии (в самом выражении проявляется его любовь к каламбурам и омонимам) фиксировал уже давно имевшуюся традицию локализации в некой восточной стране «места силы», идущую от романа «Утерянный горизонт» Дж. Хилтона с его волшебной страной Шангри-Ла (в Европе) и от существующего в определенных кругах культа Рериха и Блаватской, а также фигуры барона Унгерна (в нашей стране), то Пригов скорее деконструирует этот тип высказывания, лишая его – за счет того же иронически «непочтительного» подхода к Японии, – флера «мистичности» и даже, возможно, неявно апеллируя к «простоте» дзенских практик.
Избавляясь от мифа об экзотической и повсеместно прекрасной Японии, Пригов, по сути, не только освобождал место для новой, объективной прозы об этой стране, но и творил такую прозу в своей нарочито субъективной игре – обосновывая право этой прозы на существование в данном дискурсе, – подобно тому, как когда-то освобождал в завалах, созданных советским искусством, место для своих стихов, живописи и перформансов. Которые уже сами стали мифом.
Без этого мифа сейчас – совсем другая тишина…
Екатерина Дёготь
ПРИГОВ И «МЯСО ПРОСТРАНСТВА» [827]827
Переработаный вариант статьи, впервые опубликованной в каталоге выставки: Д. А. Пригов. Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Работы на бумаге, инсталляция, книга, перформанс, опера и декламация. Каталог выставки. Издательская программа Московского музея современного искусства. М., 2008. С. 50–59.
[Закрыть]
Русское искусство давно и часто обвиняют в «литературности», и его деятели научились так или иначе отвечать на эти обвинения. Сегодня очевидно, что именно эта способность концептуализировать нарратив, этот идеологический характер творчества и есть самое интересное, что русское искусство в принципе произвело – будь то реализм XIX века, постабстрактный авангард позднего Малевича, Эль Лисицкого и Филонова или московский концептуализм. Есть, однако, и еще одно определение особенности русского изобразительного искусства, которое тоже обычно используется с отрицательными коннотациями и которое это искусство тоже может с пользой для себя интериоризировать: «театральность».
В своем знаменитом эссе «Art and Objecthood» 1967 года [828]828
Fried М.Art and Objecthood // Artforum. 1967. June. № 5. P. 12–23. Впоследствии переиздано в: Minimal Art: A Critical Anthology / Ed. by Battcock. New York, 1968. P. 116–147.
[Закрыть]Майкл Фрид приписал это качество – излишнее, с его точки зрения, и глубоко антимодернистское включение зрителя в определенную пространственную ситуацию – минималистской скульптуре. При всем консерватизме Фрида он высказал достаточно экстравагантные идеи, до сих пор недостаточно понятые. Ведь сухие геометрические объемы минималистов, которые в глазах современного человека (особенно из российского художественного контекста) выглядят как едва ли не высшее проявление автономного модернистского объекта, формалистской «предметности» и отстраненного совершенства, он обвинил в излишне театральном присутствии!
Обвинение в театральности он основывал на ощущении от этих скульптурных форм как от антропоморфных, включая даже и антропоморфную телесность с пустыми полостями внутри. Белые параллелепипеды и кубы показались ему актерами. «Абстрактная» эстетика минимализма (и вскоре выросшего из него концептуального искусства) и «избыточно-барочная» эстетика перформанса сошлись для него в одной точке.
Это парадоксальное сравнение может кое-что объяснить и в разорванности корпуса работ Дмитрия Александровича Пригова, который был «бестелесным» концептуальным художником (со всей приверженностью минималистским текстам, текстовым объектам и мысленным, «фантомным» проектам) и одновременно – чрезвычайно «телесным» практиком перформанса. Кроме того, в 1990–2000-е годы он упорно настаивал на «антропологической» составляющей культуры.
* * *
Творчество Пригова, как становится ясно только сейчас, представляет собой единое целое: в ранних текстах содержатся ростки его последних художественных проектов. Уже очень раннее (1970) его стихотворение:
содержит в себе мотивы позднейших инсталляций – кровавая подкладка под якобы бестелесным изображением, под структурированным («рустованным») и одновременно бесформенным («мясо») пространством (см. илл. 1). И изображение, и пространство оказываются совершенно ложными, иллюзорными. Та же структура отличает и поздние (2000-е годы) «рисунки на репродукциях», в которых кровь начинает сочиться посреди мирных романтических пейзажей XIX века.

Илл. 1. Д. А. Пригов. Без названия. 2000-е годы. Репродукция, тушь. Собрание семьи художника, Москва
Пригов создал не очень много инсталляций. Обычно считается, что это не дает оснований говорить о Пригове как о художнике пространства, а в известном смысле такая лакуна сегодня молчаливо предполагает, что невозможно говорить о Пригове и как о художнике вообще, по крайней мере как о «современном художнике», который не ограничивается старомодным фигуративным рисованием. Но дело в том, что Пригов «писал» свои инсталляции гораздо раньше, чем смог их реализовать или даже спроектировать. В этом отношении принципиальное значение имеют его ранние пьесы (середины 1970-х годов), почти все – не опубликованные по-русски и существующие в машинописной копии в домашнем архиве.
В пьесе «Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью» (в конце машинописного экземпляра стоит позже приписанная дата «1975», но, судя по авторскому «мне 32 года» в одном из ее первых абзацев, можно более уверенно датировать ее 1973-м) три героя – Иван-1, Иван-2 и Иван-3, находящиеся в ожидании открытия винного отдела гастронома – только что подрались не на жизнь, а на смерть с тремя другими персонажами, которые называются то Спортсменами, то Ангелами. Выглядят теперь Иваны не слишком хорошо:
Этот принцип, согласно которому «ужас», выставленный на сцену, тем самым приобретает эстетическое качество («смотрится»), был структурирующим в творчестве Пригова. Многие участники московского концептуального круга 1970-х годов имели литературный бэкграунд, совершая в своем творчестве жест, по сути дела противоположный разработанной в те же годы критической редукции московско-тартуской семиотической школы: они не читалиобъект в виде текста, но писалитекст в виде артефакта. Андрей Монастырский в 1970-е годы работал в формах того, что можно было бы назвать «тактильной поэзией» – в виде готового предмета или коллажа из них (объекты «Пушка», 1975, «Палец», 1978, «Кепка», 1983 и другие). Он же позднее определял концептуализм как «поэзию философии» [831]831
Монастырский А.Предисловие составителя // Словарь терминов московской концептуальной школы. М.: Ad Marginem, 1999. С. 6.
[Закрыть]. Другой лидер московской художественной сцены, Илья Кабаков, высказывался при помощи нарративной структуры с фабулой и комментирующей речью персонажей – такие работы в советский период его творчества (до конца 1980-х годов) он называл «альбомами», а позже на Западе, где он получил возможность работать в пространстве, – «тотальными инсталляциями».
Монастырский был поэтом, Кабаков – романистом; Пригов же оказывается укоренен в третьем литературном роде, в драме. «Драма» – по-гречески «действие», «представление» – было основой его акционизма и синтетического перформативного жанра. Но она же лежала в основе как приговской поэзии и прозы (с постоянной инсценировкой конфликта между разными голосами), так и, что для нас наиболее интересно сейчас, в основе его работы в области визуального искусства. Пригов не только сам постоянно был «на сцене» (как чтец, рапсод, актер, общественный деятель), но и мыслил всегда категориями сцены.
Среди ранних пьес Пригове следует отметить такие сочинения, как «Пьеса в постановке» (1977) на абстрактный сюжет, описывающий в первую очередь фабулу пространственных изменений внутри сценической коробки [832]832
Опубликовано в: Д. А. Пригов. Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста! Каталог выставки. С. 14–25.
[Закрыть], «Революция» («радиотрагедия для двух репродукторов», 1979, в которой действуют большие народные массы и два источника идеологических указаний, постоянно противоречащие друг другу) [833]833
Пьеса «Революция» опубликована в журнале «Волга» (1989. № 10).
[Закрыть], «Вопрос закрыт» («пьеса с пониманием и послушанием зала», действие которой происходит на собрании и заканчивается приходом уборщицы) и более ранняя (1973, по свидетельству Бориса Орлова) «Место Бога» [834]834
Пьеса «Место Бога» опубликована в журнале «Ковчег» (Париж) (1979. № 4. С. 46–55) и перепечатана в журнале «Волга» (1995. № 10).
[Закрыть].
В литературном отношении эти тексты Пригова (кроме более традиционно построенного «Места Бога» – классической пьесы с длинными монологами и короткими ремарками) представляют собой некий «нарратив о пьесе», нечто среднее между расширенной ремаркой автора, который еще только надеется увидеть свое произведение на сцене, и подробным отчетом критика, уже видящего эту сцену и декорации на ней, в терминологии Пригова – «театр». Так, в пьесе «Революция» авторская ремарка сообщает, что предполагается «совсем мало актеров. В основном театр и зрители» [835]835
Пригов Д. А.Революция. Радиотрагедия для двух репродукторов. Машинопись. Архив семьи Д. А. Пригова. С. 2.
[Закрыть]. Само название «Пьеса в постановке» обозначает этот жанр описания реализованного проекта. Но «Пьесой в постановке», «поставленной» в пространстве, занимающей определенное место, можно было назвать и приговские инсталляции, представляющие собой (как и в случае инсталляций Кабакова) пространственную форму текста, своего рода «письмо пространством». А пьесу, соответственно, назвать «Пьесой в инсталляции», если бы в начале 1970-х годов это слово в СССР уже было распространено.
Описание сценической декорации в «Пьесе в постановке» очень точно соответствует его позднейшим «фантомам инсталляций» – нереализованным (или нереализуемым) проектам, которые в 2000-е годы стали местом приложения его «стахановской» креативности наряду со стихами. Таких рисунков существуют многие сотни, если не тысячи. Уже раньше, с 1990-х годов, Пригов реализовывал инсталляции в музейном контексте; самыми известными из них являются «Русский снег» с пространством, полностью засыпанным газетами (вариант этой работы был показан в 2004 году в Государственной Третьяковской галерее под названием «Видение Каспару Давиду Фридриху русского Тибета»), и «Инсталляция для бедной уборщицы» (или «…для уборщицы и сантехника»: «100 возможностей. Инсталляции для уборщицы и сантехника/100 Möglichkeiten. Installationen für eine Putzfrau und einen Klemperer» – галерея «Inter Art», Берлин, 1991), – впоследствии неоднократно повторенные. «Инсталляция для бедной уборщицы» еще и описана Приговым в «Азбуке (Инсталляция)» (1991), где изложена приговская теория «искусства инсталляции». По словам самого автора, описание воображаемой инсталляции он дает в форме «квазипространственной структуры» азбуки [836]836
Prigow D.Der Milizionär und die Anderen: Gedichte und Alphabete / Nachdichtungen von Günther Hirt und Sascha Wonders. Leipzig: Reclam-Verlag, 1992. S. 182. Все последующие цитаты из «Инсталляции (Азбуки)» далее приводятся по этому двуязычному изданию. В России указанное произведение переиздано в сборнике «Из архива „Новой литературной газеты“» (Сост. Д. Кузьмин. М.: АРГО-РИСК, 1997). В Интернете: http://www.vavilon.ru/metatext/nlg-arch/prigov.html.
[Закрыть].
В «Пьесе в постановке» мы впервые «видим» типичную приговскую инсталляцию: затягивающий раструб сценической коробки, полосы черной ткани, окно, маленькие стул и кровать. Пространственные зоны, располагающиеся от зрителя в глубину, символизируют временную последовательность от прошлого к будущему, но в силу резкого сокращения и несоразмерно малого масштаба окна и мебели возникает, как говорил Пригов, «перспективная склока» – нарушение антропологических пространственных координат. Сценическая коробка структрирована не только в глубину, по горизонтали, но и по вертикали; как и в многочисленных позднейших инсталляциях, здесь имеется открытый люк, символизирующий пространство «мира иного». Из него в конце появляется катафалк. Ключевую роль играет и задник – в «Мы рождены…» за ним раскрывается пространство снов трех Иванов, в конце задник срывается, «рушится буквально все, даже время, это нужно правильно понять…».
Эту относительно четкую пространственную структуру земного верха vs. «иного» низа, «здешнего» близкого vs. «потустороннего» нарушает в кульминации «Пьесы в постановке» вторжение из глубины «бесформенного» и одновременно антропоморфного «ужаса» (в целой серии «фантомов инсталляций» репрезентированного разрывом «вагины Малевича» (см. илл. 2)). В «Мы рождены…» этому соответствует ремарка «…лежат обломки чего-то грандиозного» (также воплощенная позднее в эскизах инсталляций). О той же опасности вторжения чего-то, что превосходит отведенное ему пространство, форму, говорится и в «Месте Бога», но там этого не происходит – Черт говорит Отшельнику:
Наш самый главный сюда сунуться не может. Он занял бы слишком много места. Я же тебе говорил, что это как электричество. Он размером вроде меня, но места занимает в неисчислимое количество раз больше. А Бог по твоей молитве попустил места только на мой размер [837]837
Цит. по изд.: Пригов Д. А.Место Бога // Ковчег (Париж). 1979. № 4. С. 55.
[Закрыть].

Илл. 2. Вагина Малевича. Из цикла «Фантомы инсталляций»
В целом мотив «постановки» как размещения в пространстве является ключевым для Пригова и расценивается им как божественная прерогатива, которую он в поэзии постоянно присваивал фигуре автора. (Отсюда знаменитый монотонно повторяющийся рефрен «вот всех я по местам расставил…» из поэмы «Куликово поле»).
«Фантомы инсталляций» Пригова построены всегда как перспективная сценическая коробка, закрытая с трех сторон (или с пяти, если считать пол и потолок) и открытая лишь спереди, видимая лишь «в фас». На практике в случае работы в музее такую пространственную ограниченность для взгляда зрителя можно было осуществить, занимая угол помещения, что и делалось во многих случаях, – например, в инсталляции «Угол» в галерее Крингс-Эрнст в Кельне (1991). Каждый «фантом» предстает как внезапно являемое зрелище на плоскости (ассоциации с библейским «Мене, текел, фарес» неоднократно тематизировались самим Приговым), но плоскость эта всегда удалена в глубину «сцены».
Е:Естественно для любого на фронтальную стену поместить глаз! – а почему на фронтальную? – а на какую же? не на боковую же? – согласен!
(«Инсталляция (Азбука)»)
Все это принципиально отличается от уже известных к началу 1990-х «тотальных инсталляций» Ильи Кабакова. Отчетливо помню, что Пригов в частных беседах всегда высказывал сдержанное удивление по отношению к определению «тотальная» – для него в этом слышалась слишком явственная связь с тоталитаризмом, который он (как человек, имевший значительный опыт жизни в СССР) понимал вовсе не как давление власти, но как насильственное вовлечение в коллективный и коммуникатный проект.
Инсталляции Пригова не тотальны в том смысле, что не окружают посетителя, не впускают зрителя в себя и не превращают в участника, как инсталляции Кабакова. Более того, известная пассивность и даже беспомощность зрителя – что особенно проявляется, когда он предстает как слушатель, по определению скованный в своем чувственном восприятии, неизбежно неполном без зрения, – является важнейшей стороной переживания приговских перформансов. (Это отчетливо видно в одном из видеофильмов Вадима Захарова, где во время чтения Пригова, прошедшего на выставке «Kräftemessen» в Мюнхене в 1995 году, сняты в первую очередь слушатели.) Но то же относится и к его инсталляциям, которые всегда сохраняют характер зрелища, иллюзии, видения, куда мы не можем войти.
Кабаков в своей книге «Тотальная инсталляция», где подводит итог своим собственным практикам, тоже проводит параллели между инсталляционной деятельностью и театром:
Все должно напоминать сцену театра, когда на нее поднимается зритель во время антракта… Тотальная инсталляция – место остановившегося действия, где происходило, происходит, может произойти какое-то событие [838]838
Кабаков И.О «тотальной инсталляции». München: Cantz, 1995. S. 128 (русский текст).
[Закрыть].
У Кабакова зритель действительно оказывается в инсталляции как бы в момент антракта – да еще и опоздав к первому действию и не зная, что за пьеса тут ставится, – и бродит по ней несколько потерянный, пытаясь угадать, что произошло и кто был героем. У Пригова же зритель ожидает начала действия, и в этом и состоит действие:
Самая правильная пьеса представляется мне следующим образом: выходит из-за кулис человек, доходит до центра сцены и падает в люк, в это время появляется второй человек, он тоже доходит до середины сцены и падает в люк, потом появляется третий человек, и на середине сцены он падает в люк, потом четвертый падает в люк, потом пятый падает, потом падает шестой, потом седьмой, потом восьмой, потом девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый… Открывается занавес [839]839
Пригов Д. А.Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. Машинопись. Архив семьи Д. А. Пригова. С. 1.
[Закрыть].
«Самое правильное» пространственное оформление приговских инсталляций включало бы в себя отгораживающий шнурок и ряды стульев перед ними. Его инсталляции установлены даже не на сцене, но на просцениуме, за которым вот-вот должен открыться занавес. Задняя стена сценической коробки и представляет собой такой занавес:
З:Занавес поместим на стене по обе стороны от глаза, как бы раскрывшимся и явившим тайну, им скрываемую…
(«Инсталляция (Азбука)»)
Очевидна связь ранних пьес Пригова с традицией авангарда, не столько даже с театром абсурда или сочинениями Хармса, которые, разумеется, приходят на ум, сколько со знаменитым «Le Roi Ubu» Альфреда Жарри, где опыт кукольного театра был распространен на театр живых актеров, и с короткими «синтезами» итальянского футуризма (около 1915 года), которые представляли собой формализацию более ранних опытов авангардистских кабаре и лекций-концертов, перенос их на театральные подмостки. Речь идет в первую очередь о футуристических опытах абстрактного театра. В первой из «синтетических пьес» Ф. Т. Маринетти («Они идут» [ «Vengono»], 1915) основными действующими «лицами» являются стулья, за движением которых со страхом наблюдают реальные актеры [840]840
Tisdall С., Bozzola A.Futurism. London: Thames and Hudson, 1977. P. 105.
[Закрыть]. У Пригова (в чьих инсталляциях стулья также часто играют ключевую роль…) в пьесах мало действующих лиц, но эта минимализация нужна не для выявления психологической структуры действия, как это свойственно драматургии С. Беккета, но для того, чтобы на первый план (иногда в буквальном смысле) вышел предмет и его обстановка, фактически – инсталляция.
Этот театр-инсталляция может включить в себя многое, едва ли не все, в том числе и компьютер, и кинопроекцию, как было пророчески сказано в уже цитированной «Азбуке» 1991 года:
К:Конечно, полно и других вещей, которые можно было бы употребить
М:Можно, скажем, молоток; топор, скажем; гвоздь, гвозди, доски, пепел, мел, железо, рельсы, уголь, алмазы, пушки; что, нельзя? – можно! – а можно еще и трамвай! – можно! – а можно и мотовило! – можно! можно! и самолеты можно! и сапоги! и брюки! и портянки! и коловорот! нельзя? – можно! можно порошки, пилюли, химикалии, банки-склянки (неожиданно громко) – а зачем кричать? – а затем, что сабли (громко), компьютеры (еще громче), кино (громче)!.. [841]841
Буква «Л» в этой «Азбуке» пропущена.
[Закрыть]
«Сапоги и брюки» действительно вошли в некоторые приговские инсталляции – те, где имеется фигура персонажа или персонажей (они либо присутствуют физически, в виде манекенов, или, еще чаще, представлена просто их одежда, наверченная вокруг пустоты, либо их созерцательное присутствие подразумевается в любой инсталляции, где есть центрирующий фокальный пункт) – Сантехник (иногда три сантехника, напоминающие Ивана-1, Ивана-2 и Ивана-3) и Уборщица. Их он определяет как «людей, борющихся с энтропией этого мира – соответственно трудом, как в западной протестанской цивилизации, или молитвой, как в православной» [842]842
Из лекции, прочитанной Приговым в Государственной Третьяковской галерее в 2004 году. Цитируется по видеозаписи.
[Закрыть].