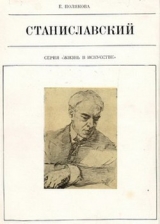
Текст книги "Станиславский"
Автор книги: Елена Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц)
Константин Сергеевич дает лекарства, дежурит возле брата, вспоминает недавнюю тяжкую смерть двадцатилетнего Феди Кашкадамова и смотрит на умирающего Павла с тем же пристальным вниманием, с каким Лев Толстой наблюдал умирающего брата: «…думали, что Паша отходит. Дали мускуса и пульс опять восстановился. Сейчас я его разглядел при свете. Он удивительно похорошел. Розовые щеки, резкое очертание глаз и темные брови, но руки совершенно как у скелета. Должно быть, до утра не доживет».
Тяжело начинается для семьи Алексеевых 1893 год. В январе умирает отец. Торжественны похороны, семья выпускает памятную книгу «Сергей Владимирович Алексеев в его добрых делах», где публикуются надгробные речи и подробно описываются истинно добрые дела покойного.
Менее чем через два месяца – новое несчастье. Городской голова Николай Александрович Алексеев (тот, который считал, что «у Кости не то в голове, что нужно») принимает посетителей в московской Думе. Один из посетителей ранит его выстрелом в упор – через два дня он умирает. Это не привычное в России политическое убийство, но убийство, как принято говорить, «по личным мотивам». Константину Сергеевичу выпадает на долю сообщить о происшедшем семье двоюродного брата. И через сорок пять лет он вспомнит: «Когда-то я должен был сообщить жене городского головы о том, что мужа ее застрелили. После того как я ей это сказал, мы оба стояли неподвижно минут двадцать. Я не шевелился, боялся, что она упадет, и действительно, когда я двинулся, она упала».
Объектом острой, постоянной наблюдательности оказывается абсолютно все – впечатления дальних путешествий, близкие поездки в Любимовку, свадьба младшей сестры: «Любовь Сергеевны Алексеевой не существует, а есть Л. С. Струве… Исайя возликовал, и нашего полку прибыло… Все произошло так, как и следовало ожидать. Еще накануне вечером стук ножей и освещение в кухне предупредили всех о предстоящих хлопотах наступающего дня; с восходом же солнца началась и безумная беготня, не прекращавшаяся вплоть до наступления темноты. Конечно, и гости были свадебные, т. е. скучные и голодные. Свезли их всех из Москвы и окрестных мест, измученных вагонной духотой, и рассадили по стенке в не менее душной зале любимовского дома. Точь-в-точь как у зубного врача в приемной. Все как-то сами по себе, друг друга не ведая, собрались ради одной цели и ждут, что вот-вот взойдет зубной врач или, в данном случае, хозяин дома и позовет их… Как и следовало быть, невеста опоздала, и долго бедные гости, чающие обеда, просидели, как у доктора в приемной. Но Мамонтов запел „Се жених грядет“, и гости отправились в церковь смотреть туалеты дам».
Рождение дочери в июле 1891 года так отображено в письме к доброму товарищу:
«Милый Николаша!
Хотел писать тебе вчера; но должность папаши оказалась гораздо хлопотливее, чем я предполагал, так что лишь сегодня днем освобождаю минутку, чтобы поделиться с тобой нашей радостью.
Вчера, в воскресенье, бог послал нам дочку. Имя ей Кира Константиновна. Оригинальность этого имени уже вызвала всеобщие остроты, так что меня стали звать Дарием Гистаспом, а ее Кирой Дарьевной. За соль остроты не отвечаю, так как сама острота не моя… Маруся тебе кланяется, я крепко целую.
Твой Кокося.
Письмо лежало запечатанным на столе, когда нам подали твой прелестный подарок. Маруся в полном восторге и находит твою корзинку очень практичной (видна хозяйка). Я нашел ее очень элегантной и красивой (виден артист). Так или иначе, дело не в корзинке, а в памяти… Маруся крепко жмет тебе руку, а я обнимаю тебя».
Кажется, именно этого человека имел в виду Островский, определяя призвание к театру в раздумьях о театральных школах:
«Призванным к актерству мы считаем того, кто получил от природы тонкие чувства слуха и зрения и вместе с тем крепкую впечатлительность. При таких способностях у человека с самого раннего детства остаются в душе и всегда могут быть вызваны памятью все наружные выражения почти каждого душевного состояния и движения; он помнит и бурные, решительные проявления страстных порывов: гнева, ненависти, мести, угрозы, ужаса, сильного горя, и тихие, плавные выражения благосостояния, счастия, кроткой нежности. Он помнит не только жест, но и тон каждого страстного момента: и сухой звук угрозы, и певучесть жалобы и мольбы, и крик ужаса, и шепот страсти. Кроме того, в душе человека, так счастливо одаренного, создаются особыми психическими процессами посредством аналогий такие представления, которые называются творческими».
Станиславский – идеал человека, предрасположенного, призванного к театру. И Станиславский – идеал человека, целиком оправдавшего эту психологическую, творческую предрасположенность. Поэтому к нему совершенно применимы и последующие указания Островского:
«…весь этот запас, весь этот богатый материал, хранящийся в памяти или созданный художественными соображениями, еще не делает актера; чтоб быть артистом – мало знать, помнить и воображать, – надобно уметь… Чтобы стать вполне актером, нужно приобресть такую свободу жеста и тона, чтобы при известном внутреннем импульсе мгновенно, без задержки, чисто рефлективно следовал соответственный жест, соответственный тон… Зритель только тогда получает истинное наслаждение от театра, когда он видит, что актер живет вполне и целостно жизнью того лица, которое он представляет, что у актера и форму, и самый размер внешнего выражения дает принятое им на себя и ставшее обязательным для каждого его жеста и звука обличье. С первого появления художника-актера на сцену уже зритель охватывается каким-то особенно приятным чувством, на него веет со сцены живой правдой; с развитием роли это приятное чувство усиливается и доходит до полного восторга в патетических местах и при неожиданных поворотах действия; зала вдруг оживает…»
Это словно написано непосредственно о Станиславском, выходящем на сцену в ролях Ростанева, Звездинцева, Обновленского, а прежде всего – в ролях самого Островского.
Всего два года прошло со времени неудачного выступления в «Лесе», когда любитель оказался беспомощным перед трудной ролью. В 1890 году он вступает в прямое соревнование с блистательным исполнителем роли Паратова – со своим кумиром Ленским, которому совсем недавно слепо подражал: «Года два тому назад я видел Ленского в роли Паратова. Его жизненная и тонкая игра произвела на меня такое впечатление, что с тех пор я искал случая выступить в означенной роли, думая, что мне удастся создать фигуру, по простоте и выдержанности сходную с тем лицом, которое играет Ленский. Мне казалось, что внешний вид благодаря моей фигуре выйдет еще эффектнее, чем у него. Я с удовольствием взялся за изучение роли Паратова…»
Изучая роль, исполнитель обращается к двум источникам. Прежде всего он прослеживает развитие характера персонажа у драматурга. Бессердечность, холодный эгоизм его оттеняется множеством полутонов, дополнительных оттенков, контрастов. Заповедь «когда играешь злого…» присутствует и в этой роли, но в ином качестве, чем в прямом, грубо-властном характере Имшина. Паратов принадлежит к людям, которые «внушают к себе доверие безграничное», сознают свою силу и превосходство над другими; в отношениях с женщинами он способен быть искренним (хотя и ненадолго). Одновременно с анализом характера, созданного Островским, исполнитель обращается непосредственно к «образцам из жизни».
Это тем более легко, что персонажи пьесы, написанной в 1878 году, остаются современниками и в девяностых годах. Паратовы, Кнуровы, Вожеватовы составляют ежедневную, будничную среду московских дельцов, характеры и устремления которых так хорошо знает молодой Алексеев.
Актер черпает из этого источника открыто: для него Паратов – «тот же Лентовский, только больше барин»; в сцене с Огудаловой «тон с тетушкой принимаю несколько купеческий (Виктор Николаевич Мамонтов таким тоном разговаривает с мамашей)», – записывает он.
Тщателен грим, обдуманно подобран костюм; уже не Станиславскому, а Паратову принадлежит эта белая дворянская фуражка, безукоризненный сюртук, папиросы в длинном мундштуке. Снова силен «эффект присутствия», которого и добивается исполнитель, – словно бы не театральный персонаж появляется на сцене, но сходит на волжскую пристань с парохода «Ласточка» реальный красавец барин, холодный, самоуверенный, властный.
Петербургский театрал, литератор барон Дризен, проездом бывший в Москве, запишет свои неожиданные впечатления от этого исполнения через несколько лет:
«Зимой 1895–1896 года я вновь был в Москве. Мне предложили пойти в Охотничий клуб. Там был назначен очередной спектакль Общества искусства и литературы. Шла „Бесприданница“ Островского. Зная по опыту, каков вообще удельный вес любителей, я и к этой затее отнесся критически. Однако первый выход Паратова (Станиславского), Ларисы (М. Ф. Андреевой) и Робинзона (Артема) вызвал во мне совсем другие чувства. Налицо были не только талантливые люди, но прежде всего необыкновенно тщательная отделка ролей… Лучшего Паратова я не помню. Это действительно губернский лев, сердцеед, общий любимец, рубаха-парень. Станиславскому вообще удаются военные; даже под штатским сюртуком зрители чувствуют военную косточку, изящество манер и внутреннюю дисциплину».
Как всегда у Станиславского, со временем роль не блекнет, по углубляется. В 1894 году любитель выступает в Нижнем Новгороде в гастрольном спектакле, где роль Ларисы играет Ермолова. Естественно, что только имя знаменитой актрисы выделяется в афише крупным шрифтом, имя г-на Станиславского – в ряду прочих. Но нижегородские зрители и рецензенты неожиданно выделяют в спектакле именно любителя. «Г-н Станиславский в первый раз еще выступил на чтениях, но показал себя очень хорошим артистом. Он был вполне естествен, типичен и жив, так что фигура Паратова, соединяющего в своей особе крепостническое барское самоуправство с купеческим, волжским, вышла в его чтении цельной и яркой. Казалось, что на сцене вполне живое лицо, которое и негодование возбуждало, как лицо живое». Так воспринял исполнение критик газеты «Волгарь»: именно для него был особенно неотразим «эффект присутствия» героя Станиславского в жизни, именно нижегородцы так остро почувствовали правду этого «барина из судохозяев», сочетающего высокомерную избалованность помещика и хватку сегодняшнего дельца.
Снова роли Островского – главные и эпизодические: обезумевший от ревности Петр в «Не так живи, как хочется», вновь сыгранный Несчастливцев, безмолвный Барин с большими усами – разорившийся помещик, прихлебатель богатого купчины в «Горячем сердце», квартальный, описывающий в финале комедии «Свои люди – сочтемся» имущество замоскворецкого дома. Сотоварищ по Обществу Николай Александрович Попов запомнит эту рольку, превращенную Станиславским в истинную роль:
«Об исполнении им роли квартального стоит вспомнить потому, что в ней он особенно ярко показал сущность своей творческой природы – театральное правдолюбство. Текст этой роли, всего семь реплик, как бы служил ему лишь материалом для игры, и игры сугубо в своей основе реалистической. Его квартальный вел себя на сцене так, как если бы ему поручено было настоящим начальством, а не по воле драматурга, принять меры к действительному пресечению плутовских махинаций купца Подхалюзина; театр перерастал почти в жизнь… Квартальный рылся корявыми пальцами в своих бумагах, поглядывая подозрительно то на Подхалюзина, то на других действующих лиц; посмотрит исподлобья, покряхтит, пробурчит что-то, опять займется своими бумагами. Пьеса по автору уже явно кончилась, но публика ждала продолжения».
Актер увлеченно сочетает «образцы из жизни» с характерами, воплощенными драматургом, и сочетания эти всегда не менее интересны, чем роли Ленского или Киселевского. Красавец Дульчин из «Последней жертвы» обаятелен в своем мягком легкомыслии, в уверенности, что женщины всегда его выручат из любого затруднительного положения. Словно из реальных Сокольников или из «Яра» явился в купеческий дом этот стройный красавец в безукоризненно модном сюртуке, с безукоризненно модной тросточкой в руках – страстный, нетерпеливый игрок, истинно светский человек при всем его авантюризме. Словно прибыл из своего пошатнувшегося имения персонаж комедии «Дикарка», молодящийся Ашметьев – седой, обрюзгший, с эспаньолкой, одетый в какой-то сверхмодный костюм со множеством карманов, под сверхмодным широким зонтиком, которым старый жуир как бы отгораживается, отмахивается от жизни. Словно действительно управляет чужим имением молодой Рабачев из пьесы «Светит, да не греет» – и так не похожа его простая поддевка, его косоворотка на щегольской костюм Паратова или Дульчина, так прям взгляд его глаз, так свеж деревенский загар на серьезном молодом лице, и так страшна трагедия его любви, обманутой бессердечно легкомысленной женщиной.
Станиславский осваивает сейчас современную драматургию в ее лучших образцах, почти минуя ремесленные средние пьесы, которые вынуждены играть актеры казенных театров. В репертуаре лидирует Островский, в нем весом Писемский, в 1891 году в него входит комедия Толстого «Плоды просвещения», написанная в 1889 году и наконец-то разрешенная к представлению, но только на любительских сценах. Для себя Станиславский выбирает роль московского барина Звездинцева, который увлеченно общается с духом византийского монаха на спиритических сеансах, в то время как безземельные мужики с трепетом ждут решения своей участи в прихожей. Прекрасно воспитанный господин с выхоленными бакенбардами смотрел на мужиков глупо выпуклыми глазами, какие могут быть только у персонажа комедии. Снова в восторженных рецензиях выражается сожаление, что такой актер не является украшением казенной сцены, снова отмечается удивительная естественность поведения его персонажа, знакомого всем москвичам, посещающего, кажется, «исполнительные вечера» Общества искусства и литературы. Вскоре, в том же 1891 году, Станиславский играет полковника Ростанева в собственной инсценировке «Села Степанчикова», которой он надеялся открыть Общество искусства и литературы и которая была разрешена к представлению лишь через три года, хотя все в ней осталось в полной неприкосновенности, за исключением фамилий персонажей повести Достоевского.
Себе автор инсценировки предназначил не самую выигрышную роль ханжи и негодяя Фомы Опискина (в инсценировке – Оплевкина), но самую бездейственную роль немолодого отставного полковника Ростанева (Костенева), которого все дурачат. Федотов-сын в роли Фомы отлично произносит витиеватые монологи о ничтожестве человечества и о собственной значительности. Перед ним понуро стоит статный, высокий Ростанев, сокрушенно кивает головой, сознавая свое ничтожество перед Фомой Фомичом. Роль далась сразу, легко, без всяких усилий; вышел на сцену мягко-деликатный, застенчиво-добрый человек в венгерке со шнурами, с чубуком в руке – и партнеры и зрители сразу поверили, что перед ними озабоченный дядюшка, владелец села Степанчикова, в котором происходят тревожные события. Исполнитель верил в это на протяжении всех спектаклей, которые пришлось ему играть. Словно сущность образа Достоевского совершенно слилась, соединилась с человеческой сущностью исполнителя и они дополнили друг друга без малейшей «несовместимости», которую часто и трудно приходилось преодолевать Станиславскому. Роль так и осталась любимой, всю жизнь вспоминалась эта радостная легкость, абсолютная власть над зрительным залом, и никогда не чувствовал он себя так естественно, так просто, как в роли полковника Ростанева.
Играя молодых водевильных простаков, неловких влюбленных, актер мечтал о красавцах-любовниках, о Дон Гуане, о Фердинанде, а получив эти роли, ощущал свою мучительную с ними неслиянность. Неизбежно оказывалось, что водевильные простаки ближе ему, что доброта, радость жизни, бывшие всегда свойством его натуры, его таланта, полнее воплощаются в непритязательном Мегрио, чем в знаменитой роли Фердинанда. А в простодушном Ростаневе вообще наиболее полно воплотился человеческий идеал исполнителя. Он блистательно играет плута Обновленского и цинично холодного Паратова, но истинно любит он своих простодушных героев, которые не только мечтают о доброй для всех жизни, но несут людям это добро, исполнены им, творя его повседневно, – как вдовец Ростанев, робко влюбленный в гувернантку своих детей и самоотверженно защищающий свою любовь. Станиславский сливается, сживается с ролью, он воспевает своего героя, его деликатность, доверчивость, наивность человека, который всем готов помочь, – и играет трагедию человека, который не замечает, что доброта его уже употреблена во зло, что Фома Опискин будет всегда управлять и помыкать им. Ведь в финале спектакля не кто иной, как негодяй Фома, соединял руки Ростанева – Станиславского и гувернантки Настеньки – Лилиной и воцарялся в доме уже навечно. Он понял, чем можно подчинить, перехитрить добряка-хозяина – личиной доброты, которую Ростанев не сможет отличить от подлинного лица негодяя.
У истоков этого братства прямодушных и простодушных персонажей – водевильные добряки, которые так увлеченно хлопотали о нехитром счастье своих приятелей и гризеток. К этому братству принадлежал наивный секретарь «практического господина» Покровцев, оно воссоединяет трагического Анания Яковлева с шекспировским Бенедиктом из комедии «Много шума из ничего», поставленной Станиславским в начале 1897 года. Этот смуглый, белозубый красавец преисполнен у Станиславского веселья, жизнерадостности, желания добра всем обитателям средневекового замка, где ему самому так беззаботно живется, где так приятно вести шутливые диалоги с веселой Беатриче – Лилиной.
В братство добрых героев молодого актера входит и персонаж популярной комедии «Гувернер».
Пьеса Дьяченко о французе-гувернере и о злоключениях, которые испытывает он в захолустном помещичьем семействе, обошла все сцены России. Гувернера блистательно играли Василий Васильевич Самойлов в Петербурге, Шуйский в Москве. Гувернер был любимой ролью Станиславского – как Мегрио, как Лаверже, как прекраснодушный владелец Села Степанчикова.
Роль сочетала свойства всех любимых ролей: простодушие полковника из повести Достоевского, легкую французскую веселость Мегрио и Лаверже. Жорж Дорси, бывший сержант французской армии, обучал сына помещицы парижскому произношению, очаровывал саму помещицу, уморительно рассказывал о своих подвигах на смешении французского с нижегородским (с преобладанием французского), показывал перепуганной приживалке Перепетуе Егоровне всевозможные ружейные приемы.
В образе Дорси, как он был написан автором, ощущалась некая возвышенная сентиментальность – экспансивный гувернер брал под защиту девушку, которой несладко жилось в доме его хозяйки, и в финале уходил из дома, где пользовался многими благами (в том числе сердечной благосклонностью хозяйки), потому что его рыцарственная душа не могла смириться с обидой, нанесенной беззащитной девушке. У Станиславского эта черта характера выступала на первый план – его Жорж Дорси был далеким потомком Дон Кихота, сохранившим наивность и прямодушие рыцаря, всегда выступающего в защиту невинности и слабости. Гувернер из модной пьесы вставал рядом с самой любимой ролью, с Ростаневым, и закономерно, что, вспоминая впоследствии героя Достоевского, Станиславский написал страницу о том, как приятно было ему играть Жоржа Дорси (правда, в окончательной редакции книги эта страница была снята):
«Ни в одной роли я не чувствовал себя так свободно, весело, бодро и легко; не думая об образе, я уже играл самый образ, который пришел инстинктивно от правильного самочувствия на сцене. Быть может, впервые внешний образ создался инстинктивно, изнутри. Кто знает, может быть, на этот раз сказалась французская кровь бабушки-артистки? Несомненно, что я шел в роли от характерности, несомненно, что снова был большой успех и роли и всего спектакля. Я любил роль, спектакли доставляли мне удовольствие…»
Уже в афишах «Гувернера» фамилия Станиславский печатается красной строкой, крупным шрифтом. Уже, играя Анания в одном спектакле со знаменитой исполнительницей роли Лизаветы – с Полиной Антипьевной Стрепетовой, – Станиславский становится героем вечера, привлекающим восторженное внимание зрителей. Уже в Охотничий клуб, в Немецкий клуб публика ходит «на Станиславского», как ходит в Малый театр «на Федотову», «на Ленского», «на Садовскую».
Осуществилась, целиком воплотилась мечта юного любителя, заносившего после спектаклей в свой дневник подробные описания ролей Музиля или Садовского. Из подражателя любимцам Малого театра, из копировщика превратился в создателя, стал на сцене свободен, как Музиль, как Правдин, как Ленский. С той же постоянной, радостной, широкой наблюдательностью берет он «образцы из жизни» (в роли Жоржа Дорси претворяются черты знакомого конторщика) и создает образы, самостоятельные по отношению к любимым актерам. Актеры эти ездят смотреть его в Общество, обсуждают возможность прихода удивительного любителя в Малый театр. Редкая статья не кончается сожалением о том, что «такое блестящее дарование» принадлежит лишь любительской сцене. Островский, Толстой, Мольер, Шекспир – ни сезона без новой роли. Станиславский играет радостно, часто. И так же радостно режиссирует новые «исполнительные собрания» своей любительской труппы.
III
Сам он считает началом своей режиссерской деятельности постановку спектакля «Горящие письма», осуществленную в 1889 году. На деле спектакль этот можно считать началом нового периода в режиссуре Станиславского, но никак не началом самой режиссуры.
Почти восемь лет тому назад, летом 1882 года, он получил в Любимовке венок, на ленте которого была надпись: «От артистов-любителей товарищу-режиссеру». «Тайна женщины» и «Любовное зелье», «Жавотта» и «Маскотта», «Лили» и «Нитуш» не только сыграны – поставлены юношей, который так же уверенно подражает действиям и указаниям режиссера профессионального театра, как подражал актерам: он разрабатывает мизансцены, переходы, бойко разводит актеров – братьев и сестер («Ты, Зина, стоишь у окна, а ты, Юша, отходишь к двери»). Он репетирует массовые сцены с кучерами и дворниками, старательно изображающими солдат и разбойников. Критики отмечают тщательность срепетовок, отчетливость сценического действия в спектаклях Алексеевского кружка. Музыка, так часто сопровождающая домашние спектакли, помогает режиссеру определить ритм и темп спектакля, избавить его от вялости, растянутости, зачастую свойственных драматическим зрелищам, исполняемым любителями.
О спектаклях этого кружка говорили именно как о прелестных зрелищах, выдержанных в едином ритмическом, музыкальном, живописном ключе, что так выгодно отличало их от убогой режиссуры профессиональной оперетты и водевилей, где все определяли актеры-премьеры. Станиславского режиссура привлекает как организация сценического пространства, как руководство актерами, действующими в этом пространстве. Но еще больше, пожалуй, привлекает его возможность воплощения драматургических образов в той реальной, естественной среде, из которой вывел их писатель в драму и в которую снова увлеченно переносит их Станиславский-режиссер. Вспомним, что еще в «Практическом господине» он возвращал к первоначальным житейским отношениям, заставлял действовать в образах не только самого себя – исполнителя роли Покровцева, но всех персонажей достаточно ремесленной пьесы, вовсе не требующей такой степени правдивости.
К самой реальности, к жизненной первоначальности он устремлен и тогда, когда в середине восьмидесятых годов подробно записывает свои «мечтания о том, как бы я обставил и сыграл роль Мефистофеля в опере „Фауст“ Гуно». Он обратился к популярным иллюстрациям немецкого художника Лицен-Майера, весьма точным по бытовой верности эпохе и весьма поверхностным по существу, и в то же время снабдил эти иллюстрации комментариями, совершенно не соответствующими стилю иллюстраций. Комментарии молодого режиссера вводят не в привычную по оперным спектаклям, нарисованную, но в самую настоящую лабораторию алхимика: «Низкая подвальная комната, вышиною немного более человеческого роста. Закоптелые от дыма и кислот стены. Тяжелые подвальные своды как бы придавливают скромную и убогую конуру ученого старца». Режиссер подробно описывает раскаленную печь, закоптевшую стену возле печи, стеклянные сосуды и обломки этих сосудов, зарисовывает подробную планировку сцены: действие происходит в подвале, поэтому лестница ведет от двери вниз; стол завален книгами, географическими картами, большая карта висит на стене.
Интересны здесь не столько описания декораций, сколько примечания к ним. Примечание первое: «Я бы сделал эту декорацию не кулисами, а комнатой, то есть с тремя сплошными стенами, причем сузил бы и убавил бы в вышину сцену, чтобы тем придать декорации еще более мрачный и душный вид. Все предметы, которыми будет наполнена комната Фауста, как-то: книги, склянки и т. п., должны быть непременно рельефные и не нарисованные».
К подробному описанию раскаленной печи и горшка, из которого струится пар, относится второе примечание:
«Быть может, это не совсем верно, так точно, как и горячая печь. Принимая во внимание настроение, в котором мы застаем Фауста с поднятием занавеса, можно было бы предположить, что он, разочаровавшись в науке, бросил свои прежние занятия, исключительно занялся отыскиванием правды. Таким образом, вернее было бы изобразить ту часть декорации, где находится печь, в полном беспорядке, как вещь заброшенную. Если это так, то не следует делать догорающей печи и выходящего из горшка пара».
В этих юношеских «мечтаниях» перед нами предстает не условно-сценическая обитель Фауста с бутафорскими ретортами и очагом, в котором виднеется красная материя, имитирующая пламя, но трехмерная подвальная комната, в которой предметы обжиты и стары, в которой нет ничего нарочитого, в которой все вещественно и переменчиво: струится пар из горшка, мерцает светильник, источник освещения – не рампа, но сложный живой смешанный свет печи, светильников, маленького окна, в котором синеет рассвет и разгорается заря.
В «мечтаниях» о том, какими будут Фауст и Мефистофель в этом воображаемом спектакле, будущий режиссер отвергает привычные сценические решения. Он видит своего духа тьмы в черном плаще на красной подкладке – плащ должен суживаться книзу, словно превращаться в хвост, края плаща должны быть неровными, как крылья летучей мыши; шляпа с пером должна напоминать о рогах, лицо дьявола должно быть узким, с орлиным носом, с длинным подбородком (имея в виду свое лицо, автор экспозиции говорит о приклеенном подбородке), с тонким ртом, «кончающимся злой и строгой линией вниз», с насмешливым взглядом, который избегает взгляда собеседника-жертвы. В этом описании проступает образ того Мефистофеля, каким создаст его в будущем Федор Иванович Шаляпин. В этом описании содержатся основы будущей режиссуры Станиславского с ее вниманием к реальности, к быту любой эпохи. Он ломает привычную ограниченность сценической коробки, изгоняет условные бутафорию, обстановку, освещение – все приближает к жизни и в то же время никогда не забывает о том, что эта оживающая реальность возникает именно на сцене, что в зале сидят зрители, что пауза может длиться всего несколько секунд, что мизансцена не может долго быть статичной, что действие должно развиваться в совершенно определенном, заранее заданном темпе и ритме и даже то, что Мефистофелю, который на рисунке Лицен-Майера в мягких туфлях, для сцены непременно нужно сделать туфли на каблуках.
Мечтания о постановке «Фауста» остались мечтаниями: в юности удалось осуществить лишь некий музыкальный дивертисмент, разыгранный молодыми Алексеевыми в доме Мамонтовых, на масленице. В зал входили ряженые – монахи-капуцины в темных рясах, в капюшонах, скрывающих лица; внезапно среди монахов возникал черно-красный Мефистофель – Костя Алексеев, Мефистофель вызывал соблазнительницу-танцовщицу: Федя Кашкадамов сбрасывал рясу, оказывался в балетной пачке и скользил среди монахов, проявляя особое внимание к настоятелю (Иван Николаевич Львов). Завершалась пантомима общим танцем монахов вокруг танцовщицы.
Театр, к которому прикасался Станиславский, всегда возвращался в необъятную, разнообразную, интересную во всех своих формах и деталях жизнь; жизнь, к которой прикасался Станиславский, всегда превращалась в увлекательный, радостный театр. Сестра вспоминает, что в детстве, когда мать почему-то запретила сыновьям репетировать, в зале тут же появилась похоронная процессия: братья в костюмах факельщиков несли гроб, в нем покоилась пьеса, которую маманя запретила готовить. Сама жизнь в Любимовке – цепь праздников, ряженья, – то в цыган, то в тореадоров, то в моряков, спектакли лишь продолжают эту пеструю бесконечную цепь. С самого раннего детства жизнь сливается с театром, театр – с жизнью: с давнего, но всем памятного домашнего происшествия. Дети Алексеевы изображали Времена года в «живых картинах». Девочки располагались на подмостках живописной вереницей, Зина – Осень, убранная желтыми листьями, поставила ногу на арбуз и была больше всего озабочена тем, как бы сохранить красивую позу. Маленький Костя был Зимой – его закутали в вату, привязали белую бороду, дали в руки настоящее поленце и поставили возле настоящего костра. Мальчик тут же сунул поленце в костер, оно загорелось, могла вспыхнуть вата. Зиму немедленно утащили за кулисы; мальчик плакал и отбивался, ему хотелось продолжить «правдивое действие».
Наследник богатой московской семьи, призванный к продолжению солидного семейного дела, он самое дело это воспринимает как часть вечного потока реальности, в котором так прекрасно жить и который так увлекательно переносить на сцену.
С полной увлеченностью пишет он родителям об усовершенствованных машинах, которые покупает во Франции для фабрики в 1892 году:
«Интересного я узнал очень и очень много. Теперь меня уже не удивляют баснословно дешевые цены заграничных рынков. Папаня поймет, какого прогресса достигли здесь в золотоканительном деле: я купил машину, которая сразу тянет товар через 14 алмазов. Другими словами: с одного конца машины идет очень толстая проволока, а с другого – выходит совершенно готовая… Узнал также, как можно золотить без золота – и много, много других курьезов. Очень этим доволен и надеюсь, что по приезде мне удастся поставить золотоканительное дело так, как оно поставлено за границей. Надеюсь, что тогда это дело даст не 11–12 процентов, а гораздо более». (Следующие строки: «В Париже, кроме мастеров и инженеров, я видел только театры по вечерам. К сожалению, репертуар самый неинтересный. Кроме Comédie – никуда не стоит ходить. Все пьесы в жанре коршевских. Вчера, например, я видел, как один мужчина раздевался на сцене, т. е. снимал панталоны, рубашку. Ложился в постель. К нему пришла дама и сделала то же. Занавес опустили на самом интересном месте. И все это происходило перед лучшей, т. е. фрачной, публикой Парижа»).
Так же увлеченно, как описывал Алексеев устройство машин, перечисляет Станиславский бесконечные мелочи театрального устройства в письме администраторам Охотничьего клуба, на сцене которого идут спектакли Общества искусства и литературы:








