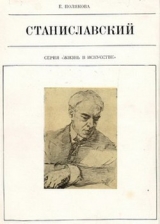
Текст книги "Станиславский"
Автор книги: Елена Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 40 страниц)
Возможность закрытия действительно существует – велики трудности работы, содержания труппы, мастеров, билетеров, уборщиц, сторожей. Всем нужны зарплата, пайки, одежда, жилье. В разоренной стране закономерен вопрос: нужно ли содержать, отапливать огромные театральные помещения (особенно оперных театров), шить из дефицитной материи занавесы и костюмы, давать пайки артистам – или закрыть театры, использовать трудоспособных людей в других, насущно необходимых делах? Старый уклад жизни канул в прошлое – может быть, и старый театр с его вниманием к личности, к судьбе отдельного человека тоже принадлежит прошлому, закономерно должен уступить место массовым действам, уличным празднествам?
Ведь в первую годовщину Октября в Петрограде идет премьера «Мистерии-буфф» Маяковского, в Москве показывается массовое празднество «Пантомима Великой Революции». Пролеткультовцы увлеченно ставят стихотворный монтаж «Зори Пролеткульта», в 1920 году Мейерхольд показывает драму Эмиля Верхарна «Зори», воспевающую великое народное восстание. На фоне серых кубов-декораций торжественны массы, хоры людей, где личности слиты, неразличимы. А в афишах Художественного театра чередуются названия старых классических пьес и пьес Чехова и Горького, ставших классиками.
Луначарский вспомнит впоследствии характерный разговор во время спектакля МХТ:
«Это было в первые годы после революции. В Художественном театре была дана пьеса Щедрина „Смерть Пазухина“. Публика восторженно аплодировала Москвину, Леонидову, всей талантливой постановке пьесы.
Ко мне подошел пожилой рабочий, добрый коммунист, человек довольно высокой культурности, но вместе с тем, как это тогда нередко бывало, – убежденный пролеткультовец.
Поглядывая на меня недоверчиво и в то же время злорадно ухмыляясь, он заявил:
– Провалился Художественный театр.
– Да что вы? – ответил я. – Разве вы не видите, какой успех?
– Это буржуазная публика аплодирует своему буржуазному театру, – ответил он уже с явным раздражением.
Я вступил с ним в ожесточенный спор.
Через несколько минут он, держа меня за рукав и с почти болезненной гримасой на своем суровом лице, говорил мне:
– Да и сам чувствую, что задевает, но я боюсь в себе этого, я в себе это осуждаю. Не должен такой театр нравиться хорошему пролетарию. Стоит только напустить к себе этого утонченного и старого мира, и начнется разложение в наших рядах!
Спор наш продолжался и дальше. Продолжался он не только с этим товарищем, а и с другими, мыслившими таким же образом».
Такие же диалоги происходили на спектаклях, которые ставил, в которых играл Станиславский. Он достойно переносит тяготы собственной жизни, но тяготы жизни театра его мучают. Маяковский встречает Октябрь с чувством: «Моя Революция». Станиславский встречает Октябрь с чувством: «Моя Россия». В этом понятии соединяются для него «бедные классы», Толстой и Ермолова, Чехов и Малый театр, Третьяковская галерея, театр в Камергерском с пловцом, рассекающим волны. Вся великая культура, которую нужно во что бы то ни стало сохранить для самих «бедных классов», ставших хозяевами жизни. Сохранить в самом буквальном значении: не дать промерзнуть зданию, не дать разойтись труппе, накормить мастеров, костюмеров, плотников, оркестрантов, работников хозяйственной части. Сохранить давний репертуар Горького и Островского, заново поставить «Чайку», достойно показать «Дядю Ваню», открыв новые возможности Чехова.
Это слово – сохранить – произносит Ленин: «Если есть театр, который мы должны из прошлого во что бы то ни стало спасти и сохранить, – это, конечно, Художественный театр».
Именно политика партии большевиков в области культурного строительства определила всю дальнейшую дорогу Художественного театра и его руководителей.
Театру активно помогает Малиновская, занявшая в 1918 году должность управляющего государственными театрами (с 1920 года они будут называться академическими). Обращение Станиславского «Глубокоуважаемая Елена Константиновна», «сердечные приветы», передаваемые коммунистке с большим подпольным стажем, выражают его отношение к ней.
В конце 1918 года Станиславский вспомнит свое первое знакомство с Малиновской: «Я, как представитель театра, в первую минуту был очень осторожен, написал Е. К. Малиновской письмо: „Я к Вам не приеду, но прошу назначить нейтральное место, где бы мы сошлись“. И мы встретились, и я с огромным дерзновением говорил с ней. Мне притворяться было не нужно, я совершенно свободный человек: у меня есть ангажементы за границу, в Австрию, в Америку и т. п. В политике я отчаянно аполитичен и не могу судить, кто прав – направо, налево или насередине: я все путаю, ничего в этом деле не понимая. Елена Константиновна приняла меня как нельзя лучше. Мы сказали друг с другом два-три слова о театре – и мы стали друг для друга люди театральные. По всем делам мне стало так легко разговаривать с ней, что я со всеми своими малыми и крупными нуждами шел к Елене Константиновне».
Сохранить театр помогает нарком по просвещению Луначарский. Огромна и трудна подведомственная ему сфера, в которой объединяются школы и клубы, университеты и театры – старые и новые, возникающие в огромном количестве, свидетельствующие о насущности искусства для вчерашних «бедных классов». Станиславский может обратиться к наркому по любому вопросу, но он не тревожит Луначарского личными просьбами, которые могли бы облегчить семье трудности быта. Он просит только о театре, о топливе для него, о необходимом количестве пайков для всех театральных мастеров. И для Художественного театра делается все, что можно сделать в эти трудные годы.
В 1926 году, в дни празднования юбилея Луначарского, Станиславский ему напишет:
«Торжественные дни хороши тем, что они позволяют раскрывать сердца и говорить то, что хочется сказать. Думая о Вас сегодня, я испытываю благодарные чувства за Ваше заботливое отношение к русским культурным ценностям вообще и в частности к театру…
От души желаем, чтобы судьба связала нас на долгие годы в нашей общей работе».
Они действительно связаны в течение долгих лет – нарком Луначарский и руководитель театра Станиславский. В результате общих усилий работа Художественного театра не прерывается после ноября 1917 года ни на один день. Идут репетиции утром, идут спектакли по вечерам – «Наша художественная жизнь кипит…».
Однако спасение театра вовсе не означает для Станиславского музейности, консервации, прекращения роста – так представляют его позицию только ниспровергатели-пролеткультовцы. Для него сбережение театра неотрывно от эволюции театра, сохранность эстетических принципов означает развитие эстетических принципов. Ведь прежде всего своему театру, трудности жизни которого столь велики, предлагает Станиславский полную реорганизацию; предлагает превращение привычного, завершенного, проверенного организма в организм совершенно новый, соответствующий эпохе обновления всей России. Прежде он мечтал объять своими «филиальными отделениями» русскую провинцию, поднять, преобразовать ее – сейчас хочет сделать свой театр «Пантеоном», под сенью которого объединятся разнообразные студии, молодежные труппы, играющие в окраинных районах Москвы, выезжающие в провинцию, где обучают актеров.
В мае 1918 года он пишет тезисы доклада к общему собранию своего театра, где бросает Художественному театру обвинение в нехудожественности, в том, что он… дальше, как обычно у Станиславского, следует множество пунктов: «а) потерял душу – идейную сторону; б) устал и ни к чему не стремится; в) слишком занят ближайшим будущим, материальной стороной; г) очень избаловался сборами; д) очень самонадеян и верит только в себя, переоценивает; е) начинает отставать, а искусство начинает его опережать…»
Как доктор Штокман, прекрасный в своем стремлении к полному идеалу, он не считается с реальностью сегодняшней жизни, предлагает расширение, новую структуру, уже забывая о трудностях создания уникального коллектива, не думая о зарплате, пайках, о реальности существования в это грозовое время.
Обновить Художественный театр и сохранить Художественный театр – оба эти положения равно важны для Станиславского. Торопливо пишет он доклад для собрания пайщиков своего театра, которые сами не знают, каким будет их положение через месяц: «Все то, что я намерен здесь высказать, продиктовано мною с единственной целью указать каждому из нас на его гражданский долг громадной важности: русское театральное искусство гибнет, и мы должны его спасать, в этом наша общая обязанность. Спасти же его можно лишь таким путем: сохранить все лучшее, что создано до сих пор предшественниками и нами, и с огромной энергией приняться за новое творчество».
Труппа с недоумением слушает «Обращение к Художественному театру». Ему предшествуют долгие споры, огромная переписка с Владимиром Ивановичем. Тот, как всегда, стоит на страже созданного театра, великолепного организма, который должен сохраниться в своем единстве при всей необходимости обновлений и нового репертуара. Предлагаемый «Пантеон» Станиславского задуман грандиозно. Но как сложится в этом замысле жизнь реального Художественного театра? Придется ли его надолго закрыть, что в сегодняшней обстановке равносильно катастрофе? Как будет жить его ансамбль – не растворится ли он в студиях, среди неизвестной молодежи?
Эта конкретность не продумана Станиславским. Его проект напоминает проект великого архитектора Баженова, который задумывал изменить весь Московский Кремль, включив его в небывалую, грандиозную колоннаду. Замысел Баженова остался в чертежах. Замысел Станиславского остался в его старательных бесчисленных набросках. Остался завещанием театру будущего. Реальный Художественный театр не принял проекта, не принял «диктаторства», которое предложил своему театру Станиславский. Он остался цельным, замкнутым организмом. Не преобразовался в величественный «Пантеон» – и все же вступил в процесс обновления, хотя процесс этот выражался в формах значительно менее радикальных, чем те, которые виделись его основателю, мечтавшему о превращении реального театра в Идеальный Театр.
II
Обновление охватывает давние спектакли Художественного театра, роли всех его актеров, в первую очередь, конечно, спектакли и роли Станиславского.
Он играет Гаева в помещении бывшей Оперы Зимина, которое превращено в Театр Совета рабочих депутатов, где поочередно выступают то оперные, то драматические театры Москвы. Играет Шабельского, Сатина, Астрова то в Художественном театре, то в Первой студии, то в Политехническом музее, прислушиваясь к реакции совершенно нового зрительного зала. Шумят перед началом спектакля в зале рабочие московских фабрик и заводов, перекликаются, лузгают семечки – «не умеют себя вести», как брезгливо и испуганно говорят прежние театральные зрители. Работницы в красных платочках, рабочие в сатиновых рубашках, их дети в одежде, перешитой из отцовской (очень трудно с материей), заселили золоченые ложи Большого театра и строгие ложи Художественного театра, обшитые темным деревом. Они могут подбодрить криком любимого героя, откровенно скучать, смеяться громко и радостно. Станиславский в гриме Астрова выходит перед занавесом, просит соблюдать тишину, говорит о том, как трудна работа актера. И затихает зрительный зал, слушая монологи Астрова о молодом лесе, плачут в зале, когда Гаев уходит из разоренного дворянского гнезда.
Всегда важная для Станиславского проблема общедоступности искусства разрешена сейчас простейшим и радикальным образом: все театры превратились в народные, открыли двери широчайшим слоям «бедных классов» России.
Станиславский говорит в эти годы о «минутах сомнения в искусстве и его возможностях», но в этих раздумьях нет надрыва и отчаяния. Их определяет главная устремленность – спасти и сохранить (одновременно – обновить и углубить). Поэтому в его письмах и в его словах так мало жалоб на бытовые трудности и так много указаний, как вести сезон, что показывать, кому играть в спектаклях; нужно репетировать, нужно вводить в старые спектакли новых актеров, «переживать» каждый раз роль – играть спектакли так, как игрались они в годы, когда не приходилось думать о пайках, не было эсеровских мятежей и кадетских заговоров.
По подозрению в принадлежности к кадетской организации Алексеев-Станиславский 30 августа 1919 года арестован МЧК и выпущен в тот же день, в шесть часов вечера, по выяснении его полной непричастности к кадетам. Он не просто провозглашает полнейшее «отмежевание от политики» – он действительно в годы революции совершенно отстранен от политики. И в то же время теснейше связан с политикой, не может быть отстраненным от нее, как всякий истинный художник.
Он сохраняет свое искусство, как он уверен, необходимое народу. Не допускает снижения требований, опасной снисходительности к себе: «И так сойдет…» Склонный к простудам, он часто играет больным или заболевает после выступления в зале, где зрители сидят в пальто, а актеры выходят в легкой одежде. Температура, кашель часто упоминаются в письмах, в телефонных разговорах; Станиславский всегда преувеличенно беспокоится о здоровье других, будь то дочь или студиец. Не могущий сам выступить на пушкинском вечере, посылает туда учеников и заботливо предупреждает устроителя: «…посылаю Вам своих перепростуженных студийцев. У них нет другого платья, как те, в которых они придут. Если будет очень холодно, ввиду их бронхитов разрешите им накинуть на открытые руки или плечи какое-нибудь тепло» (устроитель вечера, профессор Сакулин, так же заботливо отвечает: «Надеюсь, что никто из исполнителей не простудился: в зале было свежо, но не холодно»).
Здесь слито беспокойство о студийцах, выступающих в холодном зале, и о зрителях, наполняющих этот зал. Актеры Художественного театра и его студий не имеют права играть кое-как, давать публике не искусство, а суррогат искусства. Для него самого, будь он здоров или болен, равно ответственны выступления в зале Художественного театра с белой чайкой, в извозчичьей чайной на Таганской площади, на эстраде кинозала, на огромной оперной сцене. Любое выступление для него – выполнение того гражданского долга, о котором он говорит истово и торжественно, любое выступление идет под девизом: «Зрелища и просвещение! Просвещение через зрелище!» Когда в начале 1918 года его просят о концертах, он принимает эту просьбу не просто серьезно, а благоговейно: «Лично я очень хочу читать. Но выступать впервые надо хорошо. Очень важно впервые произвести впечатление. Как-нибудь наспех я бы не хотел участвовать».
Думает о том, каким образом людей, живущих во времена войн, митингов, уличных празднеств не разочаровать, но приобщить к Чехову. Поэтому категоричен: «Отдельные сценки не следует читать. Можно только целый акт, и то, по-моему, первый, так как выхваченное из середины ничего не даст и будет только скучно. Из „Дяди Вани“ читать никак нельзя. Старик со старушкой, без грима (так Станиславский определяет себя – Астрова в сцене с Соней – Лилиной. – Е. П.), читают любовное признание. Что может понять из этого солдат?.. Повторяю, первый большой успех очень важен. Надо скорее готовиться к спектаклю, а в концерте – ограничиться отдельными выступлениями». Он хочет, чтобы этому достаточно непонятному и незнакомому «солдату» понадобился Пушкин, Грибоедов, Горький. Вершинин произносит «солдату» монологи о жизни, которая наступит через двести-триста лет; перед ним плачет Гаев, прижимая к губам белейший носовой платок, выстиранный чужими руками; ему обращает Сатин монолог: «Человек – вот правда!»
Новым зрителям оказывается нужным это тончайшее искусство, раскрывающее им то, что Станиславский называет «жизнью человеческого духа». Старые спектакли, старые роли выдерживают испытание историческим разломом.
Актриса Надежда Ивановна Комаровская в 1918 году смотрит в Художественном театре «На всякого мудреца довольно простоты» и оставляет подробные воспоминания о том, как воспринимал спектакль другой зритель той же ложи – Ленин:
«Во время действия я украдкой смотрела на Владимира Ильича. Он был совершенно поглощен тем, что происходило на сцене, весело смеялся и, когда Надежда Константиновна посматривала на него, одобрительно кивал ей головой…
В четвертом действии сцена представляет деловой кабинет генерала Крутицкого. Крутицкого играл Станиславский. Крутицкий томится от скуки. То расхаживает по комнате, бурча боевой марш, то деловито проверяет исправность дверной ручки, наконец, берет со стола первую попавшуюся деловую бумагу и, сделав из нее трубочку, дует через нее в стоящий тут же аквариум с рыбками, рассматривает этих рыбок через трубочку, как через подзорную трубу. Владимир Ильич от души хохотал, повторяя: „Замечательно, замечательно“».
В антракте идет беседа о спектакле.
«– Станиславский – настоящий художник, – говорил Владимир Ильич, – он настолько перевоплотился в этого генерала, что живет его жизнью в мельчайших подробностях. Зритель не нуждается ни в каких пояснениях. Он сам видит, какой идиот этот важный с виду чиновник. По-моему, по этому пути должно идти искусство театра. А как на это смотрят ваши товарищи?»
Ленин увидел в исполнении Станиславского еще одно подтверждение непреходящей, живой ценности культуры прошлого для новой России. Руководитель театра мечтает о передаче советскому зрителю великих сокровищ мирового театра. Руководитель первого в мире социалистического государства говорит о невозможности построения новой культуры вне культуры прошлого, выработанной человечеством. Доказательством необходимости лучших традиций прошлого новой жизни является для Ленина и исполнение Станиславского. Как рассказывала Гзовская, после одного концерта, во время разговора с актерами за чаем, за бутербродами из черного хлеба и селедки, Ленин вспомнил недавнее посещение Художественного театра: «Старый классический автор, а игра Станиславского звучит по-новому для нас. Этот генерал открывает очень многое, нам важное… Это агитка в лучшем и благородном смысле».
По отношению к образу, сыгранному в традициях Щепкина – Островского, неожиданно применяется недавно рожденное определение: «агитка». И оказывается, что это определение не звучит «кощунственно»; человечество смеясь расстается со своим прошлым, и столетия российской монархии и ее недавнее падение воплощаются в старом образе Крутицкого. В образе, который оказывается не только возможным, по необходимым в эпоху агиттеатров и массовых празднеств. Великая традиция русского театра, традиция создания индивидуального образа, образа-портрета не исчерпана, но продолжает жить в советском театре, и эту традицию несет Станиславский в своих спектаклях.
Его же самого все меньше тревожит создание отдельного спектакля и все больше волнует общая направленность искусства, та «школа», к которой принадлежат данный театр и деятели его. Он поставит еще многие великие спектакли – и почти каждый раз будет подчеркивать, что самая премьера, еще один спектакль не привлекает его, что он работает не для спектакля, но для передачи ученикам метода, с помощью которого нужно создавать циклы, вереницы спектаклей. Он не может и не хочет перейти к процессу сценического воплощения, пока все его актеры не освоят вполне творческий процесс переживания роли. Однажды найдя удачное определение, он повторяет его в записках, на репетициях, в беседах: «Цель искусства переживания заключается в создании на сцене живой жизни человеческого духа и в отражении этой жизни в художественной сценической форме». В истинном театре вечные, главные, неизменные законы искусства должны не заслоняться чертами внешними, приемами необычными, но очищаться, раскрываться в своей основной сущности. Поэтому так убежден он: «Театр есть искусство отражать жизнь»; «Нельзя думать, что театр – это какая-то секта посвященных, что он оторван и отъединен от жизни. Все дороги человеческого творчества ведут к выявлению жизни, как „все дороги в Рим ведут“. И Рим каждого человека один и тот же: каждый все свое творчество носит в себе, все выливает в жизнь из себя».
Ведя занятия с учениками в «студийных» комнатах своей холодной квартиры, Станиславский порой употребляет сравнения и эпитеты, так давно вошедшие в обиход, что в речах другого человека они кажутся стерто-банальными. Он же, как всегда, открывает их заново, и привычные слова наполняются своим первоначальным содержанием: «Через вас, артистов, идут понятные миллионам силы, говорящие о прекрасном земли. Силы, где людям раскрывается счастье жить в расширенном сознании, в радости творческого труда для земли. Вы, артисты театра, как одного из центров человеческой культуры, не будете поняты толпой, если не сможете отразить духовных потребностей своей современности, того „сейчас“, в каком живете».
О его искусство некоторые говорят: «брюссельские кружева», эго театр в начале двадцатых годов достаточно прочно зачисляется по разряду «театров-музеев». Однако для него театр имеет право на существование и может быть народным театром только в том случае, если он развивает традиции, движется с потоком жизни. Театр легко сделался народным по составу зрителей – театр может сделаться истинно народным, только если он сумеет создать новое искусство, отвечающее потребностям народа. Этим потребностям отвечает искусство плаката, искусство агиттеатров, множащихся в годы революции и гражданской войны именно потому, что времени необходимо это броское, лаконичное, открыто тенденциозное искусство. Станиславский не отрицает его, но твердо знает и убежденно говорит о том, что это не есть искусство его театра. Немыслим был Станиславский в предреволюционные годы где-нибудь в «башне» петербургского эстета Вячеслава Иванова, мечтавшего о неком возрождении мистериальных действ, немыслим сегодня в театре, в искусстве Станиславского такой спектакль, как «Мистерия-буфф».
Константин Сергеевич получит приглашение на премьеру этой пьесы в театре, которым руководит Мейерхольд. Приглашение напечатано на машинке:
«Уважаемый товарищ!
Театр РСФСР Первый приглашает Вас 3-го мая в 7 ½ час. веч. на представление героического, эпического и сатирического изображения нашей эпохи, сделанного Вл. Маяковским – „Мистерия-буфф“».
На приглашении приписка четким почерком Валерия Бебутова – тем почерком, которым записывались репетиции «Села Степанчикова», вселенские замыслы образа Доброго человека, вечно борющегося со Злом. Вскоре Бебутов ушел к Мейерхольду, стал преданным помощником, сорежиссером. Приписка гласит:
«Дорогой Константин Сергеевич, ждем Вас непременно. Если сегодня Вам неудобно, просим воспользоваться этим приглашением в любой из ближайших дней.
Вс. Мейерхольд
В. Бебутов».
Станиславский немедленно отвечает:
«Я искренно благодарю за память и присылку билетов на сегодняшнюю репетицию „Мистерии-буфф“. К большому для меня сожалению, я лишен возможности видеть сегодняшний интересный спектакль, так как получил билеты слишком поздно и не смогу отменить в другом театре спектакль, назначенный специально для меня.
Искренно сожалею о таком совпадении.
К. Станиславский.
Прилагаю 2 билета».
Обновление его театра, театра Станиславского пойдет другим путем, через воплощение «жизни человеческого духа». Но это непременно будет обновление – жить только прошлым он не может, успокоенность, охрана хотя бы и безусловных, уже созданных ценностей вне постоянных поисков нового противоречит самой сущности этого человека.
В 1920 году, переехав в Москву, Любовь Яковлевна Гуревич после долгого перерыва случайно встретила Станиславского:
«Выйдя с дочерью погулять, мы сидели на скамейке Петровского бульвара, и вдруг видим издали – по бульвару идет Станиславский. Он шел, погруженный в свои мысли, глядя куда-то вперед, с необычайно светлым выражением лица. За спиной он нес большой узел с какими-то мягкими вещами, – вероятно, костюмами для репетиций одной из студий, – зацепив его за рукоятку перекинутой через плечо палки. Но нисколько не погнулся при этом его высокий стройный стан, а походка была до того легкой, что казалось – и громоздкая ноша за его спиной не имела веса. Я окликнула его. Он подбежал, сбросил узел и подсел к нам с тем же светлым лицом. Заговорили, естественно, о разительных переменах в общей и личной жизни. Ни одной ноты жалобы не прозвучало в его сообщениях, – напротив, он казался счастливым, и, рассказав о том, что в продовольственном отношении он и его семья пользуются добротой одной давней петербургской почитательницы Художественного театра, жившей теперь где-то в глуши, на Украине, и предложившей им доставать необходимое продовольствие в обмен на посылаемые ими вещи, он прибавил: „Вещи одна за другой уходят из дома, и от этого на душе становится как-то все легче. Кажется, вот еще, еще – и станешь совсем легким и пойдешь куда-то далеко-далеко!“ Чарующая, мечтательная улыбка светилась на лице его, когда он говорил эти слова, а в голосе звучали глубокие, страшно серьезные ноты!
На другой день я обедала у Алексеевых. Теснота их сокращенного помещения сразу бросилась в глаза, но обед, никогда не бывший у них роскошным, все же был похож на обед. Только когда в заключение его подали по чашечке черного кофе, сахару к нему не было. Константин Сергеевич встал, принес откуда-то два маленьких кусочка сахару и положил на блюдечко один кусочек мне, другой себе. „Без сахару совсем не могу обойтись в работе“, – сказал он вполголоса застенчивым, извиняющимся тоном.
После обеда мы долго сидели на небольшом балконе, выходившем в прилегающий к дому сад, и он читал мне свою новую рукопись: опыт записи его „системы“, в полубеллетристической форме, изображавшей постепенное вхождение актеров в роли „Горя от ума“. Он называл этот опыт в разговоре „романом“».
Так живет Станиславский в годы великих перемен в России. Он знает, что театр должен воплощать эти великие перемены, но среди его собственных работ современных спектаклей пока нет: агитпьесы, исторические драмы Луначарского, к которым закономерно склоняется Малый театр, не принадлежат к кругу драматургии, близкой Станиславскому. Он считает, что формы отображения жизни в искусстве могут быть разнообразны, но в основе их непременно должна лежать «жизнь человеческого духа». Поэтому так постоянен в его речах и записях старый образ, который для него всегда нов, – образ дороги:
«Вечное искусство – это длинное и беспрерывное шоссе, по которому шествует искусство. Оно докатывается до известного предела и через каждые пятнадцать-двадцать лет требует обновления, наподобие двигателя, требующего замены частей. Молодежь уходит в лесную глушь по тропинке, собирает там на природе цветы, плоды, злаки и все, что попадается и увлекает ее молодой глаз. По окончании экскурсии… молодежь возвращается опять к шоссе и приносит все набранное. От него остается немного. Многое отсыхает и увядает, но синтез всего пройденного, найденного, квинтэссенция его, один какой-то кристалл, заключавший в себе весь внутренний смысл проделанной работы с любовью и торжеством кладется в урну вечного искусства».
Россия проходит «великий крестный путь» – это тоже входит в образ вечной дороги у Станиславского. В этом пути необходимо сохранить непрерывность культуры: «Нельзя на время отложить театральное искусство, повесить замки на его мастерскую, приостановить его бытие. Искусство не может заснуть, чтобы потом, по нашему хотению, проснуться. Оно может лишь заснуть навсегда, умереть. Раз остановленное – оно погибает, приостановить искусство – значит погубить его. Гибель же искусства – национальное бедствие».
Спасение искусства – цель жизни Станиславского. И преобразование искусства – цель жизни Станиславского. В это преобразование непременно входят новые постановки классики.
Кажется, ни разу Станиславский не высказал впрямую солидарности с лозунгом о классике, созвучной революции. Для него это само собой, разумеется: в театре может жить лишь классика, созвучная революции своим гуманизмом, своей устремленностью к тем вечным вопросам, которые потому и вечны, что без них невозможна духовная жизнь человечества.
«Наша художественная жизнь кипит…».
Однажды Константину Сергеевичу пришлось перечислить свою работу. Он написал: «Я состою руководителем многих театров и коллективов: 1) Государственного Академического МХТ; 2) Первой его студии; 3) Второй его студии; 4) Районной его группы; 5) Оперной студии Госуд. Большого театра; 6) Кроме того, работаю в Студии Комической оперы при МХТ; 7) Принимаю участие в Студии для рабочих, основанной И. В. Лазаревым; 8) В студии „Габима“; 9) Даю частные уроки отдельным лицам или целым коллективам».
Руководитель «Государственного Академического МХТ» репетирует старые «Плоды просвещения», которые он мечтает поставить снова, в Первой студии ищет «истину страстей» королевы, леших, лесных духов в пьесе-легенде польского классика Юлиуша Словацкого «Балладина», проверяет свою «систему» работы с актером, свою устремленность к идеальному актерскому спектаклю на репетициях лирической драмы Блока «Роза и Крест», которую Художественный театр принял к постановке задолго до революции. Блок воспринимает Станиславского восхищенно. В 1913 году, в год весенних гастролей «художественников» в Петербурге, он пишет влюбленно и иронически:
«Третьего дня у меня был Станиславский. Он сидел у меня девять часов подряд, и мы без перерыва говорили. Он прекрасен, как всегда, конечно. Но вышло так, оттого ли, что он очень состарился, оттого ли, что он полон другим (Мольером), оттого ли, что в нем нет моего и мое ему не нужно – только он ничего не понял в моей пьесе, совсем не воспринял ее, ничего не почувствовал. Он даже извинялся, боялся мне „повредить“ и т. д.; говорил, что он не понял и четверти, что надо считать, что я рассказал ему только схему (я ему рассказывал уже после чтения все с начала, разжевывал, как ребенку, кое-что он понимал – холодно, – фантазировал, представлял – по-актерски, доходил даже до пошлости иногда)». Через четыре года, после Февральской революции, поэт пишет матери из Москвы: «Сегодня мне нужно зайти проститься с Гзовской и обедать у Алексеевых. В сущности действительно очень большой художник – только Станиславский, который говорит много глупостей; но он действительно любит искусство, потому что – сам искусство. Между прочим, ему „Роза и Крест“ совершенно непонятна и ненужна; по-моему, он притворяется (хитрит с самим собой), хваля пьесу. Он бы на ней только измучил себя».
Театр долго репетирует пьесу. Блок неоднократно приезжает в Москву, аккуратно является на репетиции, читает пьесу по картинам и объясняет ее, пишет подробные комментарии. В спектакле заняты первые актеры, репетиции ведет Немирович-Данченко, Добужинский делает эскизы декораций, в которых так же верен французскому средневековью, как верен был русской усадебной поэзии. В 1918 году репетиции продолжает Станиславский. Вернее, не продолжает – начинает заново. Подробную и поэтическую верность эпохе, свойственную Добужинскому, он хочет заменить обобщением, немногими лаконичными деталями. Он одержимо ищет идеальную среду для сценической жизни актеров, пространство, в котором будет удобно действовать, где каждый жест, каждая мизансцена будут сочетать живописную и сценическую выразительность, где мягкие сукна образуют все новые комбинации и формы.








