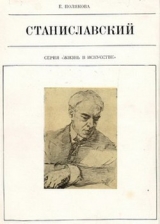
Текст книги "Станиславский"
Автор книги: Елена Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
К подлинному творчеству ведет он всех участников спектакля – и молодых учеников, недавно сдавших вступительные экзамены в школу Художественного театра, и своих соратников по основанию театра.
Пишет Книппер-Чеховой письмо покаянно-дипломатически-настойчивое – после того как актриса заплакала и отказалась репетировать:
«Милая и дорогая Ольга Леонардовна!
Не еду к Вам сам, чтобы не причинить Вам неприятность. Я так надоел Вам, что должен некоторое время скрываться. Вместо себя – посылаю цветы. Пусть они скажут Вам о том нежном чувстве, которое я питаю к Вашему большому таланту. Это увлечение вынуждает меня быть жестоким ко всему, что хочет засорить то прекрасное, которое дала Вам природа.
Сейчас Вы испытываете тяжелые минуты артистических сомнений. Глубокие чувства страдания на сцене рождаются через такие мучения. Не думайте, что я хладнокровен к Вашим мукам. Я все время волнуюсь вдали и вместе с тем знаю, что эти муки принесут великолепные плоды…
Верьте мне: все то, что кажется Вам сейчас таким трудным, – в действительности пустяки. Имейте терпение вникнуть, подумать и понять эти пустяки, и Вы познаете лучшие радости в жизни, которые доступны человеку в этом мире.
Если моя помощь была бы Вам нужна, – я разорвусь на части и обещаюсь не запугивать Вас научными словами. Вероятно, это была моя ошибка.
Молю Вас быть твердой и мужественной в той артистической борьбе, которую Вам надо одолеть не только ради Вашего таланта, который я всем сердцем люблю, но и ради всего нашего театра, который является смыслом всей моей жизни.
…Вам так мало надо сделать, чтобы быть прекрасной Натальей Петровной, которую я уже десятки раз видел. Просмотрите всю роль и ясно определите, на какие куски она распадается.
Здесь – я хочу скрыть свое волнение; здесь – я хочу поделиться с другом своим чувством; здесь – я удивилась и испугалась; здесь – я стараюсь уверить его, что ничего страшного не произошло, и для этого то становлюсь нежной, то капризной, то стараюсь быть убедительной. Потом я опять сосредоточилась. Пришла Верочка, я не сразу бросаю сосредоточенность. Наконец поняла – взяла роль барыни и стараюсь убедить ее, что ей надо выйти замуж.
В каждом месте роли ищите каких-нибудь желаний для себя И только для себя и гоните все другие пошлые желания – для публики. Эта душевная работа так легко Вас увлекает.
Увлекаясь ею, Вы отвлекаетесь от того, что недостойно настоящей артистки – служить, подслуживаться публике. Насколько Вы нелогичны в последнем случае, постольку Вы логичны при увлечении настоящим переживанием. Но… выходя на сцену, – приготовьтесь, сосредоточьтесь, увлекитесь настоящими переживаниями…
Мужайтесь и сядьте раз и навсегда на Ваше царственное место в нашем театре. Я буду любоваться издали или, если нужно, работать для Вас, как чернорабочий.
Простите за причиненные Вам муки, но верьте – они неизбежны.
Скоро Вы дойдете до настоящих радостей искусства.
Сердечно любящий Вас, поклонник Вашего большого таланта
К. Алексеев».
Получает ответ актрисы: «…Не знаю, как Вас благодарить за Ваше глубоко трогательное письмо. Мне хочется сыграть Наталью Петровну так, чтобы не стыдно было перед Вами. В тяжелые минуты буду перечитывать Ваше письмо. Простите меня за все, и спасибо Вам за все».
Вместе с актерами ищет он ответа на новые задачи, которые сам же и ставит перед своим театром. Подробность сценической обстановки все больше заменяется лаконизмом сценической обстановки. Правда быта – сгущением, концентрацией быта. К «истине страстей» актеры идут не под абсолютным руководством режиссера, по его указаниям, как прежде, – нет, они ищут эту «истину» сами в себе, в своем персонаже. Режиссер становится не верховным руководителем, но сотоварищем, который помогает сосредоточиться, дает тактичные советы, ищет вместе с актером внутреннюю партитуру, линию действия роли, которая вырастает из цепи «кусков», задач, стремлений, действий.
Вместе с тем, как и прежде, он вовсе не отменяет найденного театром, по продолжает это найденное, развивает «вечные истины» искусства Щепкина и искусства прежнего Художественного театра – театра Чехова. Актерский ансамбль «Месяца в деревне» безупречен. Тончайший ансамбль психологического, реалистического театра. Ансамбль Тургенева. Неповторимость его диалогов, его усадебного колорита воплощают все участники спектакля; прежде всего – режиссер спектакля и актер Станиславский.
В газетах и журналах часты карикатуры на его Ракитина – усадебного рыцаря, статного красавца в широкополой шляпе, в изумительном пальто, которое рецензенты даже называют по-французски – «paletot». Карикатуристы пародируют, преувеличивают барственность Ракитина – Станиславского, изысканность его костюмов (то дорожного, то костюма для верховой езды), манер, того безукоризненного французского произношения, с каким читает он «Графа Монте-Кристо» Наталье Петровне, занимающейся рукоделием. В исполнении Станиславского эти черты как раз не преувеличены, но непринужденно реальны, они органически свойственны молодому барину, жизнь которого проходит между Парижем, русской столицей и усадьбой во глубине России.
С Чеховым, который назвал «Вишневый сад» комедией, Станиславский спорил, отстаивая свое, драматическое толкование пьесы, с Тургеневым он действует в полном согласии. Для режиссера «Месяц в деревне» – тонкая, лирическая, но все же комедия жизни русского дворянства, которое так красиво, бездельно проводит дни в липовых аллеях, в беседках, в гостиных, где стены украшены романтическими пейзажами, изображающими руины. Продолжая ту линию русской литературы, поэзии, которая называется «усадебной», внося в само драматическое действие элементы «усадебной лирики», Станиславский видит тургеневского героя в дальнейшей исторической перспективе, в какой, естественно, никак не мог видеть его сам автор.
Для Тургенева его персонаж был одним из вариантов образа «лишнего человека» (больше в варианте «онегинском», чем «рудинском»); Станиславский уже давно сыграл Гаева и Шабельского, он уже трезво и горько знает, к чему придет Россия Ракитиных, во что превратятся дворянские гнезда середины прошлого века. Он видит жизнь шире, проще, вернее, чем видел ее меланхолический наблюдатель и благородный влюбленный из комедии Тургенева. Из комедии – потому что страдания, слезы, ревность, разлуки Ислаевых и Ракитиных оборачиваются рафинированной игрой, потому что на решительные свершения, на действия никто из них не способен. Ракитин в сверхэлегантном пальто уезжает в свои липовые аллеи – томиться разлукой с любимой женщиной, а любимая будет раскладывать пасьянсы, вышивать, гулять под кружевным зонтиком, ожидая неизбежного возвращения Ракитина. Так в этом спектакле развивалась, получала новое звучание тема исторических судеб русского дворянства, тема, воплощаемая Станиславским в спектаклях Грибоедова, Тургенева, Островского.
Как всегда, как в работе над Штокманом и Вершининым, Станиславский искал реальных, живущих рядом людей, которые объяснили бы ему характер героя, помогли найти его внешние черты. Для Ракитина он находит такой прототип; это Алексей Александрович Стахович, с 1907 года – артист Художественного театра, а до того – кавалергард, адъютант московского генерал-губернатора, великого князя, убитого бомбой на московской улице. Пайщик Художественного театра, ведущий «ракитинскую» комфортабельную жизнь в тульском имении. Самоотверженно преданный театру, влюбленный в Станиславского, которого считает одним из гениев человечества. Много помогающий ему в административных делах, пускающий в ход все свои связи, когда кто-либо становится нужным театру.
Письма их друг другу доверительны и подробны. Стахович – мастер эпистолярного стиля, Стахович – мастер светского разговора, «causerie» – легкой болтовни, которую воспроизводит Станиславский в репликах своего Ракитина.
Черты реального человека трансформируются в образе человека сороковых годов – одном из тончайших созданий актера Станиславского в одном из тончайших спектаклей режиссера Станиславского. Тех спектаклей, в которых гармонично сочетается разработка традиций реалистического театра и пути будущего реалистического театра.
«Эпический покой дворянства» – так обозначил Станиславский общее настроение «Месяца в деревне» в 1909 году. «Эпическое спокойствие» – так обозначил Немирович-Данченко общее настроение спектакля «На всякого мудреца довольно простоты», показанного в 1910 году.
Станиславский играет в пьесе Островского человека, в котором «эпическое спокойствие» и «наивность» нашли крайнее, законченное выражение. Персонаж его, «очень важный господин», кажется даже не реальным человеком, но олицетворением московской старины, московского дворянства, которое жило слухами, сплетнями, и главное – уверенностью в полной незыблемости и необходимости своего существования. Тема Ракитина, «совестливого» утонченного дворянина, продолжалась в этом образе «очень важного господина» – генерала Крутицкого – в ином ключе, в тональности не психологической, утонченной комедии, а почти гротесковой, заостренной, театрализованной до предела. Для парика и бакенбард Крутицкого гримеры подобрали даже не волосы – сухие водоросли, жестким ореолом окружившие череп старца, не имеющего возраста, словно он жил на свете несколько столетий. Видел все, все пережил и не запомнил из пережитого ровно ничего, кроме сознания важности собственной персоны. Критик говорит: «Это как бы символ всех пережитков прошлого в настоящем, образ вполне реальный, но представляющий собою огромный художественный синтез».
Станиславский рассказывает, что образ Крутицкого «пошел», ожил у него, когда в тихом московском дворе он увидел старый дом, а в окне его – старика, который что-то усердно писал. Естественным было бы прямое впечатление, связь пишущего старика с генералом, пишущим свои прожекты. Но образ Станиславского пошел не только от человека, но от самого заросшего мохом флигеля; его Крутицкий также зарос мохом (водорослями), никому не нужен, а между тем продолжает жить и вершить чужие жизни – образ огромного обобщения и совершенной театральной формы.
Наивность его героя также была беспредельна. В нем сочетались древность и абсолютная детскость, которая то ли сохранилась с нежного возраста, то ли к ней вернулся старец, который, как говорится в просторечии, «выжил из ума». Исполнитель нашел сочетание военной выправки, подтянутости генерала в белоснежном кителе, в кабинете которого все блестит, вылощенное денщиками, – и младенческих его занятий. На людях он сидит монументально за столом, водит гусиным пером по бумаге, а в отсутствие людей, отложив гусиное перо, играет марш на губах, смотрит на рыбок в аквариуме через «подзорную трубку», собственноручно свернутую из бумаги, наконец, крутит модную дверную ручку, оттопырив губы, не сводя с ручки круглых глупых глаз. Так идет Станиславский к «оправданному гротеску», так раскрывает он полное несоответствие своего героя месту, которое тот занимает в обществе: ведь Крутицкий Художественного театра, в полном согласии с ремаркой Островского, «очень важный господин», один из столпов московского общества.
Исторический спектакль, в котором подчеркнута верность шестидесятым годам прошлого века, оказывается современнейшим спектаклем и в годы Государственной думы, бесконечных дебатов буржуазных партий, обширных прожектов думских деятелей, которые, как Крутицкий, уверены в необходимости своего существования и своих прожектов и, как Крутицкий, не видят естественного, неумолимого движения жизни.
Эта роль входит в репертуар Станиславского на долгие годы. И в работе над ней он открывает все новые элементы своей «системы», уточняет те законы, которые лежат в основе актерского искусства.
Иногда он только догадывается об их существовании, а открывает и формулирует эти закономерности позднее. Сначала заимствует у Гоголя определение «гвоздь» роли, потом находит свое – «сквозное действие». Входят в обиход театра «куски», «задачи», «аффективная память», «общение», «круг внимания». Первооткрыватель увлечен этими понятиями, действиями, которые стоят за ними, а вовсе не самими терминами, – термины для Станиславского достаточно условны, он всегда ощущает их как не очень точное обозначение элементов живого процесса.
Смеется над собой в письме: «Помните, в прошлом году я говорил Вам о творческой сосредоточенности, о круге внимания? Я так развил в себе этот круг внимания, что хожу с ним денно и нощно. Чуть под электричку не попал… В нашем кабаре, где в антракте читают шутовские телеграммы, недавно было получено следующее известие: „Станиславский замкнулся в круг. Пришлите скорее Кирилина (театральный слесарь), чтобы разомкнуть. Лилина“».
В годы Общества искусства и литературы, испытав радость расширения действия спектакля, включения его в реальность жизни, Станиславский пробовал этот метод на комедии, на трагедии, на современной драме, считая его универсальным, открывающим секреты драматургии всех эпох. Так и сейчас он обращен к своей «системе» работы над ролью, считая ее универсальной, необходимой для любой роли, для любого спектакля, кто бы его ни ставил, – Немирович-Данченко, или сам Станиславский, или Крэг. Будущий спектакль Крэга ом тоже считает великолепным плацдармом для испытания «системы». Но испытания эти растягиваются на годы.
Летом 1910 года, когда семья Алексеевых живет на Кавказе, сначала заболевает Игорь. «Весь мой отдых ушел на докторов и на мелкие домашние заботы», – пишет Константин Сергеевич в Москву в конце июля. Через несколько дней Сулержицкий посылает жене телеграмму, естественно, встревожившую ее: «Экономь деньги я кажется ушел из театра»; затем к Горькому на Капри идет длинное письмо Сулержицкого:
«Дорогой Алексей!
Константин болен, это ты знаешь. Я сижу с ним, помогаю малость, дежурю ночью и т. д. Хочу тебя еще раз просить, чтобы ты не сердился за то, что я задержал твою рукопись. Вышла путаница с почтой, потом эта суматоха с болезнью Константина, и все спуталось.
Болеет Константин основательно, как следует. Четвертая неделя все 39,8, 40, 40,2; на днях как будто соскочила на 38,4, а потом опять 39,6 и в таком роде. Мешает бронхит, который все-таки не разрешается. Сегодня ставили банки, – может быть, получше будет. Все время голова ясная, несмотря на температуру. Часто говорит о театре, вспоминает о тебе, недавно сказал так: „Театр надо показать, показать все, что было в нем хорошего, то есть поехать по провинции, показать его всей России, может быть, и за границей, и потом переходить на общедоступный, а я буду тут же рядом работать в студии и изредка, может быть, ставить что-нибудь, изредка играть.
Театру печем жить. Это все искусственно поддерживаем театр на высоте, а живая жизнь была, когда был Чехов и Горький. Чехов умер, Горький уехал, новых нет, и еще год-другой, и театр не сможет больше искусственно держаться на высоте. Надо этот театр кончить и начинать другой, общедоступный. Все оживут, заработают, но это будет уже другой театр. А я буду в стороне, спокойный старичок, а на самом деле беспокойный, потому что, когда Вишневский начнет кричать – „Какой замечательный театр!“, он все-таки будет кричать потише, если будет знать, что я тут поблизости. Воевать же и тянуть все это дело больше сил не хватает, буду работать в тишине“.
Очень велел передать благодарность вам за ваше внимание и был, видимо, сильно тронут и взволнован телеграммой от вас, – несколько дней все говорил об этом и все что-то думал.
Очень стал худ, оброс щетиной седых волос, тело кажется еще больше благодаря худобе, – громадные черные брови кажутся на худом лице еще больше, а из-под бровей глядят совершенно наивные глаза. Ведет он себя совершенно как ребенок и все время режиссирует. Тут перекладывал его с кровати на кровать, и он вдруг озабоченно начинает распределять, кто возьмет за ноги, кто под мышки и по какой команде, и все дирижировал пальцем. Все делали, конечно, по-другому, но он забыл уже, как он командовал, и остался доволен. Вчера я должен был выскочить из комнаты, чтобы там отсмеяться. Вдруг потребовал, чтобы доктор нарисовал ему план заднего прохода: „А то ставят клизму, а мне совершенно неясно, в чем дело, на каком боку лежать, и вообще я могу заблудиться“. Доктор стал рисовать… „Позвольте“, – сам взял бумагу, карандаш и начал чертить что-то невероятное. Сопит, лицо серьезное, что-то тушует и потом велел, чтобы ему принесли книгу с „планом“, потом, конечно, забыл.
Вообще типичен всю болезнь до мелочей. Вчера, например, я даю ему градусник. Он берет, смотрит и говорит: „Это не мой градусник“. – „Ваш“. – „Позвольте, я свой градусник наизусть знаю, тоненький, стройненький“. Потрогал рукой и говорит: „Не то“. Я говорю: „Ваш“. – „Ничего подобного“, – обиделся, но все-таки поставил. И все это с серьезным лицом.
Легко обижается, по-детски. Проснулся как-то, нащупал ногами бутылку под одеялом и обиделся: „Валят бутылки в кровать. Ну, кому это надо?“ Ему казалось, что такой уж беспорядок, что бутылки, вместо того, чтобы выбросить на двор, сваливают ему в кровать.
Иногда, когда запутается в словах и заметит это сам, начинает смеяться и говорит: „Нет, ничего не могу рассказывать, мне нужно попросту молчать“.
…Ну, жму тебе руку и желаю всего, всего хорошего. Кланяйся Марии Федоровне.
Твой Сулер.
Если будешь писать, то пиши: Кисловодск, Дундуковская ул., дача Ганешина, Алексеевым, для Сулержицкого».
Только в сентябре уезжает Сулержицкий из Кисловодска, спокойно оставив похудевшего, слабого, но уже здорового Станиславского и измученную таким летом Марию Петровну. В Москве в разгаре новый сезон, давно разъехались из Кисловодска летние отдыхающие, а Алексеевы все живут в опустевшем пансионе Ганешина. Константин Сергеевич описывает Сулержицкому эту монотонную жизнь курорта в несезонное время: «Что сказать Вам о себе и о нашей жизни? Стало холодно, частые бури, туманы, балкон заставлен шкапом, духовые печки пахнут угаром. Говорят, что я поправляюсь, но я этого не чувствую или, вернее, не замечаю. Тянет в Москву отчаянно, но нет еще сил, чтоб сделать переезд. Посижу два часа – и уже устал, пройду из своей комнаты в столовую… и снова валюсь на диван от усталости. Большую часть дня лежу в кровати и слушаю чтение… Страшная тайна о „Карамазовых“ наконец раскрыта, и недоумеваю, почему из этого делали тайну; это – гениальный выход из затруднительного положения театра».
«Гениальным выходом» называет он ту неправдоподобно смелую постановку «Братьев Карамазовых», которую в неправдоподобно короткие сроки осуществил Владимир Иванович.
Станиславский сам издавна хотел включить в репертуар театра инсценировки Достоевского, – пристрастие к этому писателю, к его напряженному диалогу, к его драматической манере, осуществленной в прозе, не оставляет Станиславского еще со времен радостной работы над «Селом Степанчиковым». В 1908 году он говорит о Достоевском так же, как говорил о Чехове, в переводе его на сцену видя возможность обновления театра: «Я не знаю еще, как, но мы очень скоро поставим Достоевского. Без Достоевского нельзя. Мы, конечно, откажемся от переделок. Всего вероятнее, будет чтец, который будет выступать наряду с диалогами действующих лиц…»
В октябре 1910 года чтец открывает спектакль «Братья Карамазовы» в Художественном театре.
Впервые с сотворения европейского театра спектакль длится два вечера. Впервые с сотворения театра сама проза не перелагается, но читается со сцены, перемежаясь сценами-диалогами, которые играют актеры, вжившиеся в характеры романа, воплотившие его стилистику.
Режиссер Немирович-Данченко работает с актерами, все время помня о методах и поисках Станиславского. Но, зная великую требовательность, остроту отношения Константина Сергеевича к каждой работе театра, тем более – к такой, решил не волновать его заранее; только в день премьеры невольный обитатель Кисловодска узнает, что в Камергерском переулке идут «Карамазовы». Реакции из Кисловодска в театре ждут взволнованно. Оттуда приходит телеграмма на нескольких бланках, прославляющая директорский гений и «наполеоновскую находчивость» Владимира Ивановича: «Рукоплещу, как психопат, и радуюсь, как ребенок» (одновременно поздравляет всех с двенадцатилетием театра и с двухсотым спектаклем «спасителя и кормильца» – «Царя Федора»).
Станиславский «до слез тронут» триумфом – «Карамазовыми»; Немирович-Данченко «рыдает, как женщина» над его «телеграммой-монстр» из Кисловодска. Отвечает на нее «письмом-монстр»: огромным, описывающим «Карамазовых», всех исполнителей. Письмо исполнено не только радости свершения, но радости будущего, в котором непременна будет большая литература на сцене.
Театр осуществляет мечты и начинания Станиславского: идут «Карамазовы», дебютирует режиссер Марджанов, приглашенный Станиславским, дебютирует актриса Гзовская, приглашенная Станиславским из Малого театра, с которой он столько занимался по своим первоначальным «запискам о драматическом искусстве». В Москву приезжает знаменитая актриса Режан; увидев «Синюю птицу», она просит повторить спектакль в ее парижском театре.
Из Ясной Поляны октябрьской ночью уходит Лев Толстой, и обитатели пансиона Ганешина начинают утро с газетных известий о последнем странствии, о смерти писателя, роль которого в жизни Станиславского огромна. «Здесь мы одни, и переносили волнения о Толстом в одиночестве, с запоздалыми на два дня известиями. Я не думал, что это так тяжело… Я подавлен величием и красотой души Толстого и его смерти… Какое счастье, что мы жили при Толстом, и как страшно оставаться на земле без него. Так же страшно, как потерять совесть и идеал».
Время медленного выздоровления после тяжкой болезни одновременно становится временем протяженных, неторопливых размышлений.
Константин Сергеевич не только обдумывает работу над «Гамлетом», но лепит из глины фигурки персонажей будущего спектакля. Записывает план инсценировки «Войны и мира» Толстого (предполагает постановку к столетию Отечественной войны) и подробнейше, по сценам распределяет действие возможного спектакля «Униженных и оскорбленных».
Он получает подробные письма из театра и сам пишет подробнейшие письма:
«У меня время жатвы. Два месяца я сеял в свою голову целый ряд мыслей и вопросов по части системы. Они мучительно зрели все лето, не давали мне спать, и как раз теперь появились всходы – я не успеваю записывать то, что чудится, что зарождается и требует хотя бы приблизительного словесного определения».
В письмах он дает советы актрисе Ольге Владимировне Гзовской, с которой много занимался, – перечисляет все элементы, которые он считает необходимыми для прихода к полной сосредоточенности, лежащей в основе подготовки каждой роли. «…Круг, развитие наивности, ощущение общения, ощущение близости объекта и приспособления. Вот что заставляет совершенно забывать о публике, так как некогда о ней думать».
В письмах Немировичу-Данченко он излагает те же элементы, те же формулы, но обращается не к актеру – к режиссеру, вовсе не собираясь подчинять его актеру. Режиссеру важно не только «лучеиспускание» и «лучевосприятие», не только общение партнеров, основанное на абсолютной правде чувства, – он говорит о задачах общих, режиссерских, которые должны охватывать, направлять работу актеров. Поэтому автор «системы» говорит не только о внимании к партнеру и «лучеиспускании», которым он увлекался в это время, но о том, что надо «начать процесс искания – с какой-то литературной беседы (за Вами это слово)»; говорит о важности воплощения: «как помочь процессу воплощения – еще не знаю в точности, но уже ощупал почву и, кажется, близок к верному пути»; он жалуется на малую исследованность творческого процесса в науке: «эта часть очень слабо разработана в психологии – особенно творческое воображение артистов, и художников».
Он делится с Владимиром Ивановичем своими поисками и раздумьями, найденным и тем, что еще предстоит искать. А выздоровление затягивается. Врачи категорически запрещают работу в театре. Впервые с основания театра Константин Сергеевич выключен из сезона. В Москве идут премьеры, театр озабочен тем, чтобы получить для первого представления драму Толстого «Живой труп». Константин Сергеевич проводит начало нового года в Риме, – в «ваточном пальто», оберегаемый семьей Стаховичей; впервые в жизни осматривает вечный город. Удивительно полное отсутствие у него стремления к тому, что составит примету двадцатого века, – к «топанию по глобусу», к посещению прославленных городов, исторических мест, которые становятся все более доступными. Побывав в молодости в северной Италии, открыв для себя Венецию и Туринский замок (активно использовав эти открытия в спектаклях), он не доехал тогда до Рима. Не побывал в нем, занятый московскими неотложностями, – когда готовил роль Брута.
Сейчас знакомится с местами, знакомыми по сцене: «Видели место, где Брут (т. е. – я) говорил речь, где сжигали Цезаря и пр. Вышли к Колизею, куда отправили карету, и приехали домой». Очень большое впечатление производит зоопарк: «До чего страшно и интересно». Все остальное интересно своей обычностью, естественностью, сравнимостью с Москвой: «Чудесный город, и совершенно не в том духе, как он рисовался мне раньше. Мне он представлялся огромным, страшно оживленным, нагроможденным. Все наоборот. Город небольшой (400 тыс. жителей), вполовину меньше Москвы… Самый Корсо вполовину уже, чем наш Камергерский переулок…» Кажется, что Станиславского вообще отталкивают обязательные достопримечательности, туристские осмотры. Во Флоренцию (в которой никогда не был) он отказывается ехать под предлогом, что «там нет подходящего стола». В Неаполе, как в Кисловодске, сидит на солнечном балконе, смотрит на море: «…никуда и не тянет, да я и не собираюсь осматривать ничего, кроме Помпеи». Впрочем, неторопливое посещение этого погибшего города, сохранившего ощущение естественности, повседневности жизни, пожалуй, составляет самое сильное впечатление в путешествии: «Я в течение целой недели духовно и физически ощущал прошлую жизнь».
Это впечатление истории. Среди многих встреченных людей – новых знакомых, старых знакомых, обжившихся в Италии, – самое сильное и ясное впечатление оставляют встречи с Горьким в Риме, в Неаполе, на Капри. «Опять Горький очаровал и завладел моей душой», – пишет Станиславский, «Крупен этот человек и все растет… Еще много сделает он… До чего красив, ярок и неисчерпаемо талантлив этот человек», – пишет Горький. Это ощущение неисчерпаемости таланта взаимно; для Станиславского достаточно немногих встреч, чтобы возобновилась длительная, прочная, живая связь; от случайно увиденного вместе спектакля современной «commedia dell' arte» в Неаполе снова тянутся общие мысли о возможности театра импровизации и в России, о народном театре в самом расширительном смысле, созданном для народа, в котором играют люди из народа.
Когда прежде Константин Сергеевич уезжал на месяц, в Художественном театре скапливалось огромное количество дел, которые мог исполнить и распределить только он, вопросы, которые мог решить только он. Сейчас отсутствие его продолжается более восьми месяцев. Письма, деловые бумаги скапливаются сотнями. Но по возвращении он подписывает не многие из этих бумаг. В 1911 году Станиславский выходит из дирекции театра, оставив за собой лишь право совещательного голоса. Все дело Художественного театра в 1911 году поступает в руки товарищества, которое в основе своей составляют не сторонние пайщики, но прежде всего – сами актеры и служащие театра. Товарищество подчеркивает, что цель его – «осуществление художественных принципов основателей театра». Но основатель театра вырабатывает новые принципы. Проверяет их во всей своей работе, в собственных ролях, в работе над ролями с прославленными актерами и с учениками школы. В старой роли Астрова, в давно начатом спектакле «Гамлет», который наконец-то близится к завершению, в только что начатой работе над пьесой Толстого «Живой труп». Он благоговейно относится к пьесе, к ее образам, продолжая в совокупности своей режиссерской и актерской работы все то повое, что нашел он в «Месяце в деревне». Ему легко и интересно самому играть князя Абрезкова, передавая в трех эпизодах не только личную, частную жизнь героя, но социальную биографию аристократа по рождению, по воспитанию, по образу жизни.
О дуэте Станиславского – Абрезкова и Лилиной – Карениной критики говорят как о дуэте совершенном, они играют в одном ключе, в одной истинно толстовской тональности полного, многомерного психологического раскрытия образов и социального раскрытия образов истинно светского господина и истинно светской дамы, порядочность которых непременно сопряжена с ограниченностью.
В этом спектакле Станиславскому прежде всего интересно заниматься с другими исполнителями. Заниматься по той «системе», которую он ищет и проверяет на себе самом, на актерах всех поколений. В уроки часто превращаются не только репетиции – школьные экзамены, встречи с актерами, вплоть до случайных уличных встреч.
Он увлеченно делает с актерами упражнения на внимание, на сосредоточенность, на общение, а когда актеры переходят к ролям, к диалогам, из репетиционного фойе попадают на сцену, – внимание рассеивается, условия общения меняются, почти неизбежно возникает тяготение к «представлению», к использованию уже найденных приемов, и снова приходится возвращаться к первичным элементам реального человеческого самочувствия.
Из многих «давно известных истин» Станиславский особенно помнит ту, что открыл он для себя на тихом финском курорте: сценическое самочувствие, самочувствие человека, который на подмостках должен передавать чужие чувства, – противоестественно по природе своей. Только самые большие актеры умеют его преображать, умеют действовать на сцене так просто, целесообразно, уверенно, что у них самих и у зрителей исчезает ощущение неестественности, позерства. Тогда сцену и зал сливает великое чувство «я есмь», тогда властвуют над потрясенным зрительным залом Мочалов и Сальвини, Дузе и Ермолова, Шаляпин и Станиславский.
Устремленность к этому великому искусству определяет его работу над трагедией трагедий – над «Гамлетом», которого он чем дальше, тем больше видит гигантским спектаклем актеров. На репетициях он показывает прежде всего Гамлета, каким видит его сам. «Он в полчаса, несколькими штрихами, почти без жестов, сделал гениальный набросок роли Гамлета. Он показал сцену с тенью отца: два-три восклицания, безумно устремленные глаза… Сцена с Офелией: холодное призрачное лицо оторванного страшным видением от жизни, сосредоточенного в своем страдании принца. Сцена после „мышеловки“, после публичного изобличения короля: трагическое, исступленное ликование», – описывает свидетель репетиций.








