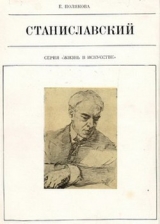
Текст книги "Станиславский"
Автор книги: Елена Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
«Вечером 17 декабря мимо окон моей квартиры шумно проезжали извозчики, экипажи, кареты, направлявшиеся к „Эрмитажу“. Потом наступила тишина… Я мучительно волновалась. И в конце концов не выдержала, накинула на себя меховую тальму и пошла узнать, что делается в театре. Открыла ложу, где сидел брат, и тихо присела у самых дверей. Тишина и внимание публики меня поразили. Совсем непохоже на Петербург. Я шепотом спросила у брата:
– Ну как?..
Он сказал так же тихо:
– Замечательно.
Я стала смотреть пьесу и увидела чудесную игру незнакомых мне артистов…
Спустя две недели после премьеры я писала брату: „Чайка“ производит фурор, только и говорят, что о ней. Билетов достать нельзя, на афишах печатают каждый раз: „Билеты все проданы“. Мы живем около „Эрмитажа“-театра, и когда идет „Чайка“ или „Царь Федор“, то мимо наших окон извозчики медленно едут непрерывным гуськом, городовые кричат. В час ночи пешеходы громко говорят о „Чайке“, и я, лежа в постели, слышу все это».
На премьере же актеры, от которых пахло валерьянкой, произносили непривычный текст Чехова, не зная, что зрительный зал уже покорен, уже живет мечтами, страданиями, устремлениями их героев. Все шло так, как представлялось Станиславскому в работе над партитурой спектакля: стучала колотушка сторожа, выла собака вдали, луна всходила над дальним озером; Треплев – Мейерхольд нервно грыз травинку, обратив к зрителям истомленное узкое лицо; Книппер – Аркадина в модном туалете 1898 года сражалась с сыном, сражалась за любовника, за право блистать в «Даме с камелиями». Плакала Маша – Лилина на садовой скамейке, покачивался на качалке старик Сорин – Лужский. В Александрийском театре над репликами героев хохотали – здесь замирали от тех же реплик, от тоски, которая окутывала спектакль, как озерный туман.
«Может быть, пьеса не будет вызывать взрывов аплодисментов…», – писал Немирович-Данченко автору всего полгода тому назад, умоляя разрешить постановку будущему театру.
В ночь после премьеры Чехов получает телеграмму Немировича-Данченко: «Только что сыграли „Чайку“, успех колоссальный. С первого акта пьеса так захватила, что потом следовал ряд триумфов. Вызовы бесконечные».
Создатели театра мечтали об удачной премьере, которая реабилитировала бы пьесу после петербургского провала, – премьера стала триумфальной, со «взрывами аплодисментов». От акта к акту нарастало в зале ощущение великого художественного события, все яснее становилась ограниченность старого театра, который отринул гениальную пьесу. Впрочем, кто вспоминал «александринский инцидент» в этот вечер в зале «Эрмитажа»? Зрители сливались с героями, жили их жизнью; зрители слушали текст пьесы так, словно он рождался сейчас, перед ними; зрителям казалось, что они сами вошли в запущенный старый парк над озером, потом поднялись в дом, где так сумрачно-неуютны комнаты, обставленные кое-как, наспех, разнокалиберно («хотелось кутаться в платок», – сказала одна из актрис об этом доме, который постыл его обитателям).
Зрители словно ждали этого спектакля о томительно неустроенной жизни, об одинокой старости, о молодости, которая пропадает зря, растворяется в привычном инертном существовании. Другие режиссеры будут выделять иные темы, подчеркивать иные стороны в новых постановках. Но именно Станиславский в своей режиссерской партитуре и в непосредственном сценическом решении «Чайки» открыл для сцены и гениально воплотил новые свойства чеховской драматургии. Текст пьесы определялся подтекстом, всем огромным социальным и психологическим комплексом жизни героев; спектакль Станиславского и Немировича-Данченко был полифоничен, как сама чеховская драма; в этом спектакле был создан неведомый до сих пор сплав поэтического лиризма и жестокого быта; оба режиссера в работе с актерами совершенно миновали все привычные приемы старого театра, на деле осуществив задуманную «революционную программу». Поэтому и стала премьера «Чайки» одновременно театральной легендой и живым истоком будущего театра Чехова, который начался 17 декабря 1898 года.
Критики, которые два года тому назад были язвительно-грубы по отношению к автору, теперь соревнуются в понимании пьесы; все газеты отмечают на столько удачи отдельных актеров, сколько удачу всего актерского ансамбля, «превосходную постановку, общий тон, вполне соответствующий тому настроению, которое должно получиться от пьесы». «Пьеса имела огромный успех, потому что самое существенное в ней – „настроение“ – уловлено артистами правильно и передано в совершенно верном и надлежащем тоне. Мы вышли из театра восхищенными небывалою у нас пьесой и необыкновенною стройностью ансамбля у исполнителей», – такой отклик типичен для премьеры «Чайки».
Не о бесчисленных житейских приметах летнего дня и осеннего вечера говорят рецензенты, и не их в первую очередь воспринимают зрители: «Режиссер сумел придать спектаклю тот особый колорит, который один мог служить истинным фоном для мелодии отчаяния, вырвавшейся у Чехова… Мягкие расплывающиеся полутона – как фон, и первый план – подернутый легкой дымкой, которая не давала ни одной краске вылезть вперед. От начала до конца все это было выдержано».
Петербуржец Гнедич, которому так идет слово «маститый», – драматург, автор популярно-эклектичной «Истории искусств», член всякого рода комитетов и советов, начальник репертуарной конторы Александрийского театра – напечатал в суворинской газете «Новое время», достаточно оппозиционной по отношению к новому московскому театру, статью: «Большое счастье, что нашелся театр, – безразлично это, частный он или казенный, – который понял, как надо подступаться к подобным пьесам, как осторожно и тонко надо за них браться. В этой реабилитации „Чайки“ я вижу залог светлого будущего не для одного данного театра – для русского театра вообще… Театральное дело вступает в новую фазу. Много борьбы предстоит с представителями отживающих форм мнимой сценичности, но главное – первый шаг сделан».
Из этого ансамбля выпадают два исполнителя.
Вся пресса пишет о неудаче главной роли в исполнении Роксановой. Молодая актриса надрывно-истерична, однообразна (возможно, что вина тут лежит и на авторе партитуры, который все время подчеркивает неизбежность трагедийного финала, сломленность Заречной; Нина для него – чайка смертельно раненная, не могущая взлететь; возможность иного толкования, сложность центрального образа он как раз не ощущает). Неуспех делит с ней лишь Станиславский – Тригорин. Он объединяет в единой атмосфере, в общем настроении всех персонажей, всех актеров – кроме себя самого.
Даже деликатнейшая Мария Павловна Чехова пишет: «Не особенно мне понравились Тригорин и сама Чайка. Тригорина играл Станиславский вяло, а Чайку – плохая актриса…»
Автор пьесы, увидев наконец «Чайку», отозвался об обоих исполнителях гораздо более резко: «…сама Чайка играла отвратительно, все время рыдала навзрыд, а Тригорин (беллетрист) ходил по сцене и говорил, как паралитик; у него „нет своей воли“, и исполнитель понял это так, что мне было тошно смотреть».
Думается, что в этом и была причина неудачи Станиславского-актера во встрече с Чеховым (до «Чайки» он играл лишь главную роль в водевиле «Медведь»).
Исполнитель, привыкший к «характерным» ролям, новую роль готовит привычным методом: он выделяет, резко акцентирует несколько определяющих черт как внешности, так и характера персонажа. Известный писатель? Значит, представительный господин в белой панаме, модных туфлях, со скучающим выражением холеного лица. «У меня нет своей воли… У меня никогда не было своей воли… Вялый, рыхлый, всегда покорный» – эта автохарактеристика Тригорина понимается исполнителем буквально, он старательно подчеркивает его пассивную, наблюдательную позицию в жизни. «Вынимает записную книжку и записывает» – постоянный жест Тригорина у Станиславского.
В то же время пусты страницы его партитуры, относящиеся к столь важному монологу-раздумью Тригорина о призвании и долге литератора. Актер не воспринимает чеховской сложности характера. Тригорин для него – только «раскисший», только наблюдатель, только модный беллетрист; ему никак не могут подойти «клетчатые панталоны и дырявые башмаки», в которых видит Тригорина автор.
Станиславский-режиссер воплощает в общем решении спектакля именно чеховское «настроение», он уже создал новый театр, живет в нем, – а Станиславский-актер уверенно действует в сфере старого театра. Он играл Тригорина как персонаж «Рубля» или «Горящих писем»; он уже нашел единый общий тон, единую среду, «атмосферу», охватывающую все действие, его определяющую и в то же время им рожденную, но не нашел соотношения своего героя с этой средой, с этим столь точно найденным настроением. В результате – «ходил, как паралитик».
Истинным актером нового театра он показал себя в следующей премьере.
Впервые он играет роль в драме Ибсена, впервые ставит драму Ибсена, вовсе не размышляя при этом об особенностях стилистики скандинавского драматурга, – решает ее как реальнейшую бытовую драму, только быт здесь не привычный московский, но северный, норвежский.
Через несколько лет в другом театре «Гедда Габлер» будет ставиться на фоне гобеленов, мехов, и актриса оденется в странно струящиеся туалеты, и театр будет любоваться роковой красавицей, которая губит и мучает людей. В спектакле Станиславского нет никаких гобеленов и сияний – есть гостиная, обставленная по ремаркам Ибсена; подушки на диване, столы, покрытые вязаными скатертями, модные, по вполне умеренные в своей моде туалеты тоскующей Гедды, жены аспиранта, мечтающего стать профессором.
Актеры – Москвин, Андреева – играли ровно, дополняя друг друга в драме, трактованной режиссером Станиславским как бытовая драма. Из этого слаженного ансамбля вырывался лишь Станиславский-актер. Он играл ученого Левборга, смысл жизни которого сосредоточился в рукописи, ставшей страстью этого человека, призванного перевернуть мир и обреченного на прозябание в чистом и скучном северном городе. Гедда Габлер ломала жизнь ученого, и он приходил к ней – после того как потерял рукопись ночью, бродя по городу.
«На последней репетиции Станиславский в роли гениального и беспутного Левборга, потерявшего свою рукопись, выбежал на сцену в состоянии какого-то безумия – „весь буря и вихрь“. Это было нечто столь потрясающее, что в зрительном зале произошло движение – многие поднялись с мест», – вот впечатления очевидца.
Один из критиков писал о том «ореоле гениальности», который никогда почти не удается в театре и который воплотил Станиславский. Впервые сыграл он истинно трагического героя, поднявшегося над повседневностью и поверженного ею. Отелло и Акоста снижались исполнителем, нисходили из трагедии в быт; Левборг из норвежского быта поднимался в трагедию; та полнота жизни, которая была свойственна Станиславскому в его любимых ролях добрых и простодушных героев, сохранилась в образе человека, который переживал великую трагедию в гостиной с вязаной скатертью. Трагедию неосуществленности дела, которое было целью его жизни, самой жизнью. Исполнителю легко было представить, как чувствует, как ведет себя человек, потерявший дело жизни, – как если бы он, Станиславский, лишился театра…
«Гедда Габлер» – последний спектакль, поставленный Станиславским в течение первого сезона Художественно-Общедоступного театра. В этом сезоне он поставил пять новых спектаклей, в которых сыграл три центральные роли. Возобновил два спектакля Общества искусства и литературы, в которых сыграл центральные роли. И все-таки дважды выступил на сцене Охотничьего клуба в роли Жоржа Дорси, обличающего несправедливую помещицу. В протокол заседания правления Алексеевского товарищества от 10 марта 1899 года занесено заявление К. С. Алексеева о том, что «ввиду передачи части возложенных на него обязанностей по руководству фабриками директору П. М. Вишнякову, он отказывается от своего прежнего содержания в размере 5000 рублей и просит назначить ему жалованье в размере 4000 рублей в год». А на последнем в сезоне заседании пайщиков «товарищества на вере» он говорит о сорокатысячном дефиците театра. С точки зрения коммерческой, кассовой новое дело обанкротилось после первого же сезона: разве можно было столько времени тратить на репетиции, разве можно было тратить такие деньги на декорации «Чайки», для которой вполне достаточно было бы старенькой кулисной «зелени» да сборной обстановки из любых спектаклей? Но пайщики не только соглашаются повторить взносы – они принимают решение о строительстве специального здания, оснащенного новинками театральной машинерии. Товарищество истинно верит в свое дело. И в течение всей весны 1899 года репетируются спектакли, которыми откроется следующий сезон театра. Первого профессионального театра, в котором кончается первый профессиональный сезон режиссера и актера Станиславского.
III
В одном из писем Владимир Иванович напоминает Станиславскому о том, что тот должен сделать до начала второго сезона: «Значит, вся работа сводится к 5 пьесам. Вам надо приготовить на славу Грозного, подготовить окончательно Астрова, поставить совсем „Грозного“, укрепить „Геншеля“, подкрепить „Двенадцатую ночь“ и заглянуть в „Антигону“ и „Федора“».
Константин Сергеевич все это делает: укрепляет, подкрепляет, исправляет, «чистит» идущие спектакли, репетирует новые спектакли. Работу над трагедией А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» он начинает в тихой монастырской гостинице близ Троице-Сергиевой лавры. Черные птицы кружат над синими главами соборов и золотом крестов; у мощей Сергия Радонежского бьют поклоны монахи, нищие, бабы с детьми, мужики-богомольцы – как во времена Грозного, роль которого нужно приготовить к следующему сезону. Летом плывет с Марией Петровной на пароходе по Волге; в Казани, конечно, покупает материи, сапоги, золотое шитье – все, что может пригодиться будущему спектаклю. Затем принимает ванны и пьет воду в Виши, смотрит там нашумевшую «Даму от Максима» и в одном из писем обрушивает на нее гнев, слишком тяжкий для изящно-легкомысленной дамы. В номере гостиницы на столе – пьесы Толстого и Чехова; белые листы, вклеенные в них, все больше заполняются заметками, схемами, планами, режиссерскими указаниями.
Кажется, «Смерть Иоанна Грозного» продолжает, повторяет «Царя Федора», но Станиславский специально, настойчиво предупреждает о разнице спектаклей и решений сцен. Верный однажды найденным удачным приемам и решениям, подробно фиксирующий их в своих записях, он в то же время боится повторений, использования уже найденных приемов и с обостренной чуткостью следит за помощниками-режиссерами, за актерами, за самим собой – не слишком ли легко стало играть, не повторяет ли театр и он сам уже найденное, уже пройденное? В этой тревоге – один из секретов постоянного обновления искусства Станиславского и его театра.
Как легко повториться в исторической трагедии того же автора, где действие происходит в тех же кремлевских теремах, на той же московской площади, где бунтует чернь и устраивают заговоры бояре! Как легко повториться в решении второй, а потом и третьей пьесы Чехова, где в той же провинциальной глуши тянется тоскливая жизнь, где поют птицы в саду, свистит ветер за окнами, где действуют те же небогатые помещики, управляющие, доктора, где девушки мечтают об иной, истинной жизни и не могут осуществить эту мечту!
В «Царе Федоре» был один соперник – петербургский Театр Литературно-артистического кружка, показавший премьеру двумя днями раньше; «Смерть Грозного» утвердилась на сцене еще в шестидесятых годах, главную роль играли Самойлов и Шумский, это одна из любимых ролей Эрнесто Росси, в которой он выступал и в России. «Дядя Ваня» – пьеса, буквально отбитая у Малого театра; нужно ставить ее так, чтобы у автора и у зрителей не возникла даже возможность сожаления о том, что они видят в спектакле не Федотову, Ленского, Макшеева, но Книппер, Станиславского, Лужского, Вишневского.
Зачастую именно на второй книге выясняется, будет ли человек истинным литератором; именно на втором сезоне выясняется, будет ли театр истинным театром долгой жизни или триумфы его исчерпываются премьерами первого сезона.
Ведь пишут достаточно авторитетные критики (главным образом петербургские; традиционное соперничество городов дает себя знать и в этом случае) о том, что этот деспотический театр, где актер подчинен и угнетен Станиславским, быстро исчерпает себя в противоположность неисчерпаемому актерскому театру, где царит не захватчик Станиславский, но Савина, или Ермолова, или Орленев. Ведь влиятельный журнал «Театр и искусство» почти в каждом номере печатает статьи Homo Novus’a, то есть главного редактора журнала Александра Рафаиловича Кугеля, который темпераментно и язвительно доказывает нехудожественность Художественного театра (впрочем, исключение делается для самого Станиславского-актера).
Провинциальному актеру, который принял приглашение Художественного театра, Кугель взволнованно кричит: «Какого черта вы к ним пошли, они же вас погубят, вы же талантливый человек!» Станиславский и сам впоследствии будет говорить о своем режиссерском деспотизме времен любительства и начала Художественного театра, оправдывая его неопытностью актеров, необходимостью сразу привлечь и удержать на протяжении всего спектакля внимание зрителей.
Действительно, его предварительные режиссерские партитуры спектаклей Чехова, Ибсена, Гауптмана столь детальны и столь конкретны, что актеры могут сыграть спектакли буквально по этим указаниям, ничего не меняя в них. В то же время действия, приспособления, предлагаемые Станиславским исполнителям, так естественно органичны для персонажей, так точно выражают их состояние, что в спектаклях деспотизм оборачивается чудесной свободой актеров, которые не механически выполняют режиссерские предписания, но совершенно сживаются с ними, понимая, что режиссер (между собой сотоварищи по Обществу продолжают называть его Костей) предлагает им лучшее из всех возможных решений. В этой радостной готовности к приятию и воплощению предложений режиссера, в этом умении слиться с замыслом режиссера – причина создания великолепного актерского ансамбля Художественного театра.
К тому же в работе с актерами, в осуществлении предварительной режиссерской разработки и сам Станиславский и Немирович-Данченко, столь часто осуществляющий эти партитуры на сцене, влюбленный в них, как в пьесы Чехова («Один Ваш намек даст мне целую сцену… Возьмите клочки бумаги и забрасывайте туда все, что придет в голову: и салат с разбитой тарелкой, и позы, и крик, и отъезд на пароход», – пишет он, приступая к работе над «Одинокими»), корректируют, дополняют предварительные планировки, заменяют мизансцены более удобными и выразительными, сверяют предложенный темп, разметку пауз. Актеры для них вовсе не манекены, не марионетки, которые лишь исполняют предписанное: спокойный юмор Лужского, тонкая интеллектуальность Мейерхольда, лирическая мягкость Лилиной, радостное жизнелюбие Книппер – все эти свойства входят в роли, сливаются с ними, образуют решения, вовсе не предвиденные режиссерами.
Если Константин Сергеевич не репетирует с актерами сам, он спокойно передает свою партитуру Владимиру Ивановичу, зная: все будет понято, воплощено именно так, только так, как нужно, и исправления, если они понадобятся, будут внесены с такой мерой такта и чуткости, которая возможна только при абсолютной творческой слиянности.
Так – в полном слиянии – идет работа над всеми спектаклями, которые они ставят вдвоем, особенно над пьесами Чехова. Словно сами пьесы созданы для этого совершенного дуэта режиссеров, в котором обе индивидуальности равно необходимы и друг без друга не существуют; именно с них, с этого единства начинается первоначальный, человеческий ансамбль Художественного театра, который предваряет и определяет возможность сценического ансамбля. Первопричина, самая возможность создания такого ансамбля – это, конечно, общность мировоззрения, полное единство в понимании целей и задач искусства. «По самому своему существу театр должен служить душевным запросам современного зрителя» – это убеждение Немировича-Данченко целиком разделяет Станиславский. «Мы стремимся осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастливые, эстетические минуты… Мы стремимся создать первый разумный, нравственный общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь» – это убеждение Станиславского, целиком разделяемое Немировичем-Данченко.
Они оба хотели создать народный театр для самых широких слоев русского общества – но слишком ограничены репертуарные, эстетические возможности такого театра в современной России. И все же даже в самом названии они декларируют общедоступность своего театра, воплощающего раздумья и надежды передовой интеллигенции, отвечающего ее эстетическим запросам. Закономерно, что, посмотрев в феврале 1900 года вовсе не лучший, рядовой спектакль Художественного театра «Возчик Геншель», Владимир Ильич Ульянов пишет родным через год: «Превосходно играют в „Художественно-Общедоступном“ – до сих пор вспоминаю с удовольствием свое посещение в прошлом году…» Закономерно, что Станиславский получает сотни писем от офицеров, учителей, врачей, юристов, студентов, курсисток, для которых даже единственное посещение театра становится важнейшим жизненным событием. Они воспринимают новый театр именно так, как хотел того Станиславский – как «первый разумный, нравственный общедоступный театр».
Кажется, определение «первый» не вполне правомерно; ведь сам Станиславский постоянно подчеркивает преемственность своего театра от Шекспира и Щепкина. Но щепкинский театр – великий актерский театр, его заветы относятся непосредственно к актерам. Ведь великие роли Щепкина и Мочалова, Садовских и Ермоловой создавались не столько в общности с театром, в котором они служили, сколько в противодействии театральному организму, подчиненному ведомству царского двора, порабощенному соображениями кассы, прибыли.
Художественный театр – действительно первый организм, свободный от этих традиционных пут. Новый театр, основанный знаменитым Ленским как филиал Малого театра, не сумел от них избавиться и теперь понемногу чахнет, растрачивает себя в бесконечных компромиссах с дирекцией императорских театров, с драматургами-ремесленниками. Радуют зрителей молодые актеры, иногда радуют спектакли – шекспировская сказка «Сон в летнюю ночь» или русская сказка «Снегурочка», любовно и тонко поставленные Ленским, – но разве можно сравнить убывающее значение этого театра с могучим, все возрастающим значением Художественного театра!
Сила Станиславского и его театра – в радикальности, всеобщности сценических преобразований. В то же время великая сила этого театра в том, что при всей радикальности, «революционности» программы он не провозглашает разрыва с прошлым, с его традициями, но продолжает истинные, основные традиции реалистического искусства, обращает театр к жизни, минуя сложившиеся штампы исполнения.
Основатели Художественного театра понимают ограниченность современного театрального искусства и провозглашают борьбу с ней. Но невозможно представить себе Станиславского и Немировича-Данченко в облике, скажем, французских романтиков, которые столь вызывающе вели себя по отношению к классицистскому театру. Обструкция, воинствующая резкость, разрыв, эпатирующие манифесты не свойственны основателям Художественного театра. Это по отношению к ним известные провинциальные актеры да и заслуженные артисты императорских театров подчас ведут себя вызывающе. Одного актера, который особенно хулил «Алексеева и его дрессированную труппу», спросили: видел ли он эту труппу? «Не видел и видеть не желаю», – ответил маститый артист.
Для самих основателей Художественного театра праздник – посещение Южина или Ермоловой, которая говорит своим звенящим голосом: «У Станиславского надо учиться» и даже может написать в 1899 году: «И не удивляйтесь, если услышите, если я покину Малый театр и, может быть, даже перейду к Алексееву».
Экземпляр «Ревизора», перешедший из рук Щепкина в руки Станиславского, позолоченный венок, который был поднесен когда-то Самарину, передан им Федотовой и подарен ею Станиславскому, – вот символы отношения старшего поколения к основателю Художественно-Общедоступного театра. Станиславский всегда сочетает пафос ниспровержения, отрицания канонов – и ощущение вечности, неисчерпанности и неисчерпаемости щепкинских традиций реалистического театрального искусства. Он не ниспровергает Щепкина и Гоголя, Шекспира и Мольера, он следует своим предшественникам, обращаясь к первоисточнику их собственных взглядов, а не к позднейшим толкователям и комментаторам. Все предшественники для Станиславского – союзники в обращении к непосредственной реальности жизни, к великому потоку человеческого бытия. Это ощущение могучего потока жизни человечества, объединяющей великие исторические свершения и повседневность быта, – основная черта творческой личности Станиславского. Он всегда был силен и еще более силен сейчас, в Художественном театре, тем, что возвращает театр – жизни, что воплощение ее осуществляется в его искусстве с такой точностью, свободой, глубиной, которые необозримо раздвигают границы и возможности самого искусства рубежа веков.
Станиславскому – основателю Художественного театра близок не изысканный европеизм «Мира искусства», но подчас третируемая художественной молодежью социальная насыщенность передвижников (стремление осветить «темную жизнь бедного класса» сопряжено, конечно, с этими впечатлениями, характерными для восьмидесятых-девяностых годов), но мощная монументальность Сурикова (именно в его тональности строятся исторические спектакли Художественного театра), внимание к характеру реального человека, такое важное для портретистов конца века.
Станиславский никогда не изучал специально эстетику, ее категории и терминологию. В нем самом изначально заложено, всегда живо ощущение искусства как необходимости жизни, из нее исходящей и к ней направленной. Поэтому он мог бы убежденно повторить за Чернышевским – «Прекрасное есть жизнь», поэтому так близки ему мысли Толстого, провозглашающего в год открытия Художественного театра:
«Для того, чтобы точно определить искусство, надо прежде всего перестать смотреть на него как на средство наслаждения, а рассматривать искусство, как одно из условий человеческой жизни. Рассматривая же так искусство, мы не можем не увидеть, что искусство есть одно из средств общения людей между собой».
Общение людей, выраженное в театре так прямо и открыто, в неразрывной связи сцены со зрительным залом, – то важнейшее, что привлекает к театру Станиславского. Он сам испытал чувство, которое для Толстого является началом всякого истинного искусства: «Искусство начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его». Для Станиславского, как для Толстого, искусство никогда не бывало обращено к самому себе, не было источником лишь личных радостей. Самое понятие «театр» было для него понятием общественным уже во времена домашнего кружка; ощущение искусства как огромной преобразующей силы также является изначальным свойством художественной натуры Станиславского. Нравственный, гуманистический заряд искусства огромен, и обращен он к массам людей, к народу в истинном смысле этого слова, а вовсе не к тем «верхним» слоям, к которым принадлежит сам Станиславский.
И связи театра с реальностью так неисчерпаемы, так обильны, так прекрасны в своей основе, что сами они не могут ни оскудеть, ни иссякнуть – оскудеть может лишь конкретный художественный организм или художник, утративший эту первоначальность, обостренность, полноту восприятия жизни.
Эта опасность не грозит ни Художественному театру, ни Станиславскому. Разумеется, не все его спектакли равноценны. Среди них вовсе не редки такие, в которых жадное собирательство подробностей и явлений жизни не становится открытием. Он терпит решительную неудачу в роли Грозного. Играет не человека крупного, не человека больших способностей, дарований – играет злого, физически немощного старика, мелко-злобного и мелко-подозрительного, снабжает его многими внешне характерными черточками, которые сам с иронией называет «тиками». Грозный у Станиславского старчески шамкает, зябко дрожит, нетвердо стоит на больных ногах; но «тики» лишь придают образу характерность – характера они заменить не могут. Трагедия растратившей себя огромной силы, которой потрясали Росси и Шумский, у Станиславского оборачивалась трагедией бессилия Грозного, которому народ и боярство подчиняются инертно, по привычке, доставшейся от татарщины.
В этом была самостоятельность и последовательность решения в этом же была ограниченность решения. И справедлив упрек критика в том, что исполнитель «спускает героя трагедии до жанровой фигуры», и справедлива оценка Немировича-Данченко: «Константину Сергеевичу роль не удалась, никому он не понравился, и вот происходит мучительный кризис. Актер чувствует, что зала не его, а должен играть. Тратит огромное количество нервов, но не заражает, т. к. зала не принимает его замысла… Утомляет актера вообще не роль, а неуспех в роли. И Константин Сергеевич так утомляется, что ни в день „Грозного“, ни на другое утро не годен для работы».
В «Возчике Геншеле» Гауптмана – при всей привлекающей простоте исполнения, при ансамблевости спектакля – выступает на первый план бытовая достоверность, которую констатирует рецензент газеты «Курьер»: «Посмотрите только, как здесь поставлен четвертый акт драмы „Геншель“. Вглядитесь в каждую отдельную фигуру исполнителей „без слов“. Вот перед вами фигура немецкого извозчика; он входит, не снимая шляпы, садится за столик и стучит по столу, требуя кружку пива, – это настоящий немецкий извозчик; вот выходит разносчик газет, и вы видите, что это немецкий разносчик; вот пробежал через сцену немецкий офицер. Я вас уверяю, что более художественно изображать этого офицера невозможно. Немец так бы не изобразил, как его изображает на сцене Художественно-Общедоступного театра какой-нибудь Петров или Иванов. И в общем перед вами яркими красками рисуется картина немецкой бытовой жизни в маленьком немецком ресторанчике».
В первой встрече с Ибсеном – в «Гедде Габлер» – Станиславский был интересен как актер, не как режиссер: пьесам Ибсена необходима житейская достоверность, но не в том качестве, в каком решал их Станиславский, равнявший психологическую драму Ибсена с этнографически подробным «Геншелем». В «Дикой утке», которую он вскоре ставит, все подчиняет быт, обстановка запущенного фотоателье, которое служит одновременно и жильем; исполнение же над этим бытом не поднимается.








