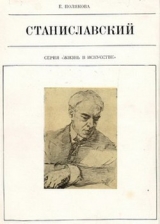
Текст книги "Станиславский"
Автор книги: Елена Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 40 страниц)
«Женоненавистничества» нет в нем самом. Может быть, для другого актера это будет естественной основой роли, но он сам знает: «Я прежде всего добродушный и наивный, в вопросах любви – особенно». Скорее, ему ближе боязнь женщин – именно в этом плане работает его «аффективная память»; и снова «ощущение боязни и конфуза женщины отравилось ложью штампа». Вспоминается манера говорить любимца юности – Родона, помогает эскиз Бенуа: «полу-Дон-Кихот, полу-Спавенто». Сам видит Кавалера немолодым, важным («губернатором»), Бенуа видит его менее важным, гораздо моложе. Немирович-Данченко предлагает образ, который видится ему: легкомысленный гуляка. И этот образ при всем противодействии актера «западет ему в душу», и снова он будет путаться в «зернах» и «задачах», и снова поиски будут обрастать штампами, «актерщиной». Станиславский-исполнитель будет выкорчевывать эти штампы, прорываясь к самой глубине образа, Станиславский-режиссер будет выкорчевывать штампы у других исполнителей, доводить до изнеможения старого сотоварища по Художественному театру Вишневского, юных Бирман и Болеславского, повторяя несчетное количество раз каждый выход, каждую интонацию. Будет доводить до изнеможения Бенуа требованиями все новых эскизов, удобных планировок, сочетания естественности и гольдониевской поэтичности, которого и достиг художник.
В уютные комнаты гостиницы, на балкон (за его аркадами – купола Флоренции, дымка умбрийских холмов), где Мирандолина – Гзовская развешивает пахнущее свежестью белье, входит огромный, громогласный Рипафратта – Станиславский, с великолепной офицерской выправкой, с самоуверенностью, дарованной воспитанием и привычками, а в глубине души – робко-наивный, боящийся женщин и плененный прелестной хозяйкой гостиницы.
Станиславский-актер любит обе роли, Аргана и Рипафратту, играет их долго, особенно Кавалера – громогласного солдафона, который обращает в бегство всех и сам обращается в бегство от хозяйки гостиницы, олицетворяющей вечную, лукавую обольстительную женственность, и в то же время реальной хозяйки флорентийской гостиницы, где сохнет на ветру свежее белье и шумит в номере грубый постоялец Рипафратта.
Первый акт «Хозяйки гостиницы» – Кавалер останавливается у Мирандолины (его сопровождает слуга, похожий на денщика, жизнь которого также состоит из походов и трактирных развлечений, как жизнь его хозяина). Второй акт «Хозяйки гостиницы» – Кавалер попадает во власть «вечной женственности», сам еще не подозревая об этом, – он покрикивает на Мирандолину, он растерянно держит на руках упавшую в обморок хозяйку, он с аппетитом поедает обед, поданный Мирандолиной.
Однажды Гзовская принесла на репетицию этой сцены еду, которую приготовила дома. Это вошло в привычку, стало постоянной игрой актрисы и актера. В день спектакля Станиславский не обедал дома – он съедал цыпленка, приготовленного Мирандолиной для Кавалера. Так же как прежде он учился двигаться, говорить, сидеть на сцене – делать все естественно и в то же время театрально-выразительно, так теперь он учился есть на сцене, превращал обед в сценический шедевр: все предметы играли в его руках, он наслаждался свободой собственных действии, властью над зрителями, зрители наслаждались властью актера над ними.
Увлеченно играя свои комедийные роли, Станиславский противопоставляет здоровые чувства, смех, радость Гольдони и Мольера метаниям «Екатерины Ивановны» и дешевой элегичности «Осенних скрипок». В этом – значение его спектаклей, утверждение жизни и вызов реальной жизни кануна первой мировой войны.
В жизнь Станиславского эта война войдет непосредственно. Тревожные известия с Дальневосточного, действительно дальнего, фронта 1904–1905 годов он читал в Москве; объявление войны 1914 года отрезало его от Москвы.
Жаркое лето 1914 года на европейском курорте Мариенбаде (где Станиславского не только лечили, но «перелечили») тревожно: и хозяева отелей и отдыхающие живут слухами о возможной войне. Когда война начинается, бюргеров охватывает шпиономания, почтительное отношение к доходным постояльцам сменяется нескончаемыми манифестациями, «патриотическими» речами, откровенной грубостью одних и излишне покровительственным отношением других. Деньги по аккредитивам не выдаются, связь прервана, слухи один другого страшнее и неопределеннее. Торопливая запись Станиславского: «Первый отправляющийся поезд из Мариенбада, драка за места и при сдаче багажа. Озверение людей. Полное отсутствие носильщиков и экипажей. Таскание своих багажей; постоянные пересадки, осмотры, перетаскивание ручных багажей. Потеря части ручного багажа. Путешествие в третьем классе среди недружелюбных взглядов и ежеминутных проходов поездов, воинственно настроенных. Приезд в Мюнхен – вечером. Отсутствие носильщиков…»
Пока переполненный поезд из Мюнхена шел к пограничной станции Линдау (под крики: «Russen… Spionen!»), истек срок, назначенный для отъезда иностранцев из Германии, и русские, задержавшиеся отнюдь не по своему желанию, автоматически попали в рубрику «военнопленных». Военнопленными стали Станиславский и Лилина, семья Качаловых, молодой ученый Дживелегов, Гуревич.
Л. Я. Гуревич вспоминает:
«До Линдау остается всего лишь около часа. Остановка – большая людная станция: Иммерштадт… Поезд уже трогается. Вдруг на платформе какая-то суматоха, тревожный свисток, лязг соединяющих вагоны цепей, новая внезапная остановка – в вагоне появляется германский офицер и, окинув взглядом всех присутствующих, грозно обращается к Станиславскому:
– Из какой страны?
Холод пронизывает сердце.
Но Станиславский, стоя во весь рост, твердо отвечает с неподражаемым спокойствием и величием в осанке:
– Из России.
Может быть, в нем сказывается в эту минуту самообладание великого актера, привыкшего побеждать в себе ненужный трепет нервов, но в голосе его звучит что-то глубокое: он чувствует себя в эту минуту представителем своей страны. Лицо офицера наливается кровью. Он круто повертывается, выхватывает из ножен саблю и, взмахивая ею, кричит всем нам пронзительно, с взвинченной театральностью:
– Heraus! Heraus! Heraus! (Выходите!)
Начинается, – мелькает в голове. Мы выходим на платформу с мелким багажом в руках. Константин Сергеевич крепко держит свой заветный маленький чемоданчик с рукописями.
Идем, окруженные солдатами, к поезду и занимаем места в старом грязном вагоне с наглухо отделенными друг от друга купе. Теперь нас везут в обратную сторону от границы. С нами сидят две русские девушки, мюнхенские студентки, и два молодых баварских резервиста. Тихо в вагоне и после всего испытанного как-то необыкновенно тихо и спокойно в душе. Станиславский сидит подле меня. „Может быть, мужчин расстреляют“, – вполголоса говорят он мне, как бы размышляя вслух, и даже приводит доказательства того, что это возможно, но голос его звучит замечательно ровно и мягко. Я чувствую, что и для него жизнь созерцается в эти минуты с той безличной высоты, на которой уже ничто не кажется страшным. Потом он говорит о том, что впечатления этих дней сделали для него необычайно ясным сознание неглубокости всей нашей человеческой культуры, буржуазной культуры, добавляет он, и необходимости совсем иной жизни, с сокращением до минимума наших потребностей, с работой, настоящей художественной работой для народа, для тех, кто не поглощен этой буржуазной культурой…
„Кемптен!“ Открываются двери купе. Ночная свежесть ознобом пронизывает тело… Теперь нас перестраивают попарно и велят маршировать заодно с конвоирующими нас солдатами, как в оперетке».
Станиславский отчетливо сохранил в памяти все обстоятельства этого бесконечного ночного ожидания:
«Нас ввели в маленькую комнату с большими стеклянными окнами, почти во всю стену, с двух сторон. К окнам этим прильнула ожесточенная толпа. Одни взбирались на плечи другим, чтобы лучше рассмотреть „русских шпионов“… Иногда во сне бывают такие кошмары… Целая стена человеческих лиц, и лица эти – уже не человеческие, а какие-то звериные. Налево – все больше мужчины-резервисты, направо – женские лица, впрочем, не в меньшей мере озверевшие. Особенно одно лицо выделялось в этой живой стене своим яростным выражением. Странно и отрадно, как легко очеловечивается зверь в человеке… Стоило нашей спутнице Л. Я. Гуревич, известной петроградской журналистке, взглянуть ласково в это лицо, потерявшее было облик человеческий, стоило ей улыбнуться своей доброй улыбкой, покачать с полушутливым укором головою, – и „зверь“ сконфузился, женщина затихла и больше уже ни разу не поддавалась соблазну жестокосердия.
Между тем в комнате, куда нас загнали, начались какие-то жуткие приготовления. В полураскрытые окна и двери просунулись ружья. Стали зачем-то передвигать и переставлять столы, то так поставят, то этак. Все время входили и выходили какие-то военные. За дверями на несколько минут как будто затихнет, потом опять стон, визг, рев. И в дверь влетали, часто тут же падая, новые пленники. То вбросили к нам сербку с растрепанными волосами, за которые ее хватали резервисты, то беременную француженку, горько плакавшую. Иногда, когда дверь была отворена, явственно доносились ужасные звуки ударов. Кого-то били».
Поезд медленно плелся от восточной границы к южной, швейцарской. На границе – то же томительное ожидание, допросы, обыски, встреча с ранее прибывшей партией русских, среди них – художник-абстракционист Кандинский, долгие годы живший в Мюнхене. Когда русских уже отправляют в Швейцарию на пароходе, какой-то выхоленный пастор срывает отъезд, толкуя немецкому офицеру про некий обед, заказанный на тридцать кувертов, для русских, – обед пропадет, если русские уедут на этом пароходе. Посадку откладывают, так как пунктуальные немцы не могут допустить, чтобы пропал обед на тридцать кувертов. Затем выясняется, что пастор – друг Кандинского; он экспромтом придумал обед и куверты, чтобы русские переправлялись не на немецком пароходе, который швейцарцы могли и не принять, а на следующем, швейцарском пароходе, составляющем уже как бы часть нейтральной территории. Тревожна и непонятна жизнь в Швейцарии – без денег, переполненная тревожными слухами. Наконец появляется возможность выезда к морю, реальная возможность возвращения. Наконец – Франция, марокканцы на марсельских улицах («точно перенесли на улицу Марселя акт из „Аиды“», – замечает Станиславский), перегруженный пароход, медленный путь через Дарданеллы и Черное море в Одессу. Ощущение «мы – дома, мы – в России».
Но в прежнюю московскую жизнь все больше входила война. Она отзывалась дороговизной, нехваткой продовольствия, трудностями в театре, так как актеров призывали в армию. В то же время война отзывалась огромными прибылями фабрики. Деятелен был новый главный инженер, сын компаньона Тихон Шамшин – он переоборудовал производство фабрики, в то время как Константин Сергеевич переоборудовал производство театральное. Фабрика на Алексеевской выполняла большие военные заказы. Рулоны кабеля катили до Яузы, перевозили по реке. Фабрика получала сверхприбыли, от которых отказывается один из ее директоров, единственный из ее директоров – Константин Сергеевич Алексеев, считавший безнравственным наживаться на войне.
«У меня вышел маленький инцидентик на фабрике, и я отказался и от невероятных доходов и от жалованья. Это, правда, бьет по карману, но не марает душу», – пишет он дочери, добавляя в скобках: «Это между нами».
Станиславский противостоит войне, насилию, разрушению – сохранение культуры, накопленной театром, становится все более определенной, подчеркнутой его целью. Он хочет не просто сохранить все лучшее в Художественном театре и его студии; он хочет очистить театр и его студию от мелочного, не главного. В русле этого главного – возобновление, а точнее, новая постановка «Горя от ума» в декорациях Добужинского, верного не только грибоедовской эпохе, но стилистике Грибоедова, неповторимости сатирической комедии московского барства. Станиславский прорабатывает с актерами (по «кускам» и «аффективной памяти») все роли и массовые сцены (слитые из множества маленьких, зачастую безмолвных, но истинных ролей). И сам, репетируя Фамусова, очищает его от излишеств бытовых подробностей, от подчеркнутой полемичности решения 1906 года. Бесконечно трудясь над книгой о работе актера над ролью, Станиславский впоследствии выделит для анализа три классические пьесы, которые его самого сопровождают в течение десятков лет: «Отелло», «Ревизор» и «Горе от ума».
Тетради, посвященные роли Фамусова, ценны прежде всего тем, что они наиболее подробны, – автор здесь прослеживает весь процесс создания своей роли, не исключая его из общей атмосферы будущего спектакля, из видения режиссерского. Пишутся эти тетради позднее, но основа их – именно Фамусов 1914 года, прочно сохранившийся в «аффективной памяти» Станиславского.
Он пишет о необходимости для актера постижения эпохи в ее органичной, повседневной жизни, о том, что исполнитель должен абсолютно представлять себе, как и где жил его персонаж, во что одевался, как обедал. Ему снова доставляет радость лицезрение старых московских особняков, в которых он замечает все: отделенность парадных комнат и малых, жилых, окна без форточек, массу закоулков и переходов, курильню, в которой он не только видит набор трубок с длинными чубуками, но физически ощущает накуренность, клубы табачного дыма в этой комнате во время каких-нибудь фамусовских или скалозубовских дебатов.
Он воскрешает, фиксирует свой, неповторимый путь постижения пьесы в целом и роли в частности:
«Существуют артисты зрения и артисты слуха. Первые – с более чутким внутренним зрением, вторые – с чутким внутренним слухом. Для первого типа артистов, к которым принадлежу и я, наиболее легкий путь для создания воображаемой жизни – через зрительные образы. Для второго типа артистов – через слуховые образы.
Я начинаю с пассивного мечтания. Для этого выбираю наиболее легкий для меня способ возбуждения пассивной мечты, то есть зрительный путь. Я пытаюсь увидеть внутренним взором дом Павла Афанасьевича Фамусова, то есть то место, где происходит действие пьесы».
Дальше идут описания многостраничные, «бальзаковские», неисчислимые в подробностях и одновременно пронизанные анализом этого своего «пассивного мечтания» как необходимого элемента творческого самочувствия:
«Прежде всего сама обстановка постепенно рождает людей… Пока воображение дает одно расплывчатое лицевое пятно без определенных очертаний. Только почему-то один из буфетчиков оживает в воображении с чрезвычайной четкостью… Уж не Петрушка ли это?! Ба!!! Да это тот жизнерадостный матрос, с которым мне пришлось когда-то плыть из Новороссийска…
Как он попал сюда, в дом Фамусова? Удивительно! Но такие ли еще чудеса встречаются в жизни артистического воображения?..
Чтобы подробнее рассмотреть жизнь дома, можно приотворить дверь той или другой комнаты и проникнуть в одну из половин дома, хотя бы, например, в столовую и прилегающие к ней службы: в коридор, в буфет, в кухню, на лестницу и проч. Жизнь этой половины дома в обеденное время напоминает растревоженный муравейник. Видишь, как босые девки, сняв обувь, чтобы не замарать барского пола, шныряют по всем направлениям с блюдами и посудой. Видишь оживший костюм буфетчика без лица, важно принимающего от буфетного мужика кушанья, пробующего их со всеми приемами гастронома, прежде чем подавать блюда господам. Видишь ожившие костюмы лакеев и кухонных мужиков, шмыгающих по коридору, по лестнице. Кое-кто из них обнимает ради любовной шутки встречающихся по пути девок. А после обеда все затихает, и видишь, как все ходят на цыпочках, так как барин спит, да так, что его богатырский храп раздается по всему коридору.
Потом видишь, как приезжают ожившие костюмы гостей, бедных родственников и крестников. Их ведут на поклон в кабинет Фамусова, чтоб целовать ручку самому благодетелю-крестному. Дети читают специально выученные для сего случая стихотворения, а благодетель-крестный раздает им сласти и подарки. Потом все снова собираются к чаю в угловую или зелененькую комнату. А после, когда все разъехались каждый по своим домам и дом снова затих, видишь, как ожившие костюмы ламповщиков разносят по всем комнатам на больших подносах карселевые лампы; слышишь, как их с треском заводят ключами, как приносят лестницу, влезают на нее и расставляют масляные лампы по люстрам и столам».
Дальше Станиславский прослеживает все течение дня: беготня детей, звуки клавикордов, одни играют в карты, кто-то монотонно читает по-французски, кто-то вяжет и, наконец, только туфли шлепают в коридоре, а на улице скрипят запоздавшие дрожки да часовые кричат: «Слушай!..»
И все это прекрасное многостраничное описание приведено как предостережение: эта работа нужна, но увлекаться ею излишне нельзя, так как это «пассивное мечтание», а для сцены нужно иное – активное:
«Можно быть зрителем своей мечты, но можно стать действующим лицом ее, – то есть самому мысленно очутиться в центре создаваемых воображением обстоятельств, условий, строя жизни, обстановки, вещей и проч. и уже не смотреть на себя самого как посторонний зритель, а видеть только то, что находится вокруг Меня самого. Со временем, когда окрепнет это ощущение „бытия“, можно среди окружающих условий самому стать главным активным лицом своей мечты и мысленно начать действовать, чего-то хотеть, к чему-то стремиться, чего-то достигать.
Это активный вид мечтания».
Дальше начинается волшебное состояние постепенно рождающегося ощущения «я есмь», полного отождествления себя с образом. Образ может родиться только «из себя», из живой индивидуальности.
Режиссер должен помочь актерам создать все образы спектакля. Актер живет в своем образе, в его взаимоотношениях с другими персонажами, создаваемыми тем же методом.
Он предпринимает «мысленные визиты» Фамусова (себя в обстоятельствах жизни Фамусова) к родным и знакомым, проживает день своего персонажа – стоит на молитве, разговаривает с дочерью, выезжающей на Кузнецкий мост, диктует Молчалину, любуясь его идеальным почерком, едет с визитом к Хлёстовой…
И это только начало работы. Дальше пойдут поиски характера Фамусова и себя в Фамусове, за периодом познавания последует период переживания, за ним – ответственнейший период воплощения. Поиски материала «в себе самом» сочетаются с поисками материала «вне себя», и все проверенное, очищенное, выверенное выстраивается в единую цепь действий, которые определяются ролью. Это уже не Станиславский, думающий о том, как ему сыграть, – это Станиславский, ощутивший «я есмь», ставший Фамусовым и поэтому играющий его неповторимо и свободно: играющий московского чиновника, который вполне преуспел в службе и хочет преуспеть еще больше, который является и истинным московским барином, сочетающим хлебосольство с опасливой жестокостью по отношению к вольнодумцам своего круга, с привычным равнодушием к людям низшего круга – многочисленной дворне, мелким чиновникам. Истинная история России, преломленная талантом Грибоедова, жила в этом парадном зале, в гостиных с кафельными печами, в «библиотечных» с красным деревом книжных шкапов, в передней с белыми колоннами и закутком швейцара, через которую проходят гости, уезжающие из дома Фамусовых, во всех этих гостях, в домочадцах и слугах, больше всего – в самом Павле Афанасьевиче Фамусове – Станиславском.
Перед началом «Горя от ума» оркестр исполнял гимны России и держав-союзников, напоминая о войне. Затем война отходила – зрители вживались в спектакль, посвященный прошлому, сыгранный актерами на основе сегодняшних завоеваний и открытий Станиславского в области работы актера над ролью.
Как в молодости он утверждал принцип театрального историзма, расширения сценической реальности в комедии и в трагедии, так сейчас он хочет утвердить законы искусства переживания и своей системы работы актера над ролью в разных жанрах.
Блистательно воплотил их в комедии. Хочет воплотить их в трагедии. Хочет противопоставить войне, крови, страху, усталости торжественный мир «маленьких трагедий» Пушкина. В решении их объединяются Станиславский, Немирович-Данченко и Бенуа – художник и режиссер. Но сценическая трилогия не составляет единства, вернее, оно возникает только в живописи Бенуа. В великолепной самостоятельной живописи, которая вовсе не соответствует стилистике самих трагедий. Бенуа дробит Пушкина, возвращает его быту, реальному Лондону, опустошенному чумой, реальной старой Вене, по узким улицам которой по первому снежку идут редкие прохожие, и один из них входит в трактир, где музицирует Моцарт.
Станиславский – Сальери входил в трактир в длинном теплом кафтане, с меховой муфтой в руках, окутанный шарфом. Входил действительно со свежего зимнего воздуха, с мороза, ощущая смену холода – теплом камина. Актер добивался полной правды малейшего действия, жеста своего героя. Правды каждой его интонации. Как всегда, он «должен знать, как и где прошло детство Сальери, какие у него были родители, братья, сестры, друзья; артист должен видеть внутренним взором и тот храм, где впервые маленький Сальери услышал музыку и лил слезы умиления и восторга; актер должен помнить, на какой лавке, при каком освещении луча солнца или пасмурного дня совершилось это первое приобщение к искусству».
Актер и режиссер Станиславский категоричен в утверждении: исполнитель должен отыскать чувства Сальери в собственной душе и «запас предшествующей жизни» извлечь из собственной жизни. А затем это отождествление себя с ролью, составляющее первый круг работы, должно перейти в следующий круг, – исполнитель должен почувствовать авторский образ, его стилистику, должен ощутить необходимость выражения собственных чувств словами, данными Пушкиным. Для этого «артист должен пройти тот же творческий путь, что и автор, иначе он не найдет и не передаст в словах роли своих собственных чувств, оживляющих мертвые буквы текста роли. Он не найдет верных интонаций, ударений, жестов, движений, действий».
Исполнитель роли Сальери одержимо ищет эти верные интонации и жесты. Гениально чувствует психологическое состояние своего героя: «Пока идет операция – страшное напряжение. А потом, когда все кончилось, упадок и слезы…» Расширяет свой замысел – от «Сальери-злодея, завистника» идет к безграничному честолюбию («хочу быть первым»), а затем – к глубинам пушкинского образа: «Самое характерное для Пушкина – вызов богу. Бороться с богом… Любовь к искусству – спасение искусства». Но на пути к этим глубинам актер бесконечно останавливается на частностях. Бесконечно проверяет каждую интонацию, каждое ударение, каждое действие – без этой маленькой правды не может достигнуть великой правды роли. В работе ему всегда необходим «режиссер-зеркало», помощник тактичный и решительный. Нет сейчас такого помощника. Немирович-Данченко ставит другую пьесу – «Каменного гостя», работает с Качаловым – Дон Гуаном. Бенуа, руководитель всего спектакля, хочет выразить во всех трех пьесах единую тему смерти, перед которой бессилен и слаб человек. Замысел режиссера неизмеримо однозначнее пушкинских трагедий; замысел режиссера абстрактно-литературен, он не сочетается ни с темами пушкинских трагедий, ни с театральной реальностью, ни с индивидуальностями актеров Художественного театра, воспитанных на благоговении перед жизнью и бесконечными возможностями ее воплощения.
Бенуа предлагает Станиславскому внешний рисунок спектакля – точный исторически, детализированный, утонченный в своем внимании к линиям и краскам. Но Бенуа – не помощник Станиславскому в его главной, внутренней работе, в процессе создания роли.
Станиславский обращается к Шаляпину, тот читает ему роль Сальери, убеждает его своей трактовкой, но она не становится трактовкой Станиславского. Занавес открывает кабинет музыканта, груды нот и рукописей, стол, за которым сидит Сальери в утреннем шлафроке. Глядя в публику, он начинает монолог:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше…
Он переживает, оправдывает каждое слово, замедляет и снижает пушкинский ритм, перемежая слова большими паузами. Зал вежливо слушает, потом перестает слушать. Сосредоточенность сменяется рассеянностью, в тишину входят шорохи, кашель, шепот, не захватывает зрителей и следующая картина. Сальери греет озябшие руки в муфте, неторопливо снимает треуголку и шарф, осторожно, медленно, под столом сыплет яд в стильный бокал восемнадцатого века, изготовленный по рисунку Бенуа. Тяжел последний монолог, падает последний вопрос: «…и не был убийцею создатель Ватикана?» – и закрывается великолепный занавес Бенуа, предоставляя зрителям недоумевать, критикам-петербуржцам открыто злорадствовать, критикам-москвичам защищать значительность замысла, признавая все недостатки исполнения.
Сам Станиславский за двенадцать лет, прошедших со времени выхода на сцену в образе «противного Брута», не ощущает такой тягостности исполнения роли. Но в роли Брута его окружала изумительная римская толпа, – здесь он был почти один на сцене, один на один со зрительным залом, в котором неотвратимо нарастал шорох и шепот равнодушия.
Играть было так трудно, что Станиславский решает лечиться гипнозом; во сне, в бессонницу, на других репетициях он навязчиво твердил текст роли, и чем больше старался его запомнить, тем больше в нем путался. Пил лекарства, даже («о ужас!» – восклицает в письме к Бенуа) пил вино перед выходом на сцену. А когда открывался занавес, чувствовал себя «ридикульным» – это производное от французского слова «смешной» он придумал сам, не умея определить иным словом свое ужасное состояние на сцене.
«Ридикульный», ощущающий враждебность зала, он все-таки играет и играет, как бы продолжая репетиции, проверяя на зрителях свои находки и свои сомнения. Меняет грим, пробует разные «зерна» и разные «приспособления», открывает в пушкинском образе возможности разных толкований: то играет «доброго борца за искусство и бессознательно завидующего», то «ревнивца с демонизмом, вызывающего бога».
И как в молодости, во времена подробных записей своего самочувствия в пушкинской роли Дон Гуана, – сегодня он так же подробен в описании нежданно обретаемого равновесия. Методичное соблюдение собственной «системы» не помогает, а помогают случайности. Актеру захотелось несколько изменить костюм: надеть вместо белых черные панталоны и черные же чулки:
«Одел их и почувствовал себя освобожденным. Явилась уверенность, жест. Совершенно спутавшись во внутреннем рисунке, я с отчаяния решил пустить, что называется, по-актерски – в полный тон, благо развязались и голос и жесты. И пустил!!! Было очень легко, но я чувствовал, что только с отчаяния можно дойти до такого срама. Слушали как ничего и никогда не слушали. Даже пытались аплодировать после первого акта. В антракте забежал Москвин, говорил, что именно так и нужно играть. Ничего не понимаю!..
Второй акт играл так же. На этот раз шипения не было, а был какой-то общий шорох по окончании и попытки аплодировать. Так можно играть раз 10 на дню. Москвин и другие – одобряют. (Ради ободрения?!!!) Теперь мне остается одно: это самое оправдывать настоящим жизненным чувством».
«Оправдание» ищется на каждом спектакле. Снова пробуется грим, снова проверяются интонации, бытовые маленькие правды укрупняются, сливаются в единую правду образа. Происходит то же, что с ролью Брута. Отзвучал хор рецензий ругательных и иронических, премьерная публика утвердилась в сознании неуспеха Станиславского. Но уже через месяц после премьеры, во время петербургских гастролей, Гуревич пишет не только о «прекрасном замысле», но о том, как живет актер на сцене мыслями и чувствами Сальери, как скупы его жесты, как значительна речь. Пишут зрители актеру о том, что исполнение потрясло их; среди них – будущий режиссер Художественного театра Сахновский. Одна из зрительниц, дочь известного московского издателя Мария Кнебель запомнит, каким был Сальери – Станиславский, и напишет об этом в своей книге через полвека:
«Для меня Станиславский – Сальери остался одним из самых сильных театральных впечатлений юности…
С детских лет я знала, что Пушкин в этом характере гениально вскрыл психологию зависти. Подчинившись этому литературному штампу, я и в спектакле ожидала увидеть „завистника“.
Что же разрушило прежнее, примитивное представление? Прежде всего то, что Сальери – Станиславский был крупной личностью. Он был талантлив. Я увидела в нем человека, любящего искусство, живущего только искусством. Помню его большую фигуру в синем кафтане и белых чулках, крупную голову с темными волосами, асимметричное лицо и необыкновенные глаза, напряженно думающие.
…Станиславский заронил в мою душу мысль о том, что мукой Сальери (лицо Станиславского от этой муки на глазах зрителя становилось серым) было не чувство зависти, а чувство страха перед непонятным, непознаваемым».
Тяжело играет он Сальери, легко, увлеченно, искристо играет Аргана, Рипафратту, Любина, Фамусова. Несет огромное дело актера и огромное дело режиссера, который остается руководителем театра (как бы ни отказывался официально от этой должности) в дни войны. Сборы полные, зрители набивают зал во время всех спектаклей. А в театре «одни разговоры: о мобилизации. Сейчас опять огромный набор… В октябре забирают белобилетников до 1910, а в ноябре – остальных белобилетников, т. е. всю студию, которую, вероятно, придется закрыть… Игорек вернулся и уже принялся за работу. Вид у него – неважный. По-моему, он мало поправился и провел лето нескладно. Покашливает, особенно по утрам».
Игорь Алексеев принадлежит к числу «белобилетников» – дает себя знать наследственное предрасположение к туберкулезу. Высокий, очень похожий на отца, безукоризненно воспитанный, он появляется на репетициях в Художественном театре, играет Сахар в «Синей птице», осторожно ломает белые картонные пальцы, протягивая их с улыбкой детям. Студия, конечно, не закрывается – студийцы показывают прекрасный новый спектакль «Потоп», вечер инсценированных чеховских рассказов. Но одна потеря студии невозместима: в конце 1916 года умирает Сулержицкий. Умирает всего сорока четырех лет от роду, от нефрита – болезни почек, которой мучился всю жизнь, перемогаясь, побеждая болезнь смехом, шутками, работой над спектаклями, в афишах которых не ставил своего имени, работой над «капустниками». На Новодевичьем кладбище растет ряд серых каменных плит; на них выбиты имена актеров-основателей Художественного театра – Савицкой, Артема, теперь – Сулержицкого.
Через сорок дней после смерти, в январе 1917 года, в студии состоялся вечер памяти Сулержицкого, где читали отрывки из его книг и рукописей, воспоминания о нем. Станиславский вышел с рукописью, которую назвал «Воспоминания о друге». Не мог начать чтение, заплакал, ушел за кулисы. Спазмы сжимали горло, пока читал о том, как необходим был Сулержицкий театру, что дал он театру, как создал студию:








