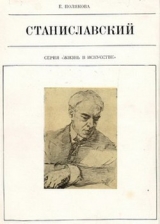
Текст книги "Станиславский"
Автор книги: Елена Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
Повесть Катаева «Растратчики», по которой написана пьеса, – искусно рассказанный бытовой анекдот о мелких служащих, ограбивших кассу своего учреждения и сбежавших из московских коммунальных квартир в провинцию, в захолустье, где бестолково тратят ворованное. Станиславский, не знающий, что такое дверь со множеством звонков и кухонные скандалы из-за примуса, не знающий и современной провинции, гениально показывает, подсказывает актерам образы пожилого бухгалтера и бухгалтеровой жены, «совслужащих», торговок, нэпманов. Он видит в инсценировке возможность создания спектакля гоголевских масштабов, но сюжет анекдота не выдерживает такой «сверхзадачи». – спектакль получается громоздким, перегруженным деталями, недолговечным не по обстоятельствам – по сути своей. Но сами уроки репетиций Станиславского будут великой школой для молодых исполнителей, – об этом прекрасно расскажет впоследствии в книге «Станиславский на репетиции» молодой «коршевец» Топорков, пришедший в Московский Художественный театр в 1927 году.
Пьеса Леонида Леонова «Унтиловск» также увлекла Станиславского. Ему интересны «унтиловские человеки», обитатели затерянного в снегах городишка, с их сонным бытом, с их витиеватыми беседами, с их страхом перед неотвратимыми переменами в жизни. Станиславский пристально искал «леоновское» в характерах, в самой стилистике пьесы; Леонов постигал «мхатовское» на репетициях, в живом общении с актерами.
Работа над спектаклем шла долго; давно начатая, она была прервана выпуском «Бронепоезда», после которого было трудно возвращаться к «унтиловцам». Тогда Станиславский неожиданно попросил устроить еще раз… чтение пьесы. По описанию режиссера спектакля В. Г. Сахновского, это необычное чтение проходило так:
«В нижнем фойе Художественного театра вечером в свободный от спектакля день была установлена длинная эстрада, на ней стоял стол, покрытый темным сукном, на креслах за этим столом сидели исполнители, а с краю стоял стол режиссера. Перед каждым исполнителем и режиссером стояла низкая с зеленым абажуром лампа.
На этот вечер К. С. Станиславский пригласил членов правительства, писателей – драматургов и недраматургов, членов редакций журналов и газет, критиков и ведущую часть труппы МХАТ.
Перед началом чтения пьесы К. С. Станиславский произнес короткую речь о том, что Художественный театр, с огромным вниманием относясь к советским драматургам, в поисках глубокой пьесы наконец нашел того писателя и произведение, которое горячо волнует весь Художественный театр, что это произведение – „Унтиловск“ – представляется ему и театру подлинной литературой, но что перед всеми нами и перед ним в частности стоит вопрос, в какой степени подлинно отражает это произведение то глубокое и нужное советской культуре, что интересно и должно показывать на сцене советского театра.
Затем началось чтение пьесы по ролям. Некоторые замечания, ремарки, поясняющие ход действия, и то, как мы сценически предполагаем ставить пьесу, сделал я. По окончании чтения поднялись горячие прения, в которых участвовали буквально все, бывшие на этом вечере…
Эта дискуссия дала нам очень много в работе над пьесой, когда мы перешли с драматургом к нашей дальнейшей будничной работе».
Рассказ Сахновского достоверно-интересен не только реальностью работы Станиславского над пьесой Леонова, но и направленностью этой работы, которая так изменилась сравнительно с прошлыми годами.
В факте обсуждения, на которое приглашен такой широкий круг людей, проявляется изменение самой жизни, соотношения театра и общества. Изменилось понятие театральной среды, изменилось сознание своей ответственности и своих целей. Огромна задача советского театра – воплощение темы революции, строительства социализма. Станиславский активно заинтересован в решении этой задачи, и его заинтересованность сочетается с встречным интересом, доброжелательностью и помощью.
Станиславский радуется такому широкому обсуждению пьес, какое было невозможно в старом театре. Участники этих обсуждений отлично знают жизненный материал, отображенный в современных пьесах. А именно эти знания нужны Станиславскому; вне реальности, ее масштабности, ее диалектики, вне ощущения исторического потока и необратимости исторического потока его творчество существовать не может. Поэтому так увлеченно прислушивается Станиславский к тому, что сказал на обсуждении или после спектакля член ЦИК или рабочий бывшей алексеевской фабрики, которому дан бесплатный билет на «место ударника».
Погоня за количеством спектаклей всегда отталкивала Станиславского, сейчас она кажется ему недопустимой: новая драматургия лишь начинается, новые формы театра лишь ищутся, и органичность этого процесса нельзя нарушать. Непременно должен быть широким круг молодых писателей, но отбор их пьес должен быть самым взыскательным. Станиславский хочет ставить только те произведения, которые глубоко воплощают современность, и работать над ними столько времени, сколько нужно для перевода литературного произведения в сценическое.
Приближающееся тридцатилетие своего дела – Художественного театра – Станиславский встречает как великий советский режиссер, для которого рубеж революции оказался рубежом нового, прекрасного расцвета искусства. Встречает тридцатилетие театра как великий его актер, совершенно выразивший принципы русской реалистической школы переживания и углубивший их. Продолжающий работу в оперном театре. Продолжающий работу над давно задуманной книгой, в которой он хочет изложить основы своей «системы», создать руководство для работы актера над образом (сначала – в процессе переживания; затем – в процессе воплощения), хочет помочь каждому актеру в каждой его работе, – не только тем, с кем он занимается сам в театре и дома, в Леонтьевском переулке. Но в 1928 году он последний раз выходит на сцену.
VIII
Он очень давно не играл новых ролей – вернее, он бессчетно играл их на репетициях, показывая другим, как видит он их образы. Но на сцене Художественного театра играл любимые старые, отобранные во времени, словно не подвластные времени роли. Астрова, Гаева, Рипафратту. Благоговейно готовился к возобновлению «Дяди Вани» в 1926 году, и выход его в роли Астрова – радость не театра-музея, но живого театра. Будущий историк театра и критик А. П. Мацкин видел его в 1927 году в этой роли, видел на сцене впервые:
«Шестидесятичетырехлетний Станиславский, возможно, и казался старше, чем ему полагалось быть по пьесе; его движения не утратили легкости, голос – гибкости и богатства тонов, но в его глазах была усталость от прожитых лет, которую он не пытался скрыть гримом. Очень немолодой, он не притворялся молодым. Он вообще не притворялся и вел роль с такой непринужденностью, как будто вот сейчас, в процессе услышанного нами диалога отыскивал нужные ему слова. Техника и привычка не стесняли Станиславского, в его искусстве была неиссякающая стихия импровизации, и невозможно было поверить, что в первый раз он сыграл Астрова еще в прошлом веке. Это впечатление непреходящей новизны старого искусства, не потерявшего себя в новую эпоху и ничуть не потускневшего на фоне изощреннейшей фантастики и блистательной клоунады только что поставленного мейерхольдовского „Ревизора“, заставляло нас несколько призадуматься.
Почему мы с таким волнением следили за игрой Станиславского? Может быть, потому, что театр начала и середины двадцатых годов, предлагая свои выводы, не часто утруждал себя их доказательством; истина здесь демонстрировалась как заранее обусловленный итог, в то время как Станиславский ее добывал от акта к акту, на наших глазах, при нашем участии… Это был триумф старого реализма девятнадцатого века, его искусства эпичности и анализа толстовского направления, реализма, которому туго приходилось тогда в театре».
Этому он хочет научить молодых: играть каждый спектакль – словно впервые, произносить в пятисотом спектакле слова роли так, будто они рождаются сейчас. Добиться абсолютного слияния со зрительным залом, абсолютного внимания зрителей к герою. Создать формы спектакля и каждой роли классически точные, безошибочные. Все это было в его спектаклях и ролях. Было в любимой роли чеховского Вершинина, в которой выступил Станиславский в торжественном спектакле-концерте, показанном театром в дни своего тридцатилетия.
Дата двадцатилетия театра пришлась на конец октября 1918 года, совпала со временем, когда она осталась незаметной для всех, в том числе – для самих основателей театра.
Четверть века труппа МХАТ встретила в Париже. Накануне юбилейного дня – чтобы не опоздала – Станиславский послал телеграмму в Москву Немировичу-Данченко: «После 25-летнего духовного родства сегодня, как никогда, вспоминаем Вас и всех близких нашей душе людей. Тяжело встречать этот день врозь. Все в один голос кричим: в Москву, в Москву! Шлем Вам, всем дорогим товарищам-юбилярам и всему театру горячую благодарность за прошлое, настоящее и твердо верим в возрождение русского искусства в будущем». В ноябре шлет в Москву благодарность за то, что Совнарком ему «пожаловал звание Народного Артиста», и благодарность Малому театру за звание почетного члена.
Тридцатилетие театра проходит в Москве. 27 октября 1928 года открывается занавес Художественного театра: на сцене – юбиляры, в центре – основатели театра. Луначарский вспоминал, как еще в юности смотрел «Царя Федора»: «Целую ночь после этого передо мною плыли иконописные лики, великолепные парчовые пелены, глаза и губы, полные страсти, печали и гнева». Луначарский произносит торжественную речь о пути театра. Читаются приветствия. Станиславский говорит, уподобляя себя и Немировича-Данченко мужу и жене: «Он – скромная супруга, а я – не сидящий дома муж». В ответной речи Владимир Иванович будет доказывать, что роль «скромной супруги» подходит, скорее, Станиславскому. Впрочем, шутливые крики – «Горько», обращения к «дражайшей половине» остаются фоном главных тем выступлений «супругов». Станиславский обращается к правительству с благодарностью за помощь и заботу, за то, что Художественный театр «нормально, органически эволюционировал» после революции. Он говорит о громадных целях искусства будущего: «Искусство создает жизнь человеческой души. Жизнь современного человека, его идеи мы призваны передавать на сцене. Театр не должен подделываться под своего зрителя, нет, он должен вести своего зрителя ввысь, по ступеням большой лестницы. Искусства должно раскрывать глаза на идеалы, самим народом созданные». Снова вспоминает щепкинские традиции и напоминает, что театр коллективен, что он жив в союзе с драматургией, что театр может жить только в единении с литературой.
Двадцать девятого в Художественном театре идет торжественный спектакль – отдельные сцены из «Царя Федора», «Братьев Карамазовых», «Бронепоезда 14–69», из «Трех сестер». Станиславский входит в гриме Вершинина в гостиную Прозоровых. Внимательно вглядывается в сестер близорукими глазами. Вспоминает Москву, рассматривает рамочку, которую выпилил Андрей Прозоров. Произносит: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной». К концу акта началась боль в сердце, усилилась, стала непрерывной. Он доиграл сцену – сел за именинный стол Прозоровых, попросил разрешения прийти к ужину. Когда закрылся занавес, из зала вызвали профессора Егора Егоровича Фромгольда. На диване лежал человек в мундире подполковника артиллерии, с белым лицом, на котором выступил пот.
Занавес с чайкой открыл синее небо, колокольню, партизан, сгрудившихся на крыше. Константин Сергеевич медленно вышел из своей уборной, медленно спустился по лестнице.
Старый извозчик привычно ждал у подъезда, рядом с автомобилями. Пролетка свернула из Проезда Художественного театра на Тверскую, с Тверской – в Леонтьевский переулок. Станиславский долго поднимался по деревянной лестнице. Врачи констатировали не только грудную жабу, но инфаркт сердечной мышцы. Сердце билось слабо и неровно, част и слаб был пульс. Врачи дежурили у постели несколько дней; началось улучшение, отпустили боли. Через неделю приступ повторился. В газетах печатались бюллетени о его здоровье, всякие посещения были запрещены, тишина в доме нарушалась лишь распоряжениями врачей, шорохом шагов медсестер.
Три месяца Станиславский лежал в постели, не вставая, благоговейно принимая лекарства, отсчитывая капли, относясь с опаской к незнакомым препаратам, расспрашивая врачей о назначаемых процедурах и вообще о болезнях, следя за выражением их лиц, так как думал, что на этих лицах он все читает. Повторялось то, что описал Сулержицкий в 1910 году, в письме к Горькому. Тогда Станиславскому было сорок семь лет, сейчас – на восемнадцать лет больше. Болезнь не проходит, но входит в него, не дает забыть о себе, подчиняет течение дня; ему нельзя волноваться, нельзя принимать людей. Ритм жизни определяется уже не театром – болезнью, страхом боли, удушья; нужна тишина, нужна легкая диета, нужно заботиться о желудке так, как заботилась маманя, нужно пить лекарства, исполнять предписания профессоров, собирающихся время от времени на консилиумы, и ежедневных врачей, внимательных к больному.
И все же тяжкая болезнь, наследственная мнительность, заботы Марии Петровны, прислуги, тишина, покой, прием лекарств не подчиняют и не порабощают. Ритм болезни перебивается могучим ритмом жизни театра, сезона, премьер. Первого марта 1929 года, во время премьеры «Бориса Годунова», в Оперный театр на Дмитровку приходит письмо:
«Милые студийцы! Все, все, все.
Потихоньку от докторов пишу вам эту записку.
Не выдавайте меня.
Знайте: вам только кажется, что я не с вами, а я незримо, душою – присутствую и мысленно переживаю и представляю все, что делается у вас».
Письмо наставляет, советует, предостерегает: «…помните, что успех спектакля создается не премьерами, а рядом повторений и временем». Бесчисленны приветы и пожелания всем мастерам; Сергею Ивановичу, Юрию Алексеевичу, Маргарите Георгиевне – десятки имен-отчеств перечисляются в письме: «Каждого поодиночке – приветствую и, кого можно, – крепко обнимаю. К. Станиславский».
Через две недели Любовь Яковлевна Гуревич получает письмо:
«Дорогая и горячо любимая Любовь Яковлевна!
Это первое письмо за время болезни, которое, к слову сказать, я пищу потихоньку от докторов (если не считать записки, которую я написал студийцам в день премьеры „Бориса Годунова“).
Пишу лежа и потому плохо – простите.
Я очень соскучился о Вас. Не знаю, когда мы с Вами увидимся. Вы сильно заняты и прихварываете, я же еще не настолько окреп, чтобы можно было говорить о волнительных делах и вопросах, без которых не может обойтись наше свидание.
Вот почему я пишу».
Он снова благодарит за помощь в работе над книгой о жизни в искусстве – книга только что вышла вторым изданием в издательстве «Academia», и автор сообщает, что он заказал специальный переплет для экземпляра, который пошлет «крестной литературной матери»:
«В этом издании я не повинен. Это всецело дело Ваших рук. Тем больше у меня потребность благодарить Вас без конца. Не знаю, как и чем отплатить Вам за все, что Вы делаете для меня».
Посылает «крестной матери» листы будущей книги, которую он пишет в полной тишине белой спальни, пишет, положив на колени кусок картона, всегда держа тетради на столике, рядом с лекарствами, или в небольшом чемодане, стоящем возле постели. Работа ежедневна, размеренна, сосредоточенна. Работа мучительна – рукопись переписывается бесконечно, варианты начала, варианты глав сменяют друг друга десятками – и нет сознания, что форма найдена точная, окончательная:
«Больше всего меня смущает то, что я не знаю, кому я пишу? Специалистам или большой публике?
Конечно, мне бы хотелось быть понятым последней, т. е. большой публикой. Я для этого стараюсь быть общедоступным. Но не могу понять, удастся мне это или нет.
Другая беда в том, что мне кажется, что книга выходит скучной, после первой книги. Причина понятна. Там воспоминания, здесь – грамматика. Но разве этим интересуется читатель? Для него и грамматика должна быть забавной, иначе он не будет ее читать. Может, сама форма дневника скучна. Факт в том, что, стоит мне перечитывать написанное, и я сплю и злюсь на себя.
Обнимаю Вас дружески и нежно. Очень хочу свидеться…
Чувствую себя пока не очень бодро. Замучили перебои. Никак не могу поправиться, чтобы уехать на тепло».
Тепло уже приходит в Москву, зеленеют молодые листья на деревьях. Константин Сергеевич спускается по широкой, скрипучей деревянной лестнице. На площадках стоят стулья для отдыха. Во дворе-садике приготовлены скамейка, стол, полотняный зонт, дающий прохладную тень. Станиславский покусывает кисть руки, как всегда в минуты сосредоточенности; на садовом столе – листы рукописи будущей книги, грамматики драматического искусства, необходимой каждому актеру, как необходим букварь ребенку.
Но скоро большой зонтик складывается – из-за отъезда Константина Сергеевича. С бесконечными предосторожностями Мария Петровна увозит его в Баденвейлер – к горному воздуху, водам, размеренной курортной жизни.
С него снято бремя материальных забот, с него снято бремя забот о повседневности Художественного театра. В канун нового, 1929 года он получает письмо:
«Милый, дорогой Константин Сергеевич!
Рипсимэ Карповна передала мне, что Вас очень беспокоит матерьяльный вопрос на случай, если Ваша болезнь продлится. И что вообще Вы с тревогой думаете о будущем.
Хотя это слишком неожиданно – после категорического заявления мне врачей, что Вам только нужен серьезный длительный отдых – и Вы – самое позднее – к будущему сезону вернетесь с прежней работоспособностью, – но я понимаю Ваше состояние, понимаю, что, непрерывно находясь в постели, невольно начинаешь мрачно смотреть в даль.
И вот что я хочу Вам сказать.
Дорогой Константин Сергеевич! Мы с Вами не даром прожили наибольшую и лучшую часть наших жизней вместе. То, что я Вам скажу, сказали бы Вы мне, если бы были на моем месте. Всей моей жизнью я отвечаю Вам за Ваше полное спокойствие в матерьяльном вопросе. Никакой Наркомпрос, никакая фининспекция не помешает, – да и не захочет помешать, да и не позволят им помешать, – чтобы Художественный театр до конца выполнил свой долг перед своим создателем. Во всем Театре не найдется ни одного человека – даже среди тех, кто относился к Вам враждебно, когда Вы были вполне здоровы, – который поднял бы вопрос хотя бы даже о сокращении Вашего содержания и хотя бы Вы стали совершенным инвалидом. Пока Художественный театр существует! Повторяю, отвечаю Вам за это всей моей жизнью.
Так же спокойны должны Вы быть за Вашу семью.
Милый Константин Сергеевич! В нашем возрасте, в наших взаимоотношениях не подобают сентиментальности, и из многочисленных случаев Вы знаете, что я человек достаточно мужественный. По Вам вредны – пока что – волнения, а потому письменно закрепляю свои слова крепким пожатием руки и крепким братским поцелуем.
Отдыхайте совершенно спокойный! Верьте, что люди – лучше, чем они сами о себе думают! Отдыхайте спокойный и возвращайтесь, совсем поправившийся!
Ваш Вл. Немирович-Данченко.
Пусть Новый год будет для Вас радостней!»
В недорогих пансионах Баденвейлера, потом Ниццы течет размеренная жизнь. Константина Сергеевича окружают родные – Кира с Килялей, Игорь, молодой врач Шелагуров, сопровождающий его из Москвы. Летом 1929 года Мария Петровна пишет из Баденвейлера об однообразии жизни, лечебных процедур, которые не приносят улучшения: при малейшем усилии у Константина Сергеевича начинаются сердечные перебои, он обостренно чувствует (даже предчувствует, как многие «сердечники») перемену погоды. К началу сезона они не смогут вернуться в Москву, но работа продолжается: Станиславский пишет партитуру «Отелло».
Мария Петровна сетует осенью 1929 года: «Константин Сергеевич с тех пор, как получил извещение, что съехалась Оперная студия, потерял свое летнее покойное самочувствие и как боевой конь куда-то рвется и стремится; пробует увеличить прогулки, думая этим укрепить себя и подтянуть, но все эти попытки кончаются ухудшением… Его нетерпение объясняется еще тем, что он здесь, как и в Москве, никуда не ходит, нигде не бывает, целый день сидит на балконе или под каштанами на дворе, а двумястами шагов, которые он может делать зараз, обходит наш скромный пансион». Пансион действительно скромен: Мария Петровна готовит на газовой плитке, а Константин Сергеевич проводит время на плоской крыше дома в кресле или в саду. Редко бывает у моря, не ходит в концерты – толпа его утомляет.
В Москву, в театр, идут письма, партитуры спектаклей; домой, в Леонтьевский переулок, бесчисленные хозяйственные распоряжения Марии Петровны: там ведет дела секретарша Рипсимэ Карповна Таманцова, которой безусловно доверяют Алексеевы. Для нее Константин Сергеевич и Мария Петровна – словно боги, а все, кто не разделяет ее преклонения перед богами, не спешит осуществить малейших их желаний, еретики, отступники, предатели, которых следует сжигать на костре; Рипсимэ Карповна, которую все зовут Рипси, из породы беззаветно преданных. Маленькая, нервная, лицо изрезано морщинками. Она вездесуща, она сама выполняет малейшие желания Константина Сергеевича и Марии Петровны (благо желания эти скромны и разумны), она потрясает маленькими крепкими кулаками по адресу отступников, выкрикивает им проклятия, пишет за границу подробные письма, воспроизводящие театральные дела и интерпретирующие их с ее точки зрения.
Рипси распределяет «жалованье», как называют Мария Петровна и Константин Сергеевич свою зарплату, среди множества опекаемых; одним выдаются суммы постоянные, другим – единовременные пособия. Рипси поддерживает дом в Леонтьевском; там всегда чистота, там всегда натоплено, словно вот-вот войдет Константин Сергеевич. Полотняный зонтик аккуратно свернут, приготовлен для того, чтобы дать тень над садовым столом во дворе-садике. В Ницце Станиславский тоже работает под зонтом, образующим прохладную тень на крыше пансиона.
В Оперный театр имени Станиславского приходит письмо – партитура будущего спектакля «Золотой петушок». Константин Сергеевич захвачен работой над оперой Римского-Корсакова. Легкие, не перечеркнутые, радостные текут строки:
«…у меня главная забота, чтоб уйти от боярства и от хором. Поэтому мне представляется первый акт не внутри дворца, а снаружи. Под какой-то клюквой. Жарища несусветная. А люди живут попросту, по-мужицки. И царь мужицкий, и бояре мужики, комичные своей необыкновенной наивностью. Так как в хоромах душно, вот и вытащили трон под клюкву, где шмели, и сами попросту расселись на траве вокруг этого трона. Царь в рубахе, с накинутой на плечи, точно халат, мантией (мне почему-то представляются византийские костюмы с смешением мужицких. Сам еще не знаю, возможно ли это). Царь в рубахе и в короне. Трон громадный, вроде постели. Широкие ручки, на которые он ставит кружку с медом или квасом, с брагой.
Тут же вдали стоит бочка, к которой подходят бояре, пьют из ковша, утирают пот и опять ложатся на свои места. Все это заседание напоминает что-то вроде пикника. В царстве Дадона царит благодушие. Он груб, строг, как всякий самодур. И он тоже снимает корону, утирается полой и опять надевает корону, как шапку, то на затылок, то немного набок. Недалеко от клюквы – башня. По ней сверху, с колосников, по наружной лестнице сходит звездочет.
Одно время мне представлялось, что звездочет все время сидит в зрительном зале, в левой ложе бельэтажа от сцены. Там устроена вышка и лестница, идущая по порталу на сцену. Где-то на потолке в зрительном зале мне представляется громкоговоритель – радио. Артистка должна петь где-то за кулисами и слышаться через радио в потолке зрительного зала. При этом на сцене все актеры подходят к самой рампе и пялят глаза на потолок зрительного зала».
Он сочетает, собирает для сцены все – радио в потолке, чучела лошадей, проплывающих за забором, чучела людей, составляющих «дадонцев» (статисты на палках несут по десять кукол – это создает впечатление несметного войска), просвечивающие скалы, которые превращаются в персидский шатер, ухищрения живописи, машинерии, света, – и все это определяется непременной «истиной страстей», все должно помогать тому Подлинному Актеру, который является основой театра для Станиславского.
Ведь он уверенно предсказывает, что «посредственные труппы, прилично играющие приличные пьесы», скоро будут вытеснены «говорящим кино». «Театрам придется подтянуться, чтоб не быть выкинутыми за борт», – пишет он коллективу МХАТ в канун нового, 1930 года. Но, предвидя все большую конкуренцию двух видов искусства, он все же уверен в бессмертии древнейшего из них: «…кино никогда не сможет тягаться с живым творящим человеком». И если молодежь хочет создавать такой истинный театр, она должна наследовать традиции и развивать их, выдвигать из своей среды тех, кто сможет вести новые поколения по верному пути.
«Пора вам привыкать быть самостоятельными, потому что я старею. Моя болезнь – это первое предостережение, и, пока мне еще возможно помогать вам, формируйтесь, вырабатывайте из самих себя руководителей, посылайте их ко мне для направления, куйте дисциплину, потому что в вашей сплоченности и энергии – все ваше будущее», – это начало письма коллективу Опорного театра в январе 1930 года. Именно коллективу в самом большом значении этого слова – людям, объединенным единой целью, поддерживающим друг друга в пути к этой цели. Снова возникнет в этом письме образ человека, борющегося с волной и побеждающего ее:
«…знайте: в наш век каждый, желающий жить, должен быть до некоторой степени героем. Если вы герои крепкие, твердые, спаянные в своем коллективе, – спите спокойно, потому что вы жизнеспособны, поборете все препятствия и уцелеете. Если челнок разбивается о первую волну, а не пробивает ее, чтобы идти вперед, он не годен для плавания. Вы должны понимать, что если ваш коллектив недостаточно прочен и будет разбит о первую волну, надвигающуюся на вас, то печальная судьба дела заранее предопределена.
Поэтому пусть крепнет и сковывается взаимная художественная и товарищеская связь. Это настолько важно, что ради этого стоит пожертвовать и самолюбием, и капризом, и дурным характером, и кумовством, и всем другим, что клином врезается в коллективный ум, волю и чувство людей и по частям расчленяет, деморализует и убивает целое. Все дело в том, чтобы вам хорошо сорганизоваться, и в этом я буду вам помогать советами».
Это письмо отправлено из Ниццы 14 января 1930 года. Одновременно в Художественный театр посылаются бандероли с партитурой нового спектакля – «Отелло».
Новая книга, которая пишется одновременно, начинается рассказом ученика драматической школы, играющего свою любимую роль – Отелло. Ему передает автор свое самочувствие во время исполнения шекспировской роли в 1896 году, свой страх перед темнотой зрительного зала, перед глазами, которые смотрят на актера, стоящего у рампы. Ему передает свои мгновения сценической свободы и радости:
«Знаменитую фразу: „Крови, Яго, крови!“ я извергнул из себя помимо воли. Это был крик исступленного страдальца. Как это вышло – сам не знаю. Может быть, я почувствовал в этих словах оскорбленную душу доверчивого человека и искренно пожалел его…
Мне почудилось, что зрительный зал на секунду насторожился и что по толпе пробежал шорох, точно порыв ветра по верхушкам деревьев…
Не помню, как я играл конец сцены. Помню только, что рампа, черная дыра портала исчезли из моего внимания, что я освободился от всякого страха и что на сцене создалась для меня новая, неведомая мне, упоительная жизнь. Не знаю более высокого наслаждения, чем эти несколько минут, пережитых мною на подмостках».
Постоянно возвращается герой книги о работе актера к своей роли Отелло, проверяет ее минутами вдохновения, мечтает о повторении их, о том, чтобы вся жизнь мавра на сцене вызывала «шорох, точно порыв ветра по верхушкам деревьев». Это Станиславский мечтает о новом спектакле Художественного театра, в котором исполнитель роли Отелло сыграет так свободно и сильно, как играл Сальвини.
После неудачи «Моцарта и Сальери» и «Каина» он уверенно писал: «Я знаю, как играть трагедию». Мечтал о новом Сальери, в монологах которого «зазвучит торжественно, сильно, на весь мир, протест против неба всего обиженного богом человечества». Сам он не сыграет Сальери, не сыграет Петра Первого (всего два года назад, в 1928 году, он получил письмо: «По внешности не найти в России удачнее артиста, чем Вы, для роли Петра Великого, а внутреннюю сторону его, при Вашем отношении к театру, Вы найдете») и короля Лира: медленно прогуливаясь по набережной Ниццы, сидя под зонтом в зеленом уголке, похожем на Петровский парк, он знает, что сам никогда уже не выйдет на сцену.
В новом «Отелло» он хочет претворить все лучшее из режиссерского решения спектакля 1896 года, сохранить свои давние находки. Снова воплощает он атмосферу захваченного острова, где мусульмане ежечасно могут поднять восстание против завоевателей-христиан. Передает напряжение ночного заседания у дожа, который читает документы, рассматривает карты, слушает не абстрактных театральных вестников, но реальных гонцов из дальних краев. В то же время применяет в партитуре те методы создания сценического портрета, которые были найдены позднее, в Художественном театре. Как в работе над «Горем от ума», он подробно излагает биографии персонажей. Как в работе над «Месяцем в деревне», он внимателен к решению художника, ему важны «характерные фигуры с рисунков Головина», цельность стилистики будущего спектакля. Он передает самочувствие воина, который прощается со своим любимым делом, как мог бы Станиславский прощаться с театром:
«„…прости, покой, прости, мое довольство“ и т. д. – это есть прощание, оплакивание, оплакивание своей второй любимой страсти, а вовсе не сцена пафосного восторгания боевой жизнью, как ее обыкновенно играют. Я буду Вам особенно горячо аплодировать тогда, когда Вы замрете в какой-то позе, неподвижной, не замечая ничего кругом, и будете внутренним взором видеть всю ту картину, которая так бесконечно дорога подлинному артисту военного искусства. Стойте, утирайте слезы, которые крупными каплями текут по щекам, удерживайтесь, чтоб не разрыдаться, и говорите еле слышно, как говорят о самом важном и сокровенном… Это не пафос воинственного восторга, а плач предсмертного прощания…
Потом сидит наверху, как ребенок, в детской позе, на этой скале, и просит прощения, и изливает свою боль Яго, который стоит внизу подле него, а в конце сцены, когда стало уже почти темно, взошла луна и заблистали звезды, Отелло, стоя на верхней площадке камня, зовет к себе Яго, и здесь, на высоте, между небом и морем, он, оскорбленный в своих лучших чувствах человека, призывая в свидетели выходящую за горизонтом луну и звезды, совершает страшное таинство, т. е. клятву о мести».
Главное же состоит в том, что Станиславский предлагает теперь актерам в своей партитуре не подробные; заранее разработанные мизансцены режиссера-диктатора, но такие же действенные задачи, которые ставил он перед актерами в «Бронепоезде», в «Женитьбе Фигаро», в «Унтиловске». Он лаконично описывает суматоху первой сцены, самый рисунок ее, но точно определяет «физическую задачу для народа» («со всеми предосторожностями рассмотреть и понять причины шума») и «физическую задачу для Родриго, Яго и гондольера» («побольше нашуметь, напугать, чтоб обратить на себя внимание»); Дездемона должна искать платок, и это сделать своей задачей в знаменитой сцене. Указывает: «При правильном физическом действии переживание родится само собой». Он верит в актеров, в их самостоятельность, поэтому иногда неожиданно пишет: «Пауза (гастрольная). Потом… что выйдет, что бог пошлет. Пусть артист даст полную волю своему чувству».








