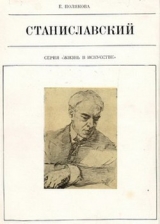
Текст книги "Станиславский"
Автор книги: Елена Полякова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц)
Эту тему происхождения, общественного положения героя критик выделяет вслед за исполнителем. Станиславского всегда восхищала способность лучших «характерных» актеров Малого театра появляться на сцене словно бы не из-за кулис, но из соседней комнаты, с улицы – приносить ощущение продолжающейся жизни, слитности сценического действия с прошедшим и будущим этого барина, свахи, разорившейся дамы, знавшей лучшие времена, или богача, выбившегося в люди из бедности. Сейчас, в двадцать шесть лет, Станиславский сам играет так, словно не из-за кулис вышел его герой, но вбежал прямо с московской улицы – мелкий делец с потасканной физиономией, в плохо сидящем костюме, со слишком ярким галстуком.
Станиславский не только безукоризненно правдиво передал ситуации пьесы, неблаговидные действия своего героя, который шантажирует знакомых, – он воплощал всю прошлую жизнь этого героя и его будущее.
Вероятно, он ясно давал понять, что сама фамилия маклера – Обновленский – принадлежит духовному званию. Ведь шестидесятые-восьмидесятые годы в России – время выхода, вылома детей духовенства из своей среды. Они уходят из семинарий в университеты, особенно увлекаются изучением естественных наук, порывают с семьями, разрушают традицию, согласно которой сын священника или дьякона учился в бурсе, в семинарии, женился на поповне, получал приход – продолжал дело отца и традиции отцовской жизни. Жизнь Чернышевского и Помяловского – классический пример разрыва со средой и перехода молодых людей из самой реакционной, косной среды в самую прогрессивную, передовую среду. Переход этот обычно сопряжен с бедностью, бытовой неустроенностью, что отражается и в реальных биографиях русских разночинцев и в биографиях литературно-сценических.
Пример тому – секретарь «практического господина» Покровцев, сыгранный Алексеевым в домашнем кружке. Пример тому – Обновленский, сыгранный Станиславским в своем Обществе. Но последняя роль – свидетельство оборотной стороны процесса, появления не только разночинцев-демократов, но разночинцев-хищников, цель которых вовсе не изменение российской жизни, но изменение собственной жизни, карьера, нажива. Этого человека восьмидесятых годов Станиславский играет с такой степенью бытовой наблюдательности и с такой широтой обобщения, которая выводит актера-любителя не только в первые ряды русского актерского искусства, но ставит его впереди лучших актеров. Потому так изумляется критик газеты «Русский курьер» типичности образа, созданного любителем в 1889 году: «Грубость и резкость всегда сопровождают людей этого происхождения. Они сказываются в манере говорить, в костюме, в яркости цветов, в обилии носимого золота или камней. Обновленские грубы во всем и везде равны своей цели: все люди и все чувства для них имеют ценность ровно постольку, поскольку они им нужны… Таков Обновленский, которого играет г-н Станиславский. Я уже сказал, что это исполнение необыкновенно типично и детально. Талантливый „артист“ дает живую фигуру, дополняет автора множеством тонких типических подробностей. Все, начиная с грима и интонации, кончая развязно-цепкими манерами, все в высшей степени умно, подмечено в жизни и так же передано на сцене. Положительно, это исполнение выдающееся».
Слово «артист» поставлено рецензентом в кавычки – всего два месяца прошло с того «страшного и торжественного дня», когда любитель, не прошедший никакой школы, вышел впервые на сцену Общества перед «артистами, художниками, профессорами, князьями, графами». Два месяца, в течение которых сыграны Сотанвиль, Скупой рыцарь, Дон Гуан, Ананий Яковлев, Обновленский. Два месяца, в течение которых молодой человек, совсем недавно снисходительно именовавшийся подающим надежды любителем, встает в первый ряд русских актеров, хотя по положению своему и по образованию продолжает оставаться любителем.
В ролях бытовых, в комедиях он покоряюще прост и ошеломляюще разнообразен; в ролях трагедийно-романтических ему сопутствует однообразная выспренняя красивость. Словно на оперную сцену выходит шиллеровский Фердинанд – красавец в белом камзоле, с подкрученными черными усами, знакомым эффектным жестом положивший руку на эфес шпаги; кажется, что играется не «мещанская трагедия» Шиллера, где так резка тема социального неравенства и естественного, изначального равенства людей (столь привлекающая Станиславского в русских пьесах), но абстрактно-романтическая трагедия, лишенная живых соприкосновений с реальностью.
Рядом с этим достаточно напыщенным Фердинандом привлекательна своей абсолютной естественностью, милой простотой облика Луиза Миллер.
Играет Луизу Мария Петровна Перевощикова, взявшая сценический псевдоним – Лилина. Псевдоним взят потому, что девушка, кончив с отличием Екатерининский институт, принята туда же на должность классной дамы. Она обязана следить за манерами и дисциплиной институток на уроках, за поведением их вне уроков; должна сама быть образцом хороших манер, безукоризненного французского произношения, скромной почтительности. Новая классная дама вполне удовлетворяет всем этим требованиям, хотя покорности и строгости ей несомненно не хватает. Одна из институток вспомнит через много лет свою классную даму – вспомнит совершенно в стиле книг Желиховской или Чарской, которыми зачитывались тогда девочки:
«В московском институте для благородных девиц ордена святой Екатерины, где я училась в 80–90-х годах, самыми для нас ненавистными существами были классные дамы, изводили мы их жестоко.
Одно время у нас не было классной дамы француженки. Вдруг на одной из перемен в класс влетает Оля Охотникова с криком: „Медамочки! Mesdames! Идет начальница с новой классной дамой! Фамилию не знаю! По-французски говорит, как парижанка! В голубом платье! Ли-ли-я!..“
Мы заволновались. Через несколько минут в класс вошла начальница и вместе с ней молоденькая, чуть постарше нас, девушка. Ее глаза, волосы, цвет лица, к которым так шло форменное голубое платье, пленили нас. Начальница отрекомендовала ее: „Мария Петровна Перевощикова“. Нашу новую классную даму мы искренне полюбили с первого взгляда.
В свободные от уроков часы мы слушали ее чтение французских стихов, готовила она с нами и декламации для институтских вечеров».
Вероятно, это «пророческое» определение «лилия» возникло в воспоминаниях, когда они писались, то есть много лет спустя. Но вероятно также, что юная классная дама с ее легкими пепельными волосами действительно так походила на цветок, что определение «лилия» и образование из него сценического псевдонима сразу пришло на ум Санину, режиссеру любительского спектакля, в котором играла Мария Петровна.
Благотворительный спектакль шел в театре на Никитской, «в пользу дешевых квартир при Московской консерватории». Ставился «Баловень» – со Станиславским в роли Фрезе. Г-жа Лилина получила роль рассудительной Тани, подруги «баловня». В хронике «Новостей дня» дебют был отмечен вполне положительно («Хорошенькая и благодарная роль Тани совершенно подошла г-же Лилиной»), а хозяин театра, расчетливый Георг Парадиз, предложил Марии Петровне вступить в труппу его театра. В труппу она не вступила, продолжала заниматься декламацией с институтками.
В прошедшие времена актрис не принимали в порядочном обществе, а порядочным девушкам был закрыт доступ на сцену. Мария Петровна – внучка московского профессора Перевощикова (создавшего в Москве астрономический пункт), дочь почтенного нотариуса, коллежского советника, кончившая институт с большой золотой медалью, конечно, принадлежала к «порядочному обществу». Классной даме института святой Екатерины не пристало появляться на подмостках.
Та же институтка – воспитанница Марии Петровны – вспоминает: «Как-то мы узнали, что Марию Петровну вызвали к начальнице для объяснения. Кто-то из родителей институток объяснил, что, участвуя в одном любительском спектакле и скрывшись в программе под псевдонимом „Лилина“, Мария Петровна, очевидно, нарушила те „правила приличия“, на которых наша начальница была помешана. Тайна Марии Петровны открылась. Она посвятила нас в свою театральную жизнь, мы молили ее не уходить на сцену, остаться с нами. Но, увы…»
Выступления в любительских спектаклях, вызвавшие столь драматические события, определили судьбу. Создавая Общество, формируя его будущую труппу, двадцатипятилетний директор приглашает двадцатилетнюю девушку в эту труппу и присылает ей роль лукавой красавицы Клодины из «Жоржа Дандена». Мария Петровна получает письмо в Петербурге и отвечает на него 26 октября 1888 года:
«Многоуважаемый Константин Сергеевич!
Благодарю Вас и все Общество за добрую память обо мне.
Очень была тронута Вашим любезным приглашением и лестными отзывами о моем мнимом таланте; конечно, я им не поверила и из Ваших преувеличенных похвал заключила одно: что Вам хочется видеть меня участвующим лицом в Вашей комедии.
Роль Клодины я прочла на французском языке: она прехорошенькая; но боюсь, чтоб вместо грациозной Клодины, как Вы говорите, я бы не изобразила бездарную любительницу. Тем не менее играть я согласна, пусть только ответственность моей игры падает на Вас, и в случае неуспеха – не обвиняйте меня…
Извиняюсь перед всеми членами Общества, что замедлила ответом, и в ожидании их решения остаюсь еще раз благодарная за их внимание М. Перевощикова».
Мария Петровна играет Клодину – дочь Сотанвиля, роль которого исполняет Константин Сергеевич, играет Луизу – невесту Фердинанда, роль которого исполняет Константин Сергеевич.
Он тщательно записывает отзывы всех знакомых о своем исполнении, но мнение Марии Петровны Перевощиковой интересует его гораздо больше, чем мнения всех других знакомых барышень. Излагая впечатления от спектакля «Каменный гость», благоговейно воспроизведя беседу с самой Гликерией Николаевной Федотовой, он тут же подробно и наивно записывает: «Перевощикова же передавала мне лично, что я был так красив с бородой и еще лучше без нее (на генеральной репетиции), что нельзя было не влюбиться, к тому же грациозен, как любая барышня. В первый раз после спектакля я был удовлетворен вполне, но – увы! – это не чистое удовлетворение, получаемое от искусства! Это удовлетворение от приятного щекотания самолюбия. Мне больше всего было приятно, что в меня влюблялись и любовались моей внешностью. Мне приятно было то, что меня вызывали, хвалили, дамы засматривались и т. д.».
Иногда Константин Сергеевич приезжает к Перевощиковым после спектакля, пьет чай, беседует о целях и возможностях искусства с Марией Петровной и ее матушкой Ольгой Тимофеевной. Все подробнее становятся в конторской книге записи, посвященные г-же Перевощиковой.
Он суров к ее исполнению в водевиле «Медведь сосватал»: «Я ждал от нее в этот вечер большего; думал, что, попробовав драматическую, трудную роль, ей будет легче и свободнее играть водевильные роли. Я ошибся, на этот раз она сыграла хуже, чем всегда, да и весь водевиль прошел как-то по-любительски, не хватало чего-то… После спектакля, под предлогом выбирания костюма, пил чай и очень долго сидел у Перевощиковых».
Запись после спектакля «Коварство и любовь» пространна даже для подробных записей Константина Сергеевича. Он рассуждает о задачах театра («руководитель и воспитатель публики», «толкователь высоких человеческих чувств», «чтобы стать на пьедестал заслуженной артистической славы, кроме чисто художественных данных надо быть идеалом человека») и обращается к молодой актрисе Общества, словно в ней осуществляется идеал человека. Подробно разбирает он «оригинальную прелесть, или, вернее, индивидуальность ее таланта». Видит индивидуальность в чуткости и художественной простоте юного дарования. Пророчит ей будущность ван Зандт, употребляя имя знаменитой певицы как символ славы и успеха, – в том случае, конечно, если г-жа Лилина будет трудолюбива и изучит свои достоинства – с тем чтобы их развить, и недостатки – с тем чтобы их исправить. Примечательно, что в этой записи он именует Марию Петровну только «г-жа Лилина»; фамилия Перевощикова принадлежит жизни, псевдоним Лилина – сцене. Сейчас не робеющий г-н Алексеев пьет чай у очаровательной г-жи Перевощиковой, но Станиславский беседует с Лилиной.
Он строго выговаривает ей: юная актриса не занимается перед зеркалом, не изучает себя (таким образом, мы понимаем его собственный метод работы) – ей нужно заниматься пластикой, нужно также изучить свою внешность, избавиться от резкости движений и походки.
Окончание длинной записи, напоминающей одновременно письмо учителя к ученице и лирическое объяснение:
«Здесь я обрываю свое марание, так как одно сомнение закралось мне в душу. Всякая работа непроизводительная становится комичной, как деяния Дон Кихота. Не будучи поклонником этого героя, я избегаю сходства с ним и, хотя, может быть, и поздно, задаю себе вопрос: с какой целью пишу я эти бесконечные строки?.. Отнюдь не навязывая своего мнения, попрошу г-жу Лилину выслушать эти строки, и, если они разумны, она не замедлит ими воспользоваться, и я увижу их плоды, которые и воодушевят меня на последующую совместную работу. Если же они ничтожны, то г-жа Лилина поможет мне разорвать эту толстую пачку бумаги, и я перестану хлопотать pour le roi de Prusse, к чему всегда питал антипатию.
Вам посвящаю я скромное свое марание, от Вас зависит его продолжение или уничтожение».
Толстую пачку бумаги рвать не пришлось, она пошла не «в пользу прусского короля», а на пользу г-же Лилиной, которая приумножила свои таланты, сделалась бесспорным украшением драматической труппы Общества. Имя ван Зандт больше не пришлось употреблять для сравнения – «нежный талант», пленивший Станиславского, окреп, не потеряв своей нежности и простоты. Мария Петровна продолжает играть в спектаклях Общества роли водевильные и комедийные под псевдонимом – Лилина. В жизни же она меняет фамилию, становится Марией Петровной Алексеевой.
Два года тому назад молодой директор Русского музыкального общества познакомился с немецкой скрипачкой Армой Зенкра. Молодой директор и молодая скрипачка встречались, смущались, краснели – она подарила ему фотографию с надписью, сделанной аккуратным почерком: «Господину Алексееву, молодому директору Общества в Москве, на память о концерте 29/11 дек. 86». Арма Зенкра уехала в Европу, директора продолжали «рвать на части» в Музыкальном обществе.
Путешествуя летом 1888 года с братьями и Дудышкиным, Кокося писал родителям среди петербургских впечатлений: «Исполняя родительские наставления, – приглядывал невесту среди смолянок, которые возвращались после представления государыне». Но петербургские институтки не нарушают душевного покоя молодого Алексеева, хотя покой этот сохраняется недолго – до встречи с Перевощиковой. Они играли вместе «Баловня» 29 февраля 1888 года. В мае 1889 года Константин Сергеевич написал старому товарищу Шлезингеру, которого многие уже почтительно величают Николаем Карловичем:
«Николашка,
спешу, как с лучшим моим другом, поделиться с тобою своей радостью, которая, кажется, будет тебе неприятна. Я, против твоего желания, женюсь на М. П. Перевощиковой и влюблен в нее до чертиков. Когда ты узнаешь ее поближе, то поймешь, оценишь и полюбишь, пока же придержи язык, так как мы еще не объявлены.
Кокося».
Одновременно пишет сестре и ее мужу (составлявшим, как мы помним, украшение Алексеевского кружка):
«Костенька и Зинавиха!
Жаль, что не могу лично сообщить вам свою радостную новость, но, уверенный в том, что вы примете ее за шутку, если не услышите от меня подтверждения, я спешу уверить вас, что я влюблен и женюсь на Перевощиковой, конечно, главным образом для того, чтобы заручиться актрисой для нашей труппы.
Ваш Кокося».
Пригласительный билет на свадьбу повторяет пригласительные билеты на свадьбы всех Алексеевых:
«Сергей Владимирович и Елизавета Васильевна Алексеевы покорнейше просят Вас пожаловать на бракосочетание сына их Константина Сергеевича с Марией Петровной Перевощиковой 5 июля в 4 часа в церкви Покрова Пресвятыя Богородицы в сельце Любимовке по Ярославской ж. д.
Экстренный поезд будет отправлен из Москвы до Тарасовской платформы в 2 часа 45 мин. и возвратится в Москву в 12 час. ночи».
Пятого июля 1889 года истово идет обряд венчания в любимовской церкви. Сияют венцы над головами жениха и невесты, умиленно и тревожно смотрят на новобрачных родители и Савва Иванович. Гремит хор лучших московских певчих. Молодых торжественно, долго фотографируют на крыльце любимовского дома – к окнам изнутри прильнули все домочадцы и прислуга, которая готовит свадебный стол. На этом столе бьют фонтанчики из духов, приглашенных потчуют супом «Субиз» и пирожками «Глинка». Гости уезжают в полночь, к экстренному поезду, молодые остаются в Любимовке, где колышутся белые занавески на веранде, развевается флаг над куполом и неторопливо течет Клязьма в низких зеленых берегах. Так кончается первый сезон Общества искусства и литературы.
II
Маршрут свадебного путешествия молодых Алексеевых вполне традиционен – Германия, Франция, Вена; отели, музеи, театры, прогулки. Константин Сергеевич привычно пользуется комфортом берлинских отелей, курортными благами Биаррица, наблюдает парижскую суету. Везде ему сопутствует тетрадь с новой большой ролью. Трудно представить роль, менее соответствующую его настроению. В исторической драме Писемского «Самоуправцы» он должен играть старика-князя Имшина, ревнующего юную жену к соседу-прапорщику. Застав молодую пару во время свидания, старик жестоко издевается над юношей, заточает жену в домашнюю темницу, а в финале умирает, благословив жену свою на новый брак.
Возможно, именно этот контраст собственного лучезарного настроения и мрачного образа угрюмого ревнивца предопределяет трудность работы. Роль, как говорят актеры, «не идет» – ни в летнем путешествии, ни после возвращения в Москву, где молодые живут в доме у Красных ворот, в уютных темноватых комнатах второго этажа, где за обеденным столом подают кулебяку с капустой (которую любит Константин Сергеевич), обсуждают московские новости и домашние происшествия родители, маманина гувернантка Елизавета Ивановна, няня Фекла, старший брат с женой Панечкой, младшие братья и сестры.
В кабинет Константина Сергеевича ведет тяжелая дубовая дверь, окованная железом, с решетчатым оконцем, словно взятая из старого замка. Она действительно взята из замка Скупого рыцаря, сделана по эскизу Соллогуба. Дверь эта так нравилась Станиславскому, что, когда «Скупой рыцарь» сошел со сцены, ее перевезли в дом у Красных ворот, где дверь стала такой же привычной, как оружие, которое увлеченно собирает хозяин кабинета, как тяжелые «готические» стулья, которые иногда перевозятся из кабинета в театр, где они составляют часть реквизита. Здесь все – из театра или собрано для театра. Стремления к коллекционерству как таковому у Станиславского совершенно нет; он не собирает ни картины, ни библиотеку, – он собирает, вернее, хранит только то, что напоминает о прошедших спектаклях и может пригодиться в спектаклях будущих, где он будет играть вместе с женой.
Впрочем, во втором сезоне Общества Марии Петровне почти не приходится выступать. В апреле 1890 года Константин Сергеевич пишет из Москвы папане и мамане, уехавшим в Ниццу:
«Большое и громадное спасибо за память о нас, за капоты, кофты Марусе и приданое Асе (остановились на этом уменьшительном имели)… Бог к нам милостив, и все идет прекрасно. Маруся терпелива и кротка и ведет себя примерно. Во все время, не сглазить бы, у нее ни разу не было жара. Девочка, слава богу, здорова и ведет себя хорошо, растет, но не хорошеет. В настоящее время Маруся уже ходит и даже обедает наверху, куда ее носят заботливые руки ее примерного супруга».
Дочь, которую назвали не Асей, а Ксенией, родилась в начале весны, в марте 1890 года. Вскоре девочка заболела пневмонией, от которой так часто умирали дети, когда не было пенициллина. Умерла она в разгар весны, первого мая 1890 года. Год этот труден для семьи молодых Алексеевых, для Станиславского – руководителя Общества. В октябре умирает Федор Львович Соллогуб, столь много сделавший для «исполнительных вечеров». Уходит из Общества Федотов, без которого «исполнительные вечера» вообще кажутся немыслимыми. Правда, они называются сейчас по-другому – «семейные вечера», потому что устраиваются для семейств членов фешенебельного и модного в Москве Охотничьего клуба. Клуб откупает для себя роскошный «дом Гинцбурга», на углу Тверской и Гнездниковского переулка, так как Общество искусства и литературы обременено долгами и вынуждено сократить свою деятельность.
Членские взносы составляют небольшую часть доходов «клуба без карт», и казначей его – то есть Станиславский – покрывает дефициты из личных средств, пока средства эти не иссякают. В 1890 году прекращаются маскарады с призами (брошь в виде палитры, серебряный кубок), праздничные вечера, благотворительные базары, где дамы продают цветы в киосках, сделанных по эскизам московских художников.
Прекращает существование школа Общества, художники продолжают свои собрания в других домах. Живет, существует, дает еженедельные спектакли – потому что этими спектаклями и оплачивается сцена Охотничьего клуба – лишь драматическая труппа Общества под руководством Станиславского. С благодарностью (это качество вообще свойственно ему в высокой степени) вспомнит он впоследствии Гликерию Николаевну Федотову, пришедшую на помощь любителям в это трудное время, осенившую своим почитаемым в Москве именем разорявшееся Общество, вспомнит композитора Павла Ивановича Бларамберга, столь ратующего за продолжение дела. Но фактическим руководителем Общества, его казначеем (то есть отвечающим за долги) остается один Станиславский. Канцелярия Общества ютится в чужом особняке, спектакли идут на чужих сценах, то в Охотничьем клубе (после пожара в 1891 году клуб переезжает в новое помещение на Воздвиженке), то в Немецком клубе на Софийке. Репетировать негде – приходится собираться в доме Алексеевых у Красных ворот. И все же идут, идут новые «исполнительные собрания» (они же «семейные вечера») то в пользу тульского исправительного приюта, то в пользу недостаточных студентов, то в пользу училища для девочек, и играет Станиславский новые роли и старые, любимые – Мегрио, Лаверже.
Письма, написанные в том же тяжком 1890 году человеком, у которого, по мнению многих родных, «не то в голове, что нужно», исполнены изумительной радости жизни. «…Стоит ли описывать, вот как я встаю по утрам, хожу купаться, еду в Москву, пекусь на фабрике, возвращаюсь в 5 часов в объятия жены, снова погружаюсь в волны Клязьмы, обедаю, торгуюсь с супругой из-за послеобеденной прогулки и, обыкновенно, настаиваю на том, чтобы, сидя на террасе, окончить вечер за чтением и выжиганием по дереву. Есть ли возможность описать словами тот чудный стильный стул, над которым я работаю теперь? Не лучше ли оставить его в покое до Вашего возвращения. По крайней мере будет что Вам показывать, будет и что рассказать. Если же в настоящем письме я заговорю о тех переменах, которые произошли хотя бы в нашем Обществе, и о том, что Пушкинский театр сдан на выгодных условиях Охотничьему клубу, что мы переехали в новое и прекрасное помещение и т. д. – то Ваше возвращение в Москву потеряет часть интереса для Вас же самих», – это отрывок из письма, адресованного матери Марии Петровны, которую, естественно, тревожило положение дочери и ее мужа.
Режиссер Малого театра П. Я. Рябов, приглашенный после ухода Федотова, ставит «Самоуправцев» – добросовестно разводит актеров («вы входите слева, вы в это время стоите справа у стола») и, в противоположность активно направляющему актера Федотову, предоставляет Станиславскому полную возможность самостоятельной работы над ролью Имшина. Актер то усиливает бытовые черты, отчетливые в самой пьесе, то акцентирует жестокость самоуправца, столь изобретательного в издевательствах над женой и ее возлюбленным. По собственным позднейшим воспоминаниям, исполнитель понял роль и вошел в нее только с открытием, которое он выразил кратко и отчетливо: «Когда играешь злого, – ищи, где он добрый».
Точная формула была найдена после того, как актер понял: кроме самодурства, привычки властвовать безгранично и деспотично князю Имшину свойственна любовь к жене, забота о ней, тревога о ее беспомощности, усталость старика, думающего о близкой смерти: «Великий боже, если в предвечном решении твоем назначено мне за грехи мои наказание на земле, то ниспошли мне какие только святой воле твоей благоугодно будет муки, но не измену жены моей! Молю о том, не толико за себя, колико за нее».
И «пошла» – как говорят актеры – роль, и стала любимой на долгие годы, и игралась раз от разу все свободнее, увлеченней. Во время работы над ролью старого ревнивца Имшина с восторженной завистью вспоминался любимый актер: «Как хорош Сальвини в последнем действии „Отелло“, когда он медленно входит в спальню Дездемоны! Мне представляется именно такой выход. Пусть после любовной сцены публика думает, что их еще не подслушали».
Тут же замечание по собственному адресу: «Старик мне удается, даже слишком…» Под «стариком» понимаются внешние признаки возраста: медленная походка, жесты, речь. Но удается исполнителю не только «старик» – удается именно образ в целом, противоречивый и цельный характер генерала жестоких времен, привыкшего к полному повиновению слуг, солдат, подчиненных, жены. Отыскивая оттенки «доброго» в «злом», актер думал, что находит лишь удачный прием, облегчающий процесс репетиций, – а оказалось, что он точно сформулировал важнейший закон реалистического театра, где роли должны претвориться в объемные сценические характеры.
Собственно, так играли Щепкин и Мартынов, играют Садовские и Ленский. Но сила Станиславского заключается в том, что он все открывает для себя заново, общеизвестное снова обретает у него первичную свежесть. Он умеет и запечатлеть свое открытие в лаконичной записи: «Когда играешь злого…» А главное – он умеет воплотить это открытие в самой роли так, что рецензент конца прошлого века, видевший в роли Имшина Самарина и Шуйского, вовсе не подозревавший о мучениях и прозрениях Станиславского, пишет:
«Исполнитель роли видит в своем герое прежде всего натуру благородную, чуткое и честное сердце, полное любви к молодой жене и потому глубоко страдающее. Измена княгини не гордыню в нем оскорбляет, а разбивает вдребезги сердце. Он – не зверь, он – жертва судьбы и своей ревности… Исполнитель нигде не отступает от такого истолкования, выдерживает план до конца и с большим искусством выдвигает вперед все те моменты, которые поддерживают его в понимании роли… Благодаря указанному пониманию роли значительно выигрывает, делается более естественной и развязка трагедии, когда умирающего героя вдруг заливает свет возвышенного всепрощения и смирения».
Истинно российский характер, истинно исторический характер воссоздавался на сцене во всей своей многогранности: старик с грубым и властным лицом, с размеренно иронической речью, в треуголке, низко надвинутой на брови, в обношенном кафтане – словно он всю жизнь был будничной одеждой Станиславского (а вспомним, как картинен был плащ его Дон Гуана или камзол Фердинанда). Критик «Московских ведомостей» писал о нем: «…оживший, вышедший из рамки превосходный портрет старика, екатерининского генерал-аншефа, может быть, соперника Орловых и Потемкина».
За этим «соперником Орловых» следует цикл портретов современников, людей восьмидесятых-девяностых годов, словно писанных кистью Крамского или Репина.
Идет последнее десятилетие века, в глухой реакции зреет новый общественный подъем, новый период освободительного движения в России. Неизбежно меняется жизнь, неизбежно эволюционирует искусство, в том числе актерское. Уже привычен в русской литературе и в оценке русской живописи термин «символизм», уже привычно слово (чаще всего бранное) «декадент». Декадентом называют поэта Брюсова, декадентом называют художника Врубеля; молодые поэты призывают не к воплощению реальности, но к бегству от нее, опыт парижских «парнасцев» для них весомее социального опыта Некрасова; молодые художники все чаще обращаются от традиций отечественных передвижников к поискам французских импрессионистов.
Ни к одному из актеров русского театра конца века не применим термин «декадент»: театр исповедует принципы Щепкина, хранит традиции и формы реально-бытовые или романтически возвышенные. И основатель Общества искусства и литературы далек от молодых символистов настолько же, насколько привержен искусству старшего поколения Малого театра; его цели и принципы входят в русло мощной реально-бытовой школы искусства девятнадцатого века.
Для него – как для Щепкина и Садовских, как для Гоголя и Островского – театр существует только как учреждение просветительское, высокоморальное; задача театра, как задача литературы и искусства вообще, – не зеркальное отражение, но художественное воплощение жизни, которое определяется гуманистическими воззрениями самого актера. К этому и призван Станиславский-актер, которого так привлекают все формы проявления жизни, ее краски, звуки, запахи, бесконечное разнообразие и единство этого разнообразия.
Постоянная наблюдательность, образность восприятия реальности дана ему изначально, является одним из коренных, определяющих свойств его индивидуальности. Она проявляется в его театральных записях и заметках, но не менее сильна она в его чисто личных письмах и дневниках: «Наступила весна… Стали приготавливаться к отъезду на дачу; везде слышен запах камфоры, табаку и меха» – запись, сделанная в шестнадцать лет. «Я с сестрами вышел к Театральному училищу. Стою. Вдруг форточка отворяется, показывается Калмыкова. Увидала меня и скрылась. Не прошло и трех минут, как во все форточки выглядывали воспитанницы. Слышен был хохот. Вдруг все спрятались, должно быть, классная дама. Опять появились… Наконец, все скрылись, и сердитая рука классной дамы захлопнула форточку. Должно быть, все стоят в углу по моей милости» – запись, сделанная в восемнадцать лет.
В начале июня 1888 года, в самый разгар дел по открытию Общества, Константину Сергеевичу приходится выехать под Самару, на хутор, к тяжело больному младшему брату Павлу.
Несколько лет тому назад в Любимовке дети прохладным, росистым утром отправились наблюдать солнечное затмение. Тут-то и недоглядела мнительная маманя – младший сын простудился, простуда осложнилась болезнью почек, вероятно, сказалось и наследственное предрасположение к туберкулезу. Мальчик начал слепнуть. Его возили к знаменитым докторам, к нему возили знаменитых докторов – те прописывали модные лекарства, рекомендовали степной воздух, кумысное лечение. На свежем степном воздухе, под Самарой, мальчик мучительно умирал. В Москве неудержимо плакала старая гувернантка Елизавета Ивановна, на хуторе неудержимо плакал отец.








