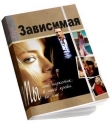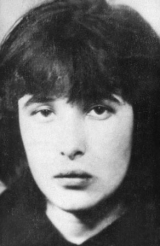
Текст книги "Собрание"
Автор книги: Елена Шварц
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 43 страниц)
И вот в такой монастырь советская власть превратила русское искусство второй половины 20-го века. А теперь, к сожалению, то есть к счастью… и к сожалению… этого пресса нет. Алхимик ушел, в общем. И расплескал всё, что было. Поэтому теперь всё совсем иначе.
Но возвращаясь к тем блаженным временам, которые переживались изнутри участниками как трагическое положение, безусловно, и мной в том числе тоже, как очень трагическое, оказались очень продуктивными.
Но теперь я хотела бы перейти непосредственно – я думаю, в последующем мы еще вернемся к общему состоянию всего этого – я пока что хотела бы остановиться именно на Леониде Аронзоне как самом замечательном поэте – не говоря уже о Бродском – именно 60-х годов.
Он на год старше Бродского, и, конечно, очень важный момент в сознании и Бродского, и Аронзона, и всех поэтов этой эпохи, огромное место занимало то, что они родились, что раннее детство протекало во время войны. Многие из них были в эвакуации, вывозились с родителями или кем-то. Некоторые, как, например, довольно известный поэт Олег Охапкин (ленинградский), он родился во время блокады, что очень редкий случай. Ну, а наше поколение, оно уже, конечно, послевоенное поколение, но мы все очень остро чувствовали всё-таки, недалеко мы родились от войны. Очень острое еще влияние этой чудовищной героической катастрофы, и особенно блокада, конечно. Это то, что касается нашего города, это те поэты, о которых я говорю, на них на всех какую-то печать поставила блокада. Вы знаете, наверное, что такое блокада. Это когда три года город был… миллион людей погиб… И это даже генетически, физически, потому что наши родители, большинства из нас, пережили блокаду. Эта катастрофа сказалась на всех на нас.
И Аронзон закончил, естественно, советскую школу и поступил в педагогический институт имени Герцена, где он познакомился с Александром Кушнером, который впоследствии стал именно официальным поэтом Ленинграда. Он успел как бы вклиниться в тот промежуток – он и Соснора – когда еще печатали. А уже чуть позже не печатали никого, мало-мальски значительного. Не хочу даже упоминать, как Аронзон отзывался о Кушнере в тот период, не буду. И еще он там познакомился со своей будущей женой, Ритой Пуришинской, которая, собственно, вдохновила его на создание его самых замечательных стихов и, собственно, вся его жизнь была посвящена именно этой любви и в основном содержание его стихов – это именно любовь к Рите Пуришинской.
Но, несмотря на эту огромную любовь, он в 70-м году покончил с собой, в какой-то деревне под Ташкентом, то есть он умер, когда ему было 30 лет, должен был 31 исполниться, правильно я посчитала? Он умер в октябре. В одном из стихотворений, кстати, за 15 лет до смерти, он предсказал, что умрет в октябре. Как и Бродский, кстати, предсказал, что умрет в январе. Но литературная его судьба была такова, что, естественно, он не печатался, печататься не мог. Он работал одно время, после окончания института, в научно-документальном кино, редактором и сценаристом. И при жизни, по-моему, он не печатался. Была публикация в “Студенческом меридиане”, но, по-моему, это уже было после его смерти, но при советской власти. Первая самиздатская книга была составлена мною в 79-м году и вышла в журнале “Часы” (тоже самиздатском, я уже говорила) и позднее, в 85-ом году, она была переиздана, то есть впервые вышла в типографском виде в Иерусалиме, и потом позднее, в 94-м году, в издательстве “Камера хранения”. Вот, могу показать, с моим предисловием коротким. В 90-м году вышла первая публикация в России типографским способом, составленная Владимиром Эрлем, и совсем недавно вышел очень хороший двухтомник в издательстве Ивана Лимбаха, практически это полное собрание сочинений, поскольку Леонид Аронзон умер рано, и хотя он писал и прозу и стихи, в общем, он написал не очень много.
Его творчество делится резко, очень резко, я бы сказала, на два этапа: первый, когда он был под огромным влиянием обэриутов, и он был первый из всех поэтов, которые жили в то время и которые именно обратились к обэриутам, то есть к своего рода абсурдистам, людям, которые очень смело и непринужденно обращались с языком – в сущности, они произвели некую революцию в поэтическом языке. И очень долгий первоначальный период именно Леонида Аронзона был в этом ключе, то есть он писал как бы подражая, скажем, в основном раннему Заболоцкому и, может быть, Введенскому в какой-то степени. Вот Валерий Шубинский (всё тот же) пишет, что он избежал – единственный из всех поэтов этой эпохи, даже считая Бродского – он избежал влияния советской поэзии. Полностью. То есть Багрицкого, Слуцкого, и всех иных. Он скорее, если он кого-то напоминает, может быть Вагинова как-то напоминает. Но, по свидетельствам его современников, он его не знал. А то, что знал, не очень его вдохновляло.
Но я буду сосредотачиваться, фокусироваться на стихах более поздних, когда вдруг его манера почему-то резко поменялась и стала гораздо более классичной. Это произошло лет за пять до его смерти. На этом периоде я хотела бы более подробно остановиться.
[Перерыв]
Ну вот Аронзон. Это один из самых светлых, радостных поэтов, когда-либо существовавших в русский культуре, несмотря на свою трагическую судьбу – поэт любви, поэт радости. Но несмотря на это, что они какие-то светлые, радостные, пронизаны каким-то светом, всё же мы постоянно видим в его стихах какое-то влечение к смерти, какое-то притяжение к ней, как вот чего-нибудь железного к магниту, постоянное, навязчивое, маниакальное. Например, он писал, вот такие строки у него есть: «Как бы рано я ни умер, все ж умру я с опозданьем». То есть даже в 31 год – это уже с опозданием. И смерть в его стихах, она появляется всюду, то есть как тень, проявленная на фотопленке, но не видимая фотографу в момент съемки, знаете, что так бывает, да? Что-то снимают, потом проявляют, и там какая-то фигура или что-то, вот так же смерть постоянно в его стихах. Если подходить к осознанию каких-то скрытых смыслов, скрытого двигателя любого поэта, я предпочитаю такой метод, отчасти свой собственный, такой механико-интуитивный, то есть, говоря в двух словах, выявляются основные мотивы такие неосознанные, часто повторяющиеся самим поэтом, может быть, и не замечаемые, которые и приводят как-то к разгадке. То есть у всякого поэта можно разгадывать, как Шерлок Холмс, предположим, разгадывал преступление какое-то, да? По каким-то уликам, по каким-то признакам, по каким-то часто повторяющимся словам. Или как Порфирий Петрович, например, Раскольникова разгадывает. И, кстати, в моей пьесе, написанной в 81-м году в жанре пьеса-статья – я не знаю, существуют такие?… у меня была маленькая пьеса-статья, которая разыгрывалась на сцене Клуба-81, это была такая первая отдушина, когда разрешили читать стихи официально, вообще – говори что хочешь! – в 81-м году в Ленинграде. И там одним из действующих лиц в этой пьесе, посвященной Аронзону именно, был Порфирий Петрович. С помощью этого механико-интуитивного метода я определила, например, что у Михаила Кузмина главный мотив, с помощью которого можно разгадать его, – это вода, в ее разнообразных проявлениях и формах. А у Аронзона это – свеча и холм. Еще бабочка. Но свеча и холм, на первый взгляд фрейдиста, скажем, это вполне прозрачные фаллические символы, но это самый первый, самый грубый и уже поэтому неправильный смысл. То есть, вообще поэзия отличается еще и тем, что она имеет семь или девять уровней понимания. Вот самый первый грубый: да, свеча и холм – это фаллические символы. Например, вот такие стихи: «Подняв над памятью свечу, лечу лечу вверху на даме, чтобы увидеть смерть лечу, какая бабочка Вы сами». Вот, свеча над памятью. А где память? Она внутри нас, верно? Значит, чтобы увидеть смерть, поэт летит внутрь, значит, и смерть его внутри. Но в то же время она и снаружи, то есть смерть понимается вообще Аронзоном как высшая чистейшая форма любовного экстаза. «Когда б вы были бабочкой ночной, я б стал свечой, летающей пред вами». То есть смертью стал бы для вас, потому что свеча для бабочки – это смерть. Но свеча, постоянно улетающая от бабочки, которая манит ее, вот образ любви у Аронзона. То есть это образ смерти, влекущей, манящей, который он хочет как бы навязать и своей возлюбленной, Рите. И, например… я вам прочту просто «Два одинаковых сонета». Кто найдет разницу, тому я дам доллар.
[Чтение]
В чем разница? Разница… [Реплика из зала]
Нет. Буквальной разницы нет. Доллар останется у меня.
Вся разница только в том, что второе стихотворение, звучащее на фоне первого, звучит иначе, чем если бы оно бы звучало отдельно. То есть Аронзон – один из очень немногих, может быть, даже, единственный в истории поэзии подошел к пониманию стихотворения, целого стихотворения, как музыкальной единицы. Такой, как строфа. То есть очень частый повтор, например, строк, – он создает сдвиг какой-то в понимании стихотворения. Он вообще наклонен к повторению, это магическое, шаманское, заклинательное, самозабвенное такое повторение, то есть воздействующее именно уже на подсознание слушающего, а не на его сознание, как шаман воздействует на своих слушателей-подопечных.
Но в то же время, если попытаться понять смысл, скажем, каждого из этих сонетов… Он одинаков. Это, видимо, с моей точки зрения, тайное желание блаженной смерти возлюбленной, опять навязчивое желание смерти. Желание рая для нее. Ведь он повторяет: «Усни, любовь моя», «Спи, золотко мое». Ведь это уже означает не усни, а умри. И почему? Действие этого стихотворения, собственно говоря, уже происходит в раю. «Отдайся мне во всех садах и падежах». Сад – это символ рая, в общем, да? А падежи, это значит, образно говоря, все языки. Как языци, которые исходили. А на всех языках говорят только в раю исключительно.
А теперь я прочту стихотворение «Утро». Мое любимое стихотворение Аронзона. И попытаюсь кратко, если не успею, то в следующий раз можно продолжить его истолкование.
[Чтение]
Вот это стихотворение 66-го года, с которого, собственно, начинается такой значительный период в творчестве Аронзона. Вот здесь мы, во-первых… что, во-первых, бросается в глаза? Действительно, это повторение, вот это шаманское заклинание, да? Но в то же время здесь гораздо сложнее этот сам ход мыслей, потому что автор все время задается вопросом, все-таки, кто на вершине холма? Дитя или ангел? И зачем он туда взошел? И что это всё такое? И всё это становится понятно, если понять, что этот холм – как бы символ прорыва, попытка…. Что такое холм? Попытка земли выброситься из себя самой, да? Какой-то вылет из жизни. В то же время это еще земля. И на вершине вот этого холма, на высоте, происходит преображение. Туда стремится человек, и, взойдя на эту вершину этого духовного холма, он становится сначала, как бы, так лукаво говорит поэт – «нас в детей обращает», то есть он становится младенцем. И потом вдруг начинает сомневаться: если это дитя, почему оно так высоко? И почему детской кровью испачкана осока кругом? И дальше сам себе отвечает: нет, не младенец, это ангел. Значит, дитя должно умереть, осока должна быть испачкана кровью. Происходит какое-то некоторое убийство на вершине холма. И после этого человек превращается в ангела. На колени мы должны упасть перед Богом, потому что там душа, заключенная в детскую плоть. И она говорит нам о том, что здесь где-то рядом находится Господь, поэтому мы должны упасть там на колени, и как бы поскольку мы опять возвращаемся к тому, что получается дитя – ангел, потом обратный ход: ангел – дитя. То есть хотя дитя убито, оно все-таки еще дитя. Это наверно непонятно, да? Ну если углубиться, он говорит: там младенец наверху; потом говорит: нет, там ангел; а потом говорит, что все-таки это неважно, младенец или ангел, но, скорее всего, это все-таки младенец. То есть человек, взойдя на вершину холма, превращается, как бы перестает быть человеком, становится ангелом. Но на самом деле он все-таки, в каком-то смысле, умерев, в реальной жизни, остается живым человеком. Поэтому он должен благодарить Бога за то, что он может собирать цветы и называть их: «Вот мальва, вот мак».
Ну вот еще например, мелкая рыба эта. «Листья дальних деревьев, как мелкая рыба в сетях, и вершину холма украшает нагое дитя» – это очень точный образ зрительный, да? Но если посмотреть с духовной точки зрения, то это те, кто не взошел на холм. Это те, кто не способен на это.
И конечно хотелось бы еще остановиться, но просто нет времени. Я думаю на следующем занятии начнем с продолжения.
Елена Шварц – семинар по поэзии 1960-70 гг.
Лекция 22 ноября 2007
Мэдисон, Висконсин
Значит, мы остановились в прошлый раз на Аронзоне. И, собственно, я только хотела добавить, что Аронзон, наверно, первый такой поэт школы, которую я бы назвала “ленинградской метафизической школой”, как есть, например, английская метафизическая школа, также есть ленинградская, она же петербургская, и к ней принадлежит, конечно, Аронзон, и ранний Бродский, и Виктор Кривулин, Александр Миронов, Сергей Стратановский и ваша покорная слуга. В совокупности стихи Аронзона представляют собой как бы мистерию в средневековом духе. То есть там герой как бы разорван между любовью и смертью, иногда он путает эти два понятия. Между раем и адом – эти два понятия он тоже путает. И вся эта мистерия развивается не в каком-то абстрактном пространстве, а в Ленинграде 60-х годов, при такой глухой советской власти, в пригородах этого города… И сама мистерия, собственно, она в некоторой степени разорвана. Это только фрагменты мистерии. Поскольку он умер все-таки очень молодым и, может быть, не успел просто дополнить всю эту картину в полноте. Но все эти фрагменты проникнуты вот таким могучим райским блаженством. Как будто бы он, живя на земле, в то же самое время живет где-то в раю, или в каком-то ином блаженном измерении.
А вот в начале 80-х, когда Аронзона уже давно не было в живых и когда в Ленинграде был открыт такой клуб, Клуб-81… Может кто-то знает из присутствующих, что это такое было? Это была первая как бы возможность выступать со сцены, в музее Достоевского. Это как бы базировалось в музее Достоевского, недалеко от Владимирской площади, там, где Владимирская церковь. И власть, по каким-то своим соображениям, в 81 году решила дать такую, ну как бы поблажку и такую возможность. Не все, кстати приняли, некоторые отказались, но большинство все-таки участвовало в этом. В том числе я тоже там выступала и однажды я сочинила такую пьесу-статью в одном действии, посвященную Аронзону, которая была разыграна на сцене этого клуба. Причем я там играла роль Тины, героини, которая отвечает на вопросы, задает какие-то вопросы. А Александр Миронов играл небольшую роль Порфирия Петровича, который как бы пытается узнать загадку, секрет Аронзона. И в этой пьесе я вывела вот такую формулу… То есть там на сцене появляется нерожденный ребенок, который произносит такую формулу Аронзона: «Любовь, если она больше любящего, устремляется к смерти со скоростью прямо пропорциональной силе страсти. И от нее, если [Запись прерывается].
[Получено в расшифровке Л. Литтл, на записи не присутствует: ] Но следующее поколение за Аронзоном, то есть это были люди лет на 8 младше Аронзона, некоторые из которых дружили с ним, вот как, например, Александр Миронов, отчасти ученик Аронзона. Или Виктор Кривулин, его приятель был просто. Они уже были представителями следующего поколения. И, безусловно, самыми яркими были вот Виктор Кривулин и Александр Миронов. Виктор Кривулин был совершенно особенный человек, человек такого, ну как arbiter elegantiarum для почти всех людей, которые входили в это сообщество. Вокруг него всё крутилось и сплачивалось. В его квартиру на Большом проспекте Петроградской стороны очень часто приходили люди, и художники, и поэты, и все на свете, в том числе работники КГБ, которые именно там могли без труда многое для себя почерпнуть и сделать соответствующие выводы. Ну вот, я процитирую лишь одно стихотворение Виктора Кривулина, но такое программное стихотворение, которое рассказывает именно об этой эпохе, как он её понимал. Но не буду читать всё, поскольку оно довольно длинное и сложное, но прочту два отрывка.
Пью вино архаизмов. О солнце, горевшем когда-то,
говорит, заплетаясь, и бредит язык.
До сих пор на губах моих – красная пена заката,
всюду – отблески зарева, языки сожигаемых книг.
Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крылато,
отлетая в объятия Логоса-брата,
от какого огонь изгоняемой жизни возник.
Гибнет каждое слово!
В рощах библиотек
опьяненье былого
тяжелит мои веки.
Кто сказал: катакомбы? (ЕА: Вот это важное слово, катакомбы)
В пивные бредем и в аптеки!
И подпольные судьбы
черны, как подземные реки,
маслянисты, как нефть. Окунуть бы
в эту жидкость тебя, человек,
опочивший в гуманнейшем веке!
Как бы ты осветился, покрывшись пернатым огнем!
(ЕА: тут пропускаю немного)
Дух культуры подпольной, как раннеапостольский свет,
брезжит в окнах, из черных клубится подвалов.
Пью вино архаизмов. Торчу на пирах запоздалых,
но еще впереди – я надеюсь, я верую – нет!
я хотел бы уверовать в пепел хотя бы, в провалы,
что останутся после – единственный след
от погасшего слова, какое во мне полыхало!
Гибнет голос – живет отголосок.
Щипцы вырывают язык,
он дымится на мокром помосте средь досок,
к сапогам, распластавшись, прилип.
Он шевелится, мертвый, он пьян
ощущением собственной крови…
Пью вино архаизмов пьянящее внове,
отдающее цветом оцепенелой любви,
воскрешением ран!
ЗАПИСЬ 1966 ГОДА
Дневник
Определение
Стихотворение просто (имеющее право так называться) – это выстроенное по правилам неземной архитектуры бормотанье с озареньем на конце.
Стихотворение живое – высшее существо, рожденное человеком и небом, дышащее, улыбающееся и смертное как всё.
От поэта не могут остаться одно, два, три стихотворения. А только он весь, его зарифмованная душа, его гениальные и его бездарные строчки. Так странно, люди пишут стихи, не постигнув от рождения чудесной науки – поэтики (правда, ее надо вспомнить).
О чудные разрывающие сердце звуки, плоть стихотворенья. Но забуду все ради неуклюже спотыкающегося озарения, которое часто приходит калекой, на деревянных костылях в рваной одежде.
И почему, едва научившись сама, я учу других? И еще не могу это спокойно рассказать, и одни восклицанья.
Люблю стихи ученые, пристальные, рассматривающие землю. Опыты. Опыты. Но это тоже бегство от поэзии. Настоящая другая – в лебединых крыльях. Но есть еще алхимия – очищение слов и мыслей. Мне хочется довести слова до такой высоты материализации, до плоти легкой ангелов, легкой и огненной, чтоб они населили небо, если оно пусто.
Я пишу все это неизвестно отчего, не во вдохновении, сидя на чердаке, выгнанная из класса за чудовищное опоздание. Сегодня двадцатое апреля, и скоро мне стукнет восемнадцать. И я хочу, чтобы меня выгнали из университета и я могла бы писать стихи и только писать стихи. О Боже, помоги мне, и я проведу свою молодость в душной комнате, у колб и реторт. И превращу камень в золото, слова – в стихи живые и ослепительные.
Публикация Кирилла Козырева
Опубл.: НЛО, № 103
ЗЕМНАЯ ПЛЕРОМА
М.А. КУЗМИН (1872–1936)
* * *
(Второе вступление к поэме «Форель разбивает лед»)
Непрошеные гости
Сошлись ко мне на чай,
Тут, хочешь иль не хочешь,
С улыбкою встречай.
Глаза у них померкли
И пальцы словно воск,
И нищенски играет
По швам убогий лоск.
Забытые названья,
Небывшие слова…
От темных разговоров
Тупеет голова…
Художник утонувший
Топочет каблучком,
За ним гусарский мальчик
С простреленным виском…
А вы и не рождались,
О, мистер Дориан, —
Зачем же так свободно
Садитесь на диван?
Ну, память – экономка,
Воображенье – boy,
Не пропущу вам даром
Проделки я такой!
1927
* * *
1 марта исполняется 64 года со дня смерти Михаила Алексеевича Кузмина. Дата не круглая, но значимая: столько же лет прожил он на земле. Это как бы тень, которую отбрасывает срок жизни. За это время поэт было почти полностью исчез для читателей, потом появился в виде слепых перепечаток, и, наконец, вновь стал любимым и знаменитым.
Родился он в 1872 году (что выяснилось совсем недавно, так как Кузмин тщательно скрывал эту дату) в Ярославле Жизнь его была разнообразной и противоречивой, как он сам. Печальное и унылое детство, переезд в Петербург, гимназия. Бурная молодость, с метаниями по разным странам и верованиям, страстным увлечением то католицизмом, то хлыстами. Потом профессиональные занятия музыкой, и только под тридцать он начал писать стихи, и как-то вдруг стал тем Кузминым, каким его принято видеть – циничным, язвительным, любострастным, пленительным и блестящим. Он писал музыку к "Балаганчику", жил у Вячеслава Иванова на башне, охотился за мальчиками в Таврическом саду, стал скандально знаменитым, выпуская книгу за книгой чудесных, небывало музыкальных стихов. Потом мизерная советская старость – в бедности и почти забвении. Однако свой шедевр и, может быть, "оправдание жизни", он создал уже на шестом десятке лет, благодаря позднему старту, а возможно, по каким-то более глубоким причинам. "Талант вменяется в добродетель", – заметил французский поэт.
"Достоевский на клавесине" – сказал о нем некто. Верно только второе – клавесин, Достоевский не при чем. И то клавесин – главный, но не единственный инструмент. Особенно в той же "Форели". В ней каждая поэма разыграна и спета по-разному. Собственно в поэме, давшей название книге – явно слышится глубокая низкая виолончель ("Стояли холода, и шел Тристан. В оркестре пело раненое море…") В другой – флейта, она и называется автором ("…будто флейта заиграла из-за тонкого стекла…").
Мне кажется, что чувствуя, что это его последний и самый сильный творческий всплеск, Кузмин в "Форели" подводит итог миру, не себе, стремится описать его в полноте, увидеть его как "плерому". Это почти бухгалтерия подлунного мира – 12 месяцев, 7 дней недели, створки веера, может быть – и цвета радуги (во всяком случае в первой поэме отчетливо звучит зеленая нота, даже навязчиво. Может быть, у него было такое намерение, но оно сковывало и он его оставил…)
В "Форели" – полнота жанров: мистический детектив, сюжет экспрессионистического фильма, романтическая трагедия, гофманиада и трагический водевиль. Фильм – это слово прозвучало не случайно. Кузмин первый в истории поэзии строил свои поздние поэмы по принципу киномонтажа. То крупный план, то панорама, то резкая стыковка нестыкующегося. В этом то отличие от "циклов", которого не понимает составитель и комментатор кузминского тома "Библиотеки поэта" Н. Богомолов, для которого всё – циклы, он наивно объясняет, что в поэме единый ритмический строй должен быть. Тогда как новаторство Кузмина в области маленькой поэмы как раз и состоит в симфонизме и естественном сбегании и разбегании ритмов в гармоничном соответствии с фабулой. "Не в звуках музыка, она – во измененьи образов заключена", – сказал другой петербургский поэт. И музыкальность Кузмина в большой степени выразилась не в изобретенных им замечательных "мотивах" и ритмическом причудливом и изысканном рисунке, а в их сплавленности с развитием сюжета.
Если за каждым поэтом стоит и через него говорит некая вполне определенная стихия, то очевидно, что у Кузмина это вода.
Таинственна связь между поэтом и стихией. Таинственна – потому что бессознательна. Потому что стихия выбирает себе поэта, а не поэт стихию. Он может прожить жизнь и умереть, не узнав, что все его существо, каждый атом его крови отзывались на ее приказы, что ритм его стихов зависел от ее движений, что она стояла за его спиною и сам он был ею. Кузмину заклинатель сказал бы: "Ты одержим духом Воды".
Для Кузмина потоп не кончался. С самого начала и до конца – одна вода кругом. Названия книг: "Сети" (первой), "Огненные озера", "Форель разбивает лед" (последней). Вода во всех видах (лед, пар, гладь морская, речная) и все к ней относящееся: рыбы, сети, пароходы, лодки. В каждом стихотворении она – в блюдечке ли с чаем, в котором отражается Фудзияма, в луже, пруде, море, океане.
"Ушел моряк, румян и рус, за дальние моря…"
Пишет ли он о любви: "любви безбрежные моря", о весне: "с весенним шумом половодья", о желании умереть: "я бы себя утопил". О желании веры (обращаясь к Христу):
Брошусь сам в Твои сети,
Воду веретеном взрыв.
Навязчиво-любимые герои (с первых же книг или строк): знаменитые утопленники – Озирис и, прежде всего, Антиной.
Вытащенное из воды тело
Лежало на песке.
– Новый бог дан людям.
Бог тот, кто утонул. Вода сообщает божественность. Утопленники и рыбы – основные герои его стихов.
Почему именно он, поклонник Озириса и Антиноя, оказался свидетелем гибели от воды другого знаменитого утопшего – Сапунова в 1912-м году, соседа его по лодке, которая перевернулась?
Так и слышишь демонический хохоток, переходящий в утробное всхлипывание – финских вод в час отлива, заманивающих в даль. Обручение с водой через смерть.
Он видит мир глазами индийского божества, лежащего на дне Океана в зародыше цветка: "Солнце аквамарином, и птиц скороходом – тень". Скорее даже не из глуби, а с границы воды и воздуха, перейти которую рыба хочет. Она хочет разбить лед или стекло аквариума. Такое желание кажется нелепым. Переход из воды в воздух – смерть для рыбы. Но это только кажется, рыба чувствует, что станет лодкой. Воздух (по Кузмину) – та же вода, только более легкая, более духовная.
Ах, неба высь – лишь глубь бездонная!
Итак, для рыбы есть два пути: первый – жить как жила в воде, второй: броситься в воздух и умереть, вернувшись в родную небесную воду. Но возможен и третий выход: прыгнуть в воздух и снова вернуться в воду, но уже другим, преображенным, преломленным в воздухе, как луч. Именно это происходит с героями поэм "Для Августа" и "Форель разбивает лед". Эрвин Грей ушел в море и, конечно, не вернулся, вода ведь гибельная стихия. И все же возвращается – призраком, оборотнем, одетый в тело другого, в чужую чешую. Вся эта последняя книга, конечно, о переходе в иное состояние, к которому он готовился. Взломать лед и вот он – "зеленый край за паром голубым".
…Кузмин был к концу жизни по своим воззрениям гностик, а гностицизм во многом зависел от иудейства. Ритуальное очистительное омовение, например, приравнивалось к непроявленному состоянию ангелов в огне, откуда они выходят и приобретают образ для служения. Для гностиков вода и огонь – два зеркала друг против друга. Поэтому поэт воды неизбежно и поэт огня. В стихотворении "Смерть" душа, умирая, ныряет в "крещенски-голубую прорубь", и оказывается "в летучем без теней огне". При этом не только душа проходит через воду, чтобы стать огнем, но и сама вода становится им.
В позднем дневнике Кузмин пишет, что есть нечто, о чем он всегда умалчивает. И не может определить, что это: "Егунов прав, что это религия. Может быть, безумие. Но нет – тут огромное целомудрие и потусторонняя логика". Как ни странно применять это слово по отношению к "поэту порока", но действительно, пройдя через бездну греха, он невероятным образом обрел именно "огромное целомудрие", и мудрость – с помощью причудливой "потусторонней логики".
Елена Шварц