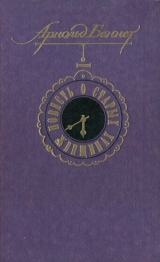
Текст книги "Повесть о старых женщинах"
Автор книги: Арнольд Беннет
Соавторы: Нина Михальская
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 51 страниц)
За ужином она, с покрасневшими, опущенными долу глазами, испытывая благоговейный страх перед матерью, вновь превратилась в девочку. Ужин протекал не так, как обычно. Мистера Пови, вернувшегося от дантиста живым, но потерявшего за два дня два зуба, кормили жидкой пищей, а именно – хлебом с молоком; он сидел около камина. Остальных ожидали холодная свинина, половина яблочного пая и сыр. Софья лишь делала вид, что ест: каждый раз, когда она пыталась проглотить кусок, ее глаза наполнялись слезами, а гортань сводило судорогой. Миссис Бейнс и Констанция, как всегда, ели весьма умеренно. За столом царили освещаемые газовым рожком прелестные локоны миссис Бейнс.
– Я сегодня не очень довольна своим пирогом, – заметила миссис Бейнс, с неодобрением пожевывая корочку пая.
Она позвонила в колокольчик. Из своей берлоги появилась Мэгги. Она была в простом белом фартуке, но без чепчика.
– Мэгги, хотите пирога?
– Да, если у вас есть лишний, сударыня.
Так обычно отвечала Мэгги, когда ей предлагали еду.
– У нас на всех хватит, Мэгги, – по обыкновению, сказала хозяйка. – Софья, если тебе не нужна эта тарелка, дай ее мне.
Мэгги удалилась с щедрой порцией пирога.
Затем миссис Бейнс побеседовала с мистером Пови о его состоянии и, в частности, о необходимости оберегать от простуды понесшую потери десну. Она была отважной и непреклонной женщиной: она вела себя во время ужина так, как будто кроме приготовления пирогов и события, связанного с мистером Пови, этот день в доме ничем не отличался от всех остальных. Перед сном она наградила Констанцию и Софью одинаково теплыми поцелуями и обеих назвала «детками».
Когда девушки раздевались у себя в комнате, Констанция, добрейшая душа, старалась подражать поведению матери. Она полагала, что лучше всего не замечать печального настроения Софьи.
– Мамино новое платье уже готово, и она собирается в воскресенье надеть его, – мягко сказала она.
– Если ты произнесешь еще хоть слово, я тебе выцарапаю глаза! – злобно воскликнула Софья прерывающимся голосом и разразилась рыданиями. Она не собиралась привести свою угрозу в исполнение, но самый факт, что она произнесла ее, принес ей облегчение. Констанция, поняв, что за матерью ей не угнаться, решила сохранить свои глаза.
Газ давно уже был погашен, но еще долго от редких всхлипываний Софьи вздрагивала кровать, и они обе бодрствовали в молчании.
– Вы с мамой, верно, хорошенько осудили меня сегодня? – внезапно произнесла Софья, к удивлению Констанции, слезливым голосом.
– Нет, – успокаивающим тоном ответила Констанция, – мама просто рассказала мне.
– Рассказала что?
– Что ты хочешь стать учительницей.
– И стану! – заявила Софья с ожесточением.
«Ты плохо знаешь маму», – подумала Констанция, но вслух ничего не сказала.
Послышался еще один тяжкий вздох, а затем, таково уж свойство молодости, они обе уснули.
Ранним утром следующего дня Софья стояла у окна и глядела на Площадь. Была суббота, и по всей Площади воздвигались небольшие палатки под желтыми полотняными навесами для главного базара недели. В те варварские времена Берсли располагал величественным зданием, черным как базальт, где торговали разрубленными тушами, оно называлось «Бойня», но овощи, фрукты, сыр, яйца и булочки по-прежнему продавались под полотняными навесами. Теперь яйца продаются по пять фартингов штука во дворце, который стоит двадцать тысяч фунтов. Однако некоторые жители Берсли готовы утверждать, что все, вообще, изменилось и, в частности, из жизни исчезла романтика. Но ведь романтика становится романтикой лишь после того, как исчезнет. Для Софьи, хотя она пребывала в настроении, обычно способствующем романтическому восприятию действительности, ничего романтического в этом пространстве, покрытом пестрыми навесами, не было. Это был простой базар. На самом краю Площади уже открылась лавка Холла, главного бакалейщика, и мальчик-ученик подметал перед ней тротуар. Открыты были и харчевни, причем некоторые, специализирующиеся на продаже горячего рома, – с 5.30 утра. Городской глашатай в синей куртке с красными обшлагами и воротником переходил Площадь, держа за язык большой колокол. В одной шторе на окне миссис Пови – жены кондитера – по-прежнему зияла неприличная дыра, присутствие которой едва ли можно было оправдать даже недавними родами. Вот что предстало перед грустными, воспаленными от слез глазами Софьи.
– Софья, ты же там, у окна, схватишь простуду!
Она вздрогнула. То был голос матери. Эта неунывающая женщина, спокойно проспав ночь рядом с паралитиком, успела уже встать и должным образом одеться. Она несла в руках бутылку, рюмку для яиц и немного варенья в столовой ложке.
– Сейчас же вернись в постель! Ну вот, умница! Ты вся дрожишь.
Побледневшая Софья повиновалась. Она действительно дрожала. Проснулась Констанция. Миссис Бейнс подошла к туалетному столику и налила что-то из бутылки в рюмку.
– Кому это, мама? – сонным голосом спросила Констанция.
– Это Софье, – весело ответила миссис Бейнс. – Ну, Софья! – и она подошла к дочери с рюмкой в одной руке и ложкой в другой.
– Что это, мама? – спросила Софья, отлично знавшая, что это.
– Касторка, милочка, – с обаятельной улыбкой ответила миссис Бейнс.
Попытки лечить касторкой упрямство и стремление к более вольной жизни не столь уж нелепы, как может показаться. Странную взаимосвязь между духом и телом, по-настоящему понятую лишь в нашу эру разума, уловили чуткие средневековые матери. Без сомнения, в ту эпоху, когда миссис Бейнс была воплощением современности, касторка все еще считалась лучшим из лекарств. Она вытеснила из употребления кровоотсосные банки. И если мода на нее частично объяснялась ее крайне неприятным вкусом, то уж в борьбе с болезнями она доказала свою состоятельность на деле. Менее чем за два года до описываемых событий старый доктор Гарроп (отец доктора, рассказавшего миссис Бейнс о миссис Пови), которому тогда было восемьдесят шесть лет, упал и скатился с лестницы. С трудом поднявшись, он тотчас принял дозу касторки и на следующий день был совершенно здоров, как будто и не думал падать. Сей эпизод стал известен всему городу и глубоко запал в души его жителям.
– Не хочу, мама, – удрученно сказала Софья. – Я здорова.
– Но ты вчера весь день ничего не ела, – сказала миссис Бейнс, и добавила: – Ну-ка пей! – как бы имея в виду: «Вечно вокруг касторки поднимается дурацкий шум. Не задерживай меня».
– Не хочу, – раздраженно и сварливо заявила Софья.
Обе девушки лежали на спине рядом друг с другом и казались очень изящными и хрупкими по сравнению с их дородной матерью. Констанция благоразумно помалкивала.
Миссис Бейнс сжала губы, как будто намереваясь сказать: «Это становится утомительным. Еще минута и я рассержусь!»
– Ну-ка пей! – повторила она.
Девочки услышали, как она постукивает ногой по полу.
– Но, мама, я в самом деле не хочу, – сопротивлялась Софья. – По-моему, мне самой следует знать, нужна она мне или нет! – Это уже граничило с наглостью.
– Софья, ты примешь лекарство или нет?
В конфликтах с детьми ультиматум, предъявленный матерью, всегда облекался именно в такую словесную форму. Дочери знали, что когда дело доходит до формулы «или нет», произнесенной миссис Бейнс самым строгим тоном, им ничего не поможет. Не было случая, чтобы ультиматум был отвергнут.
Наступило молчание.
– И советую тебе соблюдать благовоспитанность, – добавила миссис Бейнс.
– Касторку пить не буду, – заявила Софья с угрюмой решимостью и спрятала лицо в подушку.
Это был исторический момент в жизни семьи. Миссис Бейнс показалось, что наступил конец света. Но она продолжала держаться с достоинством, хотя в ушах у нее гремели апокалиптические пророчества.
– Заставить тебя я, конечно, не могу, – сказала миссис Бейнс с величественным спокойствием, пряча гнев под маской сострадающей печали. – Ты взрослая, но непослушная девочка. И если ты разболеешься, то так тебе и надо.
Высказав столь грозное допущение, миссис Бейнс удалилась.
Констанцию била дрожь.
Но это еще не все. Попозже утром, когда миссис Бейнс, стоя у лотка в верхней части Площади, справлялась о цене на молодой картофель, а Констанция у того же лотка выбирала трехпенсовые цветочки, они увидели, как на пустынном углу Площади у банка появилась в полном одиночестве не кто иной, как Софья Бейнс! Площадь же была заполнена оживленной толпой, и Софья мелькала позади суетящихся и разговаривающих людей, но в том, что это она, сомнений не было. Она побывала где-то за пределами Площади и теперь возвращалась обратно. Констанция не верила собственным глазам. У миссис Бейнс сжалось сердце. Ибо, следует заметить, девочки ни при каких обстоятельствах без разрешения из дому не выходили, да к тому же в полном одиночестве. Еще накануне нельзя было даже представить себе, что Софья может оказаться на улице без разрешения, без предупреждения, как будто бы она сама себе хозяйка. Но вот она тут как тут и двигается с неторопливостью почти вызывающей.
Покраснев от дурных предчувствий, Констанция ждала, что произойдет. Миссис Бейнс никак своих чувств не выразила, даже виду не подала, что заметила это позорное, душераздирающее зрелище. Они спустились с Площади, неся самые легкие из своих покупок. В дом они вошли с Кинг-стрит и сразу же услышали льющиеся сверху звуки фортепиано. Ничего не случилось. Мистер Пови уже пообедал в одиночестве. Для них накрыли стол, зазвенел колокольчик к обеду, вошла, с неслыханной дерзостью, Софья и присоединилась к матери и сестре. И опять ничего не произошло. Обед прошел в молчании, и когда Констанция прочла благодарственную молитву, Софья резко поднялась, намереваясь уйти.
– Софья!
– Да, мама.
– Констанция, останься, – внезапно распорядилась миссис Бейнс, взглянув на Констанцию, которая собиралась скрыться. Таким образом, Констанции предстояло стать свидетельницей дальнейших событий несомненно для того, чтобы подчеркнуть их значение и серьезность.
– Софья, – обратилась миссис Бейнс к младшей дочери зловещим тоном. – Нет, пожалуйста, закрой дверь. Не нужно, чтобы все в доме нас слышали. Зайди в комнату, не стой у порога! Вот так. Ну, что же ты делала сегодня утром в городе?
Софья нервно теребила край маленького черного передника, а носком туфли терзала шов ковра. Она склонила голову к левому плечу, а на лице у нее играла неясная улыбка. Она молчала, но говорили руки и ноги, каждый взгляд, каждый изгиб тела. Миссис Бейнс сидела выпрямившись в своей качалке, и ей казалось, что ее Софья как бы корчится на острие вертела. Констанцию сковало немое отчаяние.
– Я требую немедленного ответа, – настаивала миссис Бейнс. – Что ты делала сегодня утром в городе?
– Я просто вышла на улицу, – ответила наконец Софья, не поднимая глаз и глуповато ухмыляясь.
– Зачем ты вышла? Ты мне не говорила, что собираешься выйти. Я слышала, как Констанция спрашивала тебя, пойдешь ли ты с нами на базар, а ты очень грубо ответила, что не пойдешь.
– Грубо я не отвечала, – возразила Софья.
– Именно грубо. И попрошу тебя не перечить.
– Я не думала говорить грубо, правда, Констанция? – Софья решительно повернулась к сестре. Констанция не знала, куда деваться.
– Не перечь, – сурово повторила миссис Бейнс. – И не пытайся втянуть Констанцию в эту историю, я этого не допущу.
– Ну конечно, Констанция всегда права! – заметила Софья с иронией, неслыханная дерзость которой потрясла миссис Бейнс до самого ее громоздкого основания.
– Ты хочешь довести меня до того, чтобы я тебя отшлепала, милочка?
Она вышла из себя, и по дрожанию ее локонов было видно, как действует на нее бесстыдная дерзость Софьи. Но тут у Софьи опустилась и надулась нижняя губка, и все мышцы ее лица, казалось, расслабли.
– Ты очень скверная девочка, – сдержанно произнесла миссис Бейнс. («Ты у меня в руках, – подумала миссис Бейнс. – Можно умерить гнев».)
Софья всхлипнула. Она уподобилась маленькому ребенку. Не осталось и следа от той юной девицы, которая без разрешения и без сопровождения невозмутимо переходила Площадь.
(«Я знала, что она расплачется», – сказала себе миссис Бейнс со вздохом облегчения.)
– Я жду, – произнесла она вслух.
Второе всхлипывание. Миссис Бейнс изобразила терпеливое ожидание.
– Вы сами велите мне не перечить, а потом говорите, что ждете ответа, – заливаясь слезами и всхлипывая, бормотала Софья.
– Что ты сказала? Как я могу что-нибудь понять, когда ты говоришь так нечленораздельно? (Однако миссис Бейнс не разбирала ее слов из осторожности, которая мудрее доблести.)
– Это не имеет значения, – со всхлипом выпалила Софья. Теперь она рыдала, и слезы рикошетом слетали с ее прелестных пунцовых щечек на ковер. Она дрожала всем телом.
– Не веди себя, как взрослый ребенок, – приказала миссис Бейнс с оттенком грубоватого увещевания.
– Это из-за вас я плачу, – с горечью сказала Софья. – Вы заставляете меня плакать, а потом называете взрослым ребенком! – Все ее тело содрогалось от набегающих волнами рыданий. Говорила она так невнятно, что теперь мать действительно с трудом разбирала слова.
– Софья, – проговорила миссис Бейнс с величавым спокойствием, – не я заставляю тебя плакать, а твоя нечистая совесть. Я просто задала тебе вопрос и намерена получить ответ.
– Я уже ответила вам. – Сделав над собой огромное усилие, Софья перестала всхлипывать.
– Что ты мне ответила?
– Я просто вышла на улицу.
– Со мной эти фокусы не пройдут, – сказала миссис Бейнс. – С какой целью ты вышла, да еще не сказав мне? Если бы ты потом, когда я вернулась, по собственной воле объяснила мне, что произошло, все могло бы быть по-иному. Но ты не произнесла ни слова! Спрашивать приходится мне! Ну, побыстрее! Мне больше некогда ждать.
(«Я пошла на уступку тогда с касторкой, милочка, – сказала себе миссис Бейнс. – Но это не повторится! Никогда!»)
– Не знаю, – пробормотала Софья.
– Что это значит – «не знаю».
Бурные рыдания возобновились.
– Это значит, что я не знаю. Я просто вышла из дому. – Голос у нее зазвенел, она заговорила громко, но неразборчиво. – А что особенного, если я вышла?
– Софья, я не допущу такого тона. Если ты воображаешь, что, оставив школу, сможешь поступать как тебе заблагорассудится…
– Разве я хочу оставить школу? – возопила Софья, топнув ногой. Ее охватил порыв гнева, как будто это движение выпустило таившихся в ней демонов бури. Лицо ее исказилось неукротимой яростью.
– Вы все хотите сделать меня несчастной! – закричала она в бешенстве. – Теперь я не имею права даже выйти из дому! Вы плохая, жестокая женщина! Я ненавижу вас! Можете делать со мной, что пожелаете! Если угодно, посадите меня в тюрьму! Я знаю, вы были бы рады, если бы я умерла!
Она бросилась вон из комнаты, хлопнув дверью с такой силой, что задребезжал весь дом. И кричала она с такой силой, что ее можно было слышать в лавке и даже в кухне. Для миссис Бейнс это было ошеломляющим испытанием. Ах, миссис Бейнс, зачем же вы обременили себя свидетельницей? Зачем вы столь твердо заявили, что намерены ждать ответа?
– Право, – с запинкой произнесла она, облекаясь вновь в пелену величавого достоинства, как в шарф, сорванный ветром, – я и не думала, что у бедной девочки такой скверный характер! Как жаль, как печально для самой дочери! – Ничего иного миссис Бейнс сделать не могла.
Констанция, которая не могла долее выносить унижения матери, бесшумно выскользнула из комнаты. Поднимаясь на третий этаж, она дошла до середины лестницы, но, услыхав частые громкие, тяжкие всхлипывания, остановилась и крадучись спустилась вниз.
Дорого стоила матери первая в ее жизни встреча с чадом, которое не чувствует благодарности за то, что его произвели на свет. Она подорвала ее глубокую, непоколебимую веру в себя. Миссис Бейнс всегда считала, что знает все о своем доме и полностью в нем распоряжается. И вдруг она сталкивается с неведомой особой, слоняющейся по ее дому, как бы натыкается на глыбу мрамора, удары о которую заставляют ее понять, чего ей остается лишь отойти в сторону.
В воскресенье днем миссис Бейнс сделала попытку немного отдохнуть в гостиной, где приказала зажечь камин. Констанция сидела у отца в спальной рядом. Сильно простуженная Софья лежала под одеялом в комнате наверху. В эти минуты единственным утешением для миссис Бейнс были простуда Софьи и новое платье. Она предсказывала, что Софья заболеет, отказавшись от касторки, так оно и случилось. Постояв в ночной сорочке у окна прохладным майским утром, Софья получила то, что миссис Бейнс называла «местью природы». Что касается платья, то в нем она молилась Богу в приходской церкви, в нем просила Бога за Софью перед обедом; четыре двойных ряда гипюра на юбке получили во время церковной службы высокую оценку. В своей накидке, отделанной кружевами, и низкой шляпке с завязкой, она несомненно придавала особый блеск собранию прихожан. Миссис Бейнс была дородна, и моды, предписывающие свободный покрой, широкие ниспадающие контуры и просторные объемы, соответствовали ее фигуре. Не следует думать, что полные дамы зрелого возраста хотят привлечь взор мужчин и потревожить их думы лишь нравственными чарами. Миссис Бейнс сознавала, что хороша собой, статна, представительна и элегантна, и сознание этого доставляло ей истинное удовольствие. Не сомневайтесь – она поглядывала через плечо в зеркало с не меньшим волнением, чем юная девица.
Отдохнуть она не смогла – не удалось. Погруженная в думы, она сидела в той же позе, в какой два дня тому назад сидела Софья. Ее поразило бы, если бы она услышала, что у нее и у ее провинившейся дочери поза, осанка и выражение лица удивительно сходны. Но все было именно так. Какой-то добрый ангел нарушил ее покой, и она бесцельно подошла к окну и бросила взгляд на пустынную Площадь и дома с закрытыми ставнями. Ей, величественной матроне, тоже было свойственно подвергаться странным мгновенным приступам тоски по более романтичной жизни, стремительным полетам хвостатых комет по небесной тверди ее духа, легким, необъяснимым приступам меланхолии. Добрый ангел, выведя ее из подобного настроения, направил ее взор на некое место в верхней части Площади.
Не спеша, но и не теряя времени, она вышла из комнаты. В укромном уголке под лестницей стоял ящик, размером в один квадратный фут и глубиной в восемнадцать дюймов, обитый столовой клеенкой. Она наклонилась и отперла его; внутри, в мягкой подкладке, хранился серебряный чайный сервиз семьи Бейнс. Она вынула чайник, сахарницу, молочник, кувшин для кипятка и подставку для пирога (почти плоское блюдо с изогнутой полукруглой ручкой), гравированные и позолоченные внутри; эти фамильные ценности сверкали в темном углу, отражая затаенную гордость благопристойного семейства. Она поставила все это на поднос, который всегда стоял наготове в тихом убежище. Затем она посмотрела на лестницу, ведущую на третий этаж.
– Мэгги! – позвала она свистящим шепотом.
– Да, мэм! – послышался ответ.
– Ты одета?
– Да, мэм. Иду.
– Надень муслиновое платье. И передник, – добавила миссис Бейнс.
Мэгги поняла.
– Приготовь все это к чаю, – распорядилась миссис Бейнс, когда Мэгги спустилась к ней. – Хорошенько протри посуду. Где торт, тот – свежий, ты знаешь. Самые нарядные чашки. Серебряные ложки.
Далеко внизу послышался стук в боковую дверь.
– Вот она! – воскликнула миссис Бейнс. – Прежде чем открыть, уберешь все в кухню.
– Слушаю, мэм, – сказала Мэгги, удаляясь.
На миссис Бейнс был черный передник из альпаги. Она сняла его и надела другой – из черного атласа, расшитый желтыми цветами, она взяла его с комода, просунув руку в дверь спальной. Затем она расположилась в гостиной.
Появилась гостья в сопровождении запыхавшейся Мэгги.
– О, мисс Четуинд, – воскликнула миссис Бейнс, вставая, чтобы поздороваться. – Очень рада вас видеть. Я заметила, как вы идете по Площади и подумала: «Надеюсь, мисс Четуинд не пройдет мимо нас».
Мисс Четуинд, растерянно улыбаясь, приблизилась к ней с тем застенчивым, несколько жеманным видом, который является одним из недостатков педагогики. Ведь за нею постоянно следили глаза ее учениц. Вся ее жизнь складывалась из непрестанных усилий избежать поступков, которые могли бы оказать пагубное влияние на ее питомиц или оскорбить чувствительные натуры их родителей. Свой земной путь ей приходилось совершать, петляя по лесу утонченнейших чувств, эдаких папоротниковых зарослей, переступая через которые, ей нельзя было даже нечаянно задеть их юбкой. Не удивительно, что она двигалась мелкими шажками! Не удивительно, что на улице она потеснее прижимала локти к бокам и покрепче запахивала накидку!
Программа ее школы предусматривала: «разумный, основанный на религиозных принципах курс обучения», «изучение принятых норм английского языка с добавлением уроков музыки (под руководством искусного преподавателя), рисования, танцев и гимнастики. А также «рукоделие, простое и декоративное», а также «нравственное воспитание»; и наконец, условия оплаты – «весьма умеренной, во всех деталях согласуемой с родителями или опекунами соответственно их пожеланиям (правда, иногда и без оных). Вот пример чувствительности папоротниковых зарослей: семь лет тому назад она чуть не потеряла Констанцию и Софью из-за одного лишь слова «танцы».
Это была обездоленная сорокалетняя девица, отнюдь не «преуспевающая», у нее в семье способностями достигать успеха обладала лишь ее старшая сестра. Эти особенности мисс Четуинд вызывали у миссис Бейнс, состоятельной почтенной дамы, чувство жалости. С другой стороны, у мисс Четуинд были основания смотреть свысока на миссис Бейнс, которая занималась всего-навсего торговлей. В речи мисс Четуинд не было и следа местного акцента, она говорила с той изысканностью южных графств, над которой Пять Городов посмеивались, в глубине души ей завидуя. Произносимые ею «О» изящно тяготели к «ОУ», как тяготеет обрядность к католицизму. Она являла собой кладезь хороших манер, чудо благовоспитанности; родители учениц считали ее «безупречной леди», но ударение делали не на слове «леди», а на слове «безупречная». В общем, вопрос, относилась ли миссис Бейнс с тайным высокомерием к мисс Четуинд или, наоборот, мисс Четуинд чувствовала свое превосходство, был весьма сложен. Возможно, миссис Бейнс, в силу своего положения замужней дамы, брала верх.
Мисс Четуинд, восседавшая в кресле чопорно и прямо, как положено, начала беседу словами, что даже если бы миссис Бейнс не написала ей, она бы все равно ее навестила, ибо полагает необходимым во время каникул посещать дома своих воспитанниц, что соответствовало действительности. Следует заметить, что в пятницу после обеда миссис Бейнс отправила мисс Четуинд одно из своих самых роскошных посланий – на бумаге лавандового цвета с зубчатыми краями, в то время самой модной, – чтобы сообщить ей своим круглым почерком, что Констанция и Софья в конце следующего семестра прекратят занятия в школе, присовокупив свои соображения относительно Софьи.
Гостья не успела разговориться, как появилась Мэгги с лакированной чайницей, серебряным чайником и серебряной ложкой на лакированном подносе. Миссис Бейнс, не прерывая беседы, выбрала ключик из своей связки, отперла чайницу, всыпала четыре ложки чаю в чайник и заперла чайницу.
– Клубничный, – таинственным голосом шепнула она Мэгги, и та исчезла вместе с подносом и его содержимым.
– А как поживает ваша сестра? Она уже давненько не приезжала, – прошептав слово «клубничный», продолжила разговор миссис Бейнс.
Это замечание носило чисто светский характер: хозяйке дома не очень-то хотелось касаться темы, связанной с ее дочерьми, однако разговор о сестре вполне соответствовал светским интересам мисс Четуинд. Она просто кипела желанием поделиться важнейшими новостями.
– Благодарю вас. Прекрасно, – ответила мисс Четуинд, чрезвычайно оживившись. Лицо ее засветилось гордостью, когда она добавила. – Теперь, разумеется, все изменилось.
– Да что вы? – прожурчала миссис Бейнс с видом любезной заинтересованности.
– Да, да, – подтвердила мисс Четуинд. – Разве вы не слышали?
– Нет. О чем? – сказала миссис Бейнс. Мисс Четуинд отлично знала, что миссис Бейнс ничего не слышала.
– О помолвке Элизабет с его преподобием Арчибальдом Джонсом.
Миссис Бейнс была ошеломлена. В отличие от иных женщин, оказавшихся в столь напряженной ситуации, она не изменила благоразумию и не выразила простительного в такой момент удивления по поводу того, что нашелся человек, пожелавший стать женихом мисс Четуинд-старшей. Она сохранила присутствие духа.
– Это действительно весьма интересно! – сказала она. И вправду, это было весьма интересно, ибо Арчибальд Джонс являлся одним из кумиров Объединения Уэслианских методистов, замечательным проповедником, известным всей Англии. Не было равного ему проповедника на поминальных и посвященных памяти жертвователей службах. Само его имя – Арчибальд помогало ему: оно звучало ласково и сладостно в ушах его почитателей. Он не был странствующим священником, переезжающим с места на место каждые три года. В его обязанности входило руководство деятельностью «Книжного клуба» – издательского отделения Объединения. Жил он в Лондоне, субботу и воскресенье проводил в провинции, где по воскресеньям читал проповеди, а по понедельникам вечером произносил речи перед «собранием прихожан», отмеченные некоторой книжностью. В каждом городе, который он посещал, возникала борьба за право оказать ему гостеприимство. Он обладал неуклонной целеустремленностью, неутомимой энергией и живым умом. Ему было пятьдесят, потеряв жену, он последние двадцать лет прожил вдовцом. Казалось, для этой яркой личности подходящих женщин не находилось. И вдруг им завладела Элизабет Четуинд, покинувшая Пять Городов четверть века тому назад в возрасте двадцати лет! Ей, женщине суровой, усатой, грозной и сухой, по-видимому, удалось завоевать его своим мощным интеллектом! Должно быть, произошло единение двух умов! На него произвел впечатление ее интеллект, на нее – его интеллект, и тогда их интеллекты обменялись поцелуями. В течение недели пятьдесят тысяч женщин в сорока графствах мысленно представляли себе это лобзание интеллектов, пожимали плечами и в очередной раз приходили к выводу, что мужчины – существа непостижимые. Подумать только, что эти блистательные лондонцы тоже влюбляются, как все люди! Но нет! В этом случае слово «любовь» казалось слишком грубым и чувственным. Все ощущали, что его преподобие Арчибальд Джонс и мисс Четуинд-старшая вознесут брак, как теперь бы сказали, к звездным высотам.
Подали чай, и миссис Бейнс постепенно обрела способность сравнивать свои достоинства с заслугами мисс Алин Четуинд. «Да, – мысленно произнесла она. – Можете разглагольствовать насчет вашей сестры и называть его просто Арчибальдом, можете изящно выражать свои мысли, но разве есть у вас такой сервиз, как у меня? Можете вы сварить клубничный мармелад лучше этого? Не стоит ли одно мое платье больше, чем вы тратите в год на все ваши туалеты? Хоть раз какой-нибудь мужчина взглянул на вас с интересом? И вообще, разве нет в моем образе жизни чего-то… короче говоря, чего-то?..»
Вслух она ничего не сказала. Она нисколько не нарушила безупречной вежливости хозяйки дома. Даже в тоне ее не было и намека на то, что она персона немаловажная. Однако мисс Четуинд внезапно почувствовала, что лучше бы поглубже спрятать свою гордость по поводу возможности стать свояченицей его преподобия Арчибальда Джонса. И она спросила о здоровье мистера Бейнса. После чего разговор как-то угас.
– Надеюсь, вас не удивило мое письмо? – спросила миссис Бейнс.
– И да и нет, – ответила мисс Четуинд на этот раз уже профессиональным тоном, а не тоном будущей свояченицы. – Мне, конечно, искренне жаль терять таких прилежных учениц, но нельзя же оставлять у себя учениц навечно. – Она улыбнулась; она не теряла мужества, хотя знала, что лишиться учениц проще, чем найти новых. – Однако, – последовала пауза, – ваше мнение о Софье совершенно справедливо. Она нисколько не отстает от Констанции. Софья, безусловно, девочка незаурядная.
– Надеюсь, она не очень огорчала вас?
– О нет! – воскликнула мисс Четуинд. – У нас были прекрасные отношения. Я всегда старалась взывать к ее разуму. Я никогда не принуждала ее. Ведь с иными девочками… Я считаю Софью, в известном смысле, самой незаурядной девушкой, не ученицей, а – как бы это сказать? – самой незаурядной личностью из всех, кого я знала. – И с достоинством добавила: – И заметьте, от меня такое не часто услышишь!
– Вот как! – сказала мисс Бейнс. А сама подумала: «Я ведь не из ваших обычных, глуповатых родителей. Я сужу о моих детях беспристрастно. Лестные слова о них на меня не действуют».
Однако она была польщена, и у нее возникла мысль, что Софья действительно девочка необычная.
– Она, вероятно, говорила вам, что хочет стать учительницей? – спросила мисс Четуинд, взяв кусочек бесподобного мармелада.
Ложку она держала большим и тремя последующими пальцами, к которым никогда не присоединялся мизинец, он, изящно изогнувшись, гордо отстранялся от них.
– Неужели она и вам сообщила об этом? – с тревогой спросила миссис Бейнс.
– Ну конечно! – подтвердила мисс Четуинд. – Она не раз мне говорила. Софья очень скрытная девочка, но, осмелюсь сказать, мне она всегда доверяла. Временами мы с Софьей очень сближались. На Элизабет она произвела огромное впечатление. Должна сказать вам, что в одном из последних писем ко мне она писала о Софье и о том, что как-то упомянула ее имя при мистере Джонсе, а он, оказывается, хорошо ее помнит.
Ни один из самых мудрых, незаурядных родителей не устоит перед таким известием!
– Ваша сестра теперь, вероятно, откажется от школы? – сказала миссис Бейнс, желая скрыть свое смущение.
– О нет! – На этот раз миссис Бейнс по-настоящему потрясла мисс Четуинд. – Ничто не заставит Элизабет покинуть ниву просвещения. Арчибальд питает величайший интерес к школе. Нет! Нет! Ни за что на свете.
– Значит, вы полагаете, что из Софьи получится хорошая учительница? – с явной непоследовательностью, улыбаясь, спросила миссис Бейнс. Но эти слова знаменовали решительный сдвиг в ее сознании. Все надежды рухнули.
– Мне кажется, она очень увлечена этим и…
– Это не окажет влияния на ее отца или на меня, – быстро проговорила миссис Бейнс.
– Конечно, нет! Я просто говорю, что она очень увлечена этим. Во всяком случае, из нее получится учительница значительно выше средней. («Эта девочка справилась со своей матерью без моей помощи!» – подумала она.) А вот и милая Констанция!
В комнату тихо проскользнула Констанция, доведенная до изнеможения тем, что не слышала беседы матери с гостьей.








