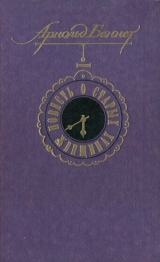
Текст книги "Повесть о старых женщинах"
Автор книги: Арнольд Беннет
Соавторы: Нина Михальская
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 51 страниц)
В тот вечер после разговора с миссис Скейлз, Мэтью Пил-Суиннертон был не единственным в пансионе Френшема, кто не мог уснуть. Когда старая привратница, выполнив очередное поручение, вернулась вниз, она встретила свою хозяйку, выходившую из ниши.
– Бедняжка спокойно спит! – сообщила привратница, ибо поручение заключалось в том, чтобы выяснить, как себя чувствует захворавшая собачка хозяйки, Фосетт. Эти слова, произнесенные старческим, дрожащим голосом, были полны сострадания к больному животному. Затем привратница улыбнулась. Розовая, потрескавшаяся кожа ее лица, узкое черное платье и белый чепец с оборками – все это живо напоминало богаделку. Она постоянно сутулилась, и, когда семенила по дому, голова ее всегда на несколько дюймов опережала ноги. Ее редкие волосы поседели. Она была стара, и, верно, никто не смог бы сказать, сколько ей лет. Софья больше четверти века назад получила ее в придачу к пансиону, ибо привратница по старости не смогла бы легко подыскать себе другое место. Хотя постояльцами были почти исключительно англичане, старушка говорила только по-французски, а с гостями объяснялась одними добродушными улыбками.
– Я, пожалуй, лягу, Жаклин, – сказала привратнице хозяйка.
«Странный ответ», – подумала Жаклин. Она всегда, согласно своему обыкновению, отходила ко сну в полночь и вставала в половине шестого. Ее хозяйка тоже обычно ложилась в полночь, а последний час перед сном привратница и хозяйка, как правило, проводили вместе. Учитывая то, что Жаклин только что была послана в спальную хозяйки, чтобы взглянуть на Фосетт, а также то, что состояние здоровья собачки было удовлетворительным, и то, что мадам и Жаклин предстояло обсудить кое-какие заурядные повседневные дела, казалось странным, что мадам собралась лечь. Однако Жаклин только и сказала на это:
– Очень хорошо, мадам. А что с номером 32?
– Устраивайся как знаешь, – отрезала хозяйка.
– Хорошо, мадам. Спокойной ночи, мадам, и доброго сна.
Оставшись в прихожей одна, Жаклин вернулась на свое место и занялась одним из тех бесконечных таинственных дел, которым она уделяла время, свободное от беготни по коридорам и лестницам.
Софья, даже не посмотрев на Фосетт, лежавшую в круглой корзинке, разделась, погасила свет и легла в постель. Сама не зная почему, она пришла в крайне мрачное расположение духа. Ей не хотелось размышлять, ей ни о чем не хотелось думать, но разум подстрекал ее к размышлениям, однообразным, ни к чему не ведущим и огорчительным размышлениям. Пови! Пови! Неужели это муж Констанции? Тот самый Сэмюел Пови? То есть не он, а его сын, сын Констанции. Неужели у Констанции взрослый сын? Ей, наверное, сейчас уже за пятьдесят. Может быть, у нее внуки! Так она и вправду вышла замуж за Сэмюела Пови! А может быть, она умерла? Матушка уже наверняка умерла, и тетя Гарриет, и мистер Кричлоу. Если мать жива, то ей не меньше восьмидесяти лет.
Последствия того, что она ничего не предпринимает, бездействует, понемногу накопились и были ужасны. Безусловно, ей не следовало рвать связь с семьей. Это было глупо. В конце концов даже если она ребенком украла немного денег у своей богатой тетки, какое это имеет значение! Это все гордыня, ее преступная гордыня. Ее грех. Она открыто это признает. Но она ничего не могла поделать со своей гордыней. Свое слабое место есть у каждого. Софья знала, что ее высоко ценят за здравомыслие, за жизненную мудрость. Когда с ней разговаривают, она всегда чувствует, что к ней относятся, как к женщине большого ума. И все же она повинна в большой глупости, в том, что оторвалась от семьи. Она стареет, она одна в этом мире. Да, она разбогатела, на свете нет другого столь респектабельного пансиона с таким налаженным хозяйством (в это Софья искренне верила). Но она одна в этом мире. У нее есть знакомые – французы, которые никогда не брали у нее и не давали ей больше, чем чашку чая или стакан вина, и двое-трое торговцев-англичан, но друг у нее один – трехлетняя Фосетт. Она, Софья, самый одинокий человек на земле. О ней забыл Джеральд, все забыли, никому нет дела до ее судьбы. Вот чего достигла она за четверть века непрерывного труда и забот, ни на день не покидая пансион на улице лорда Байрона. Страшно смотреть, как летят годы. И с каждым годом от этого все страшнее. Что станется с нею через десять лет? Она представила себе, как умирает. Ужасно!
Конечно, ничто не мешает ей вернуться в Берсли и исправить великую ошибку своей юности. Нет, ничто, кроме того, что вся ее душа содрогается от одной этой мысли. Улица лорда Байрона – место насиженное. Софья стала частью этой улицы. Она знает все, что здесь происходит или может произойти. Ее приковали к этой улице цепи привычки. Привычка заставляла ее любить эту улицу холодной любовью! Ну вот! Яркий свет газового фонаря за окном погас, как гаснет каждую ночь! Если возможно любить газовый фонарь, она любила его. Он стал частью дорогой для нее жизни.
Милый молодой человек этот Пил-Суиннертон! Выходит, после ее отъезда из Берсли Пилы и Суиннертоны, деловые партнеры, переженились или была там какая-то история с завещанием? Заподозрил ли он, кто она такая? Вид у него был очень смущенный и виноватый. Нет! Такого не могло прийти ему в голову. Это просто смешно. Он, наверное, не знал, что ее фамилия Скейлз, а если даже знал ее фамилию, то, вероятно, никогда не слышал о Джеральде Скейлзе и о ее бегстве. Да что там! Он, должно быть, родился уже после ее отъезда. Кроме того, Пилы всегда держались в стороне от повседневной городской жизни. Нет, он не мог догадаться, кто она такая! Думать об этом – ребячество.
И все же в путанице ее мучительных мыслей вопреки всему жило подозрение, что молодой человек догадался. Что, если по какой-то нелепой случайности он знает ее забытую историю и ненароком свел концы с концами? Что, если он между прочим сболтнет в Пяти Городах, что хозяйку пансиона Френшема зовут миссис Скейлз? «Скейлз? Скейлз? – начнут повторять люди. – Постойте-ка, откуда мы знаем это имя?» И покатится ком, пока слухи не дойдут до Констанции или еще кого-нибудь, и тогда…
К тому же – деталь, которой Софья неизвестно почему сперва не придала значения – этот Пил-Суиннертон – приятель мистера Пови, о котором он наводил справки! В таком случае, это не может быть тот же самый Пови. Немыслимо, чтобы Пилы поддерживали дружеские отношения с Сэмюелом Пови или его родственниками. А если все-таки мыслимо? А если что-то полностью переменилось в Пяти Городах?
Софья места себе не находила. Она была беззащитна. Она предвидела, что о ней начнут наводить справки. Она предвидела, какой разразится семейный скандал, какая начнется бесконечная суматоха, как вся жизнь ее пойдет кувырком, как потревожат ее покой. Такого будущего она не хотела. На это она пойти не могла. Она этого не желает! «Нет! – страстно восклицала Софья про себя. – Жила я одна и дальше одна проживу. Мне поздно меняться». И при мысли о том, что ее одиночество будет нарушено, она внутренне возмутилась. «Я этого не потерплю! Не потерплю! Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Констанция! Что мне Констанция, что я ей после стольких лет?» Мысль о малейшем изменении в ее жизни причиняла Софье острую боль. И не только боль! Она ощущала страх. Она содрогалась. Но не могла отделаться от этих мыслей, не могла себя переспорить. Появление Мэтью Пил-Суиннертона каким-то образом изменило самую суть ее жизни.
И отголосками бури в ее душе рождались десятки тысяч опасений о судьбе пансиона. Все было беспросветно, безнадежно. Пансион мог оказаться перед лицом такой катастрофы, какой не могли бы вызвать ни грубая небрежность, ни бесталанность. Разве не ясно, что ей самой приходится всем руководить, что она ни на кого не может положиться? Если она уедет хотя бы на день, все неизбежно рухнет. Вместо того чтобы отдыхать, она работает все больше. И кто может гарантировать, что она надежно вложила деньги?
Когда, медленно освещая один предмет в спальне за другим, поднялось солнце, она была больна. Голова ее пылала в лихорадке. Во рту был странный привкус, губы обметало. Фосетт зашевелилась в своей корзинке возле большого бюро, на котором с тщательностью были разложены разнообразные папки и бумаги.
– Фосетт! – хотела Софья окликнуть собачку, но голос ее не слушался.
Она не могла пошевелить языком. Попробовала высунуть язык, но не сумела. Голова болела уже несколько часов. Сердце у Софьи дрогнуло. Ей стало дурно от страха. Мелькнуло воспоминание об отце и его припадке. Ведь она его дочь! Паралич? Çа serait le combe![53]53
Это было бы катастрофой! (фр.)
[Закрыть] – в ужасе подумала она по-французски. Страх унижал ее. «Неужели я обездвижела?» – подумала Софья и сделала отчаянный рывок головой. Да, она могла легонько пошевелить головой на подушке, могла вытянуть и правую, и левую руку. Нелепая трусость! Ну конечно это не удар! Она успокоилась. И все же Софья не могла высунуть язык. Внезапно она начала икать и не могла остановиться. Она протянула руку к звонку, чтобы вызвать слугу, спавшего в кладовой у входа, и внезапно икота прекратилась. Она уронила руку. Ей стало легче. Кроме того, какой толк в слуге, если она не сможет объясниться с ним через дверь? Надо дождаться Жаклин. В шесть утра, зимой и летом, Жаклин приходит к хозяйке в спальную, чтобы самолично вывести собачку на короткую прогулку. Часы над камином показывали пять минут четвертого. Осталось ждать три часа. Фосетт просеменила через комнату, вспрыгнула на кровать и улеглась. Софья не обращала на нее внимания, но Фосетт, тоже больную и вялую, это не волновало.
Жаклин припозднилась. К четверти седьмого Софья впала в глубочайшее отчаяние и очутилась на грани безумия. Ей казалось, что ее череп лопается изнутри. Потом дверь тихонько приоткрылась на несколько дюймов. Обычно Жаклин входила в комнату, но иногда она оставалась за дверью и оттуда звала собачку тихим, дрожащим голосом: «Фосетт! Фосетт!» В то утро она не вошла. Собачка откликнулась не сразу. Софья была в агонии. Собрав всю свою волю, все силы и самообладание, она закричала:
– Жаклин!
С чудовищными мучениями и трудом рождался у нее на устах этот крик, но все-таки родился. Он отнял у нее все силы.
– Да, мадам! – Жаклин вошла в комнату.
Увидев Софью, она всплеснула руками. Софья смотрела на нее без единого слова.
– Сейчас я позову доктора… сейчас, – прошептала Жаклин и бросилась вон.
– Жаклин!
Старушка остановилась. Полная решимости заговорить, Софья в небывалом усилии напрягла мышцы.
– Никому ни слова!
Мысль, что весь дом узнает о ее болезни, была невыносима. Жаклин кивнула и исчезла, а за нею и собачка. Жаклин все поняла. Они с хозяйкой жили душа в душу, как тайные сообщницы.
Софья почувствовала себя лучше. Она смогла сесть, хотя от этого у нее закружилась голова. Переместившись к изножью кровати, она сумела рассмотреть себя в зеркале платяного шкафа и увидела, что нижняя часть ее лица перекошена.
Знакомый врач, немало зарабатывавший практикой в пансионе, откровенно объяснил ей, что произошло. Paralysie glosso-labio-laryngée[54]54
Паралич гортанно-глоточного нерва (фр.).
[Закрыть] – так он определил ее болезнь. Она поняла. Легкий удар, вызванный огорчениями и усталостью. Врач предписал абсолютный покой.
– Это невозможно! – сказала Софья, искренне полагая, что незаменима.
– Абсолютный покой! – повторил врач.
Она поразилась тому, что короткий разговор с человеком, который по случайности носил фамилию Пил-Суиннертон, мог повлечь за собой такое несчастье, и даже испытала странное удовлетворение от столь зловещего свидетельства собственной взвинченности. Но и тогда она не понимала до конца, как глубоко потрясена.
«Моя дорогая Софья…»
Неизбежное чудо произошло. В конечном счете, ее подозрения насчет этого мистера Пил-Суиннертона были обоснованны! Вот оно, письмо от Констанции! Это не ее почерк на конверте, но, еще не вглядевшись в него, Софья почувствовала, как у нее сжалось сердце. Она чуть ли не ежедневно получала письма из Англии с вопросами касательно комнат и цен на них (и за многие из этих писем ей еще приходилось доплачивать по три пенса, потому что их авторы невольно или намеренно забывали, что почтовой марки в одно пенни на письме во Францию недостаточно). В этом конверте не было ничего примечательного, но он с первого взгляда напугал Софью. И когда, разобрав надпись на размазанном штемпеле, она прочла «Берсли», ей показалось, что сердце у нее в буквальном смысле слова остановилось, и, неистово дрожа, она вскрыла конверт, думая: «Врач запретил мне волноваться». После приступа прошло шесть дней, и ей стало намного лучше: лицо почти вернулось в прежнее состояние. Но врач был настроен серьезно, он не назначил никаких лекарств, только укрепляющее, и не уставал повторять, что «следует соблюдать абсолютный покой», сохранять душевное спокойствие. Больше врач ничего не говорил, предоставляя Софье судить по его молчанию о серьезности ее состояния. Да, получать такие письма вредно для ее здоровья!
Откинувшись на подушки, в халате, она, читая письмо, держала себя в руках, и глаза ее не затуманились, она ни разу не всхлипнула, никак не выдала своим видом, что это письмо – не просьба о сдаче двух комнат на неделю. Но душевные силы, потребные, чтобы держать себя в руках, были израсходованы сполна.
Хотя рука Констанции изменилась, нетрудно было узнать четкий каллиграфический почерк той девушки, что некогда писала ценники. «С» в имени Софьи было написано в точности так же, как в том последнем письме, которое Софья получила от Констанции в Эксе.
«Моя дорогая Софья!
Не могу передать тебе, как я была счастлива, когда после всех этих лет узнала, что ты жива, здорова и благополучна. Я очень хочу увидеться с тобой, дорогая сестричка. Новость привез мне мистер Пил-Суиннертон. Он друг Сирила. А Сирил – это мой сын. Я вышла замуж за Сэмюела в 1867 году. Сирил родился в 1874-м на Рождество. Ему сейчас двадцать два года, и хотя он и молод, он успешно занимается скульптурой в Лондоне. Он получает национальную стипендию. На всю Англию таких стипендий было всего восемь, и одну дали ему. Сэмюел умер в 1888 году. Если ты читаешь газеты, то, должно быть, знаешь о деле Пови. Я, конечно, имею в виду мистера Дэниела Пови, кондитера. Это и убило несчастного Сэмюела. Мамочка умерла в 1875 году. Кажется, что совсем недавно. Тетя Гарриет и тетя Мария тоже умерли. И старый доктор Гарроп умер, а его сын почти что бросил практику. У него есть партнер, шотландец. Мистер Кричлоу женился на мисс Инсал. Можешь себе такое вообразить? Лавка отошла к ним, а я поселилась в жилой части дома. Внутренние двери заложили кирпичом. Торговля на Площади теперь не та, что прежде. Из-за паровой конки все покупатели перекинулись в Хенбридж, а теперь поговаривают об электрическом трамвае, но это, надо думать, одни разговоры. У меня очень хорошая служанка. Она у меня уже давно, хотя прислуга теперь не та, что прежде. Чувствую себя хорошо, если бы только не ишиас и сильное сердцебиение. После того как Сирил переехал в Лондон, мне стало очень одиноко. Но я бодрюсь и не ропщу: по-моему, мне есть за что благодарить бога. А теперь вот известие о тебе! Пожалуйста, напиши мне подробное письмо и все о себе расскажи. Париж так далеко. Но конечно, теперь, когда ты знаешь, что я по-прежнему здесь, ты приедешь ко мне хотя бы на время. Все будут так рады тебя видеть! А уж я как буду рада и счастлива! Ведь я совсем одна. Мистер Кричлоу просит передать, что тебя ждут здесь большие деньги. Ты ведь знаешь, он твой попечитель. Тебе причитается половина маминого наследства и половина наследства тети Гарриет, да еще проценты. Кстати, тут собирают по подписке для бедняжки мисс Четуинд. У нее умерла сестра, а она совсем нищая. Я подписалась на 20 фунтов. Ну, милая сестричка, напиши мне поскорее. Как видишь, адрес не изменился. Остаюсь, моя дорогая Софья, с любовью твоя нежная сестра
Констанция Пови».
P. S. Я бы еще вчера написала, да не могла. Сяду писать – и плачу.
«Ну конечно, – сказала Софья, обращаясь к Фосетт, – вместо того чтобы приехать самой, она зовет меня. А между тем у кого больше дел?»
Но сказано это было не всерьез. Это была просто ироническая, но добродушная завитушка, которой Софья увенчала свое чувство глубокого удовлетворения. Казалось, сама бумага, на которой было написано письмо Констанции, дышит простодушной любовью. И дух письма внезапно и в полную силу пробудил в Софье любовь к Констанции. Констанция! В этот миг для Софьи, несомненно, не было существа ближе нее. Констанция для Софьи воплощала все качества Бейнсов. Письмо Констанции было великолепным письмом, образцовым письмом, совершенным в своей безыскусности – естественным выражением лучших свойств Бейнсов. Во всем письме ни одной бестактности! Никакого нелепого удивления насчет того, что сделала Софья и чего не сумела сделать! Ни слова о Джеральде! Только возвышенное понимание ситуации как она есть и уверения в преданной любви! Такт? Нет, это нечто более тонкое, чем такт! Такт – результат намеренного, сознательного усилия. Софья была уверена, что Констанция и не думала проявлять такт. Констанция просто написала от всей души. Это-то и делало письмо изумительным. Софья была убеждена, что никто, кроме Бейнсов, не сумел бы так написать.
Она чувствовала, что должна воспарить до высот этого письма и тоже должна показать, что и в ней течет кровь Бейнсов. И она с важностью подошла к бюро и на листке почтовой бумаги с грифом пансиона начала писать своим властным, размашистым почерком, так непохожим на почерк Констанции. Она начала чуть-чуть скованно, но уже несколькими строчками ниже ее щедрая и страстная душа вступила в свободный разговор с Констанцией. Софья просила, чтобы мистер Кричлоу от ее имени внес 20 фунтов в фонд мисс Четуинд. Она рассказала о своем пансионе и о Париже, о том, как порадовало ее письмо Констанции. Но она умолчала о Джеральде и о том, сможет ли приехать в Пять Городов. Софья окончила письмо выражениями нежности и, словно очнувшись, вернулась к пресной банальности и повседневной жизни пансиона, чувствуя, что рядом с любовью Констанции все остальное ничего не стоит.
Но Софье не хотелось и думать о том, чтобы ехать в Берсли. Никогда, никогда она туда не вернется. Если Констанция пожелает приехать к ней в Париж, Софья будет счастлива, но сама не двинется с места. Мысль о том, что в жизни предстоят какие-то изменения, внушала ей робость. Вернуться в Берсли?.. Нет, нет!
Однако в будущем пансион Френшема не мог оставаться таким, как в прошлом. Этому препятствовало здоровье Софьи. Она знала, что врач прав. Стоило ей сделать усилие, и она тут же убеждалась, насколько он прав. У нее сохранилась только сила воли – но механизм, превращающий силу воли в действие, по таинственным причинам был поврежден. Это Софья понимала, но пока не могла с этим смириться. Чтобы Софья заставила себя смириться с этим, должно было пройти время. Она становилась старой. Она не могла больше подтягивать резервы. И все же всем и каждому она твердила, что поправилась и воздерживается от обычной работы только от избытка осторожности. Действительно, лицо ее стало прежним. И пансион, как машина с хорошо притершимися частями, по-видимому, не давал никаких сбоев. Правда, великолепный повар начал поворовывать, но поскольку кухня его от этого не страдала, последствия долго оставались незамеченными. Вся прислуга и многие постояльцы знали, что Софья хворает, но не более того.
Когда Софье случалось обратить внимание на погрешность в повседневной рутине пансиона, первым ее побуждением было выяснить причину и устранить ее, вторым – ничего не трогать или прибегнуть к какому-нибудь поверхностному паллиативу. Пансион Френшема переживал упадок, незаметный, но все-таки вызвавший кое у кого неясные подозрения. Прилив, достигнув максимума, отхлынул, но еще не настолько, чтобы стал заметен отлив. Волна то и дело поднималась снова и лизала самые далекие камешки на берегу.
Софья и Констанция обменялись несколькими письмами. Софья по-прежнему отказывалась покинуть Париж. Наконец она напрямик предложила Констанции приехать. Она сделала это предложение не без опаски – ибо перспектива встречи с ее дорогой Констанцией тревожила Софью – но на меньшее она не имела права. А через несколько дней пришел ответ, где говорилось, что Констанция приехала бы в сопровождении Сирила, но ее ишиас внезапно обострился, и ей предписано лежать каждый день после обеда, чтобы дать отдых ногам. Путешествие ей не по силам. Судьба строила каверзы наперекор решению Софьи.
Теперь Софья стала подумывать о своих обязанностях по отношению к Констанции. Истина заключалась в том, что Софья искала предлог, чтобы изменить свое решение. Она боялась изменить его, но искус был велик. Ей хотелось сделать что-то, против чего она сама возражала. Так человека порой тянет прыгнуть вниз с высокого балкона. Ее влекло вперед, но в последний момент она отшатывалась. Пансион ей надоел. Ей опротивела даже роль владелицы пансиона. Дисциплина в заведении ослабла.
Софья ждала, когда же мистер Мардон вернется к своим предложениям по преобразованию пансиона в акционерное общество. Сама того не желая, она сознательно попадалась Мардону на пути, предоставляя ему возможность вернуться к старому разговору. Прежде он не оставлял ее в покое надолго. Софья не сомневалась, что во время своей последней атаки мистер Мардон окончательно уверился, что его усилия не имеют ни малейших шансов на успех, и махнул на все рукой. Достаточно было одного слова Софьи, чтобы снова его заинтересовать. Один только намек при расчете, и он кинется уговаривать. Но Софья не могла произнести ни слова.
Потом она начала открыто признаваться, что чувствует себя плохо, что пансион ей не по силам и что врач настоятельно предписывает ей отдых. Софья говорила об этом со всеми, кроме Мардона. И почему-то никто не передал Мардону ни слова. Доктор посоветовал ей больше бывать на свежем воздухе, и после обеда Софья стала выезжать с Фосетт в Булонский лес. Наступил октябрь. Но мистер Мардон словно слыхом не слыхивал об этих прогулках.
Однажды утром он встретил Софью перед домом.
– Я с сожалением узнал, что вы больны, – доверительно сказал он, когда они поговорили о здоровье Фосетт.
– Больна? – воскликнула Софья, как будто отрицая это. – Да кто вам сказал?
– Жаклин. По ее словам, вы поговариваете о том, что вам нужна полная смена обстановки. И доктор, кажется, того же мнения.
– Ах эти доктора! – пробормотала Софья, не опровергая, однако, слова Жаклин. В глазах мистера Мардона мелькнула надежда.
– Вы, конечно, понимаете, – сказал он, еще более доверительным тоном, – что, если вы надумаете, я всегда готов создать небольшой синдикат, чтобы снять этот груз, – он неопределенно махнул рукой в сторону пансиона, – с ваших плеч.
Софья решительно покачала головой, и если учесть, что она уже неделями ожидала, когда с ней заговорит мистер Мардон, это было довольно странно.
– Совсем расставаться с пансионом необязательно, – сказал Мардон. – Вы могли бы сохранить свои полномочия. Мы бы сделали вас управляющей на жалованье, и вы получали бы свою долю прибылей. – Остались бы такой же хозяйкой, как сейчас.
– Ну! – беззаботно сказала Софья. – Если расставаться с пансионом, так расставаться. Не люблю полумер.
Эти слова положили конец пансиону Френшема как частному заведению. Софья это понимала. Мистер Мардон это понимал. Сердце мистера Мардона екнуло. В своем воображении он увидел, как образуется сначала синдикат с ним во главе и как затем пансион выгодно перепродается акционерному обществу. Мистер Мардон увидел, как в одно мгновение зарабатывает – и притом для себя лично – кругленькую сумму в тысячу, а то и больше франков. Цветок – его надежда, которую он успел похоронить, – расцвел как по волшебству.
– Хорошо, – сказал Мардон. – Расставаться так расставаться. Уходите на покой – вы его заслужили, миссис Скейлз.
Она снова покачала головой.
– Подумайте, – сказал мистер Мардон.
– Я дала вам ответ много лет назад, – упрямо ответила Софья, боясь, как бы он не поймал ее на слове.
– Прошу вас, подумайте, – повторил он. – Давайте через несколько дней вернемся к этому разговору.
– Бесполезно, – ответила Софья.
В своем невыразительном костюме он качающейся походкой двинулся по улице с достоинством, подобающим Льюису Мардону, величайшему комиссионеру по продаже домов, известному не только на Елисейских полях, но и по всей Европе и Америке.
Через несколько дней он вернулся к этому разговору.
– Только по одной причине я вообще веду эту беседу, – сказала Софья. – Эта причина – состояние здоровья моей сестры.
– Вашей сестры? – воскликнул Мардон. Он не знал, что у нее есть сестра. Софья никогда не говорила о своей семье.
– Да, ее письма меня тревожат.
– Она живет в Париже?
– Нет, в Стаффордшире. Она никогда оттуда не уезжала.
И чтобы сберечь свою гордость, Софья внушила мистеру Мардону, что Констанция тяжело больна, в то время как на самом деле у Констанции был только ишиас, да и то наполовину вылеченный.
Софья уступила.








