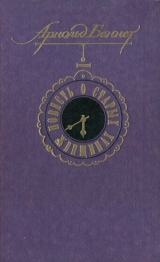
Текст книги "Повесть о старых женщинах"
Автор книги: Арнольд Беннет
Соавторы: Нина Михальская
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 51 страниц)
Он направился было к выходу, когда в дверях появился Сирил.
– Добрый день, мистер Кричлоу, – с застенчивой вежливостью сказал Сирил.
Мистер Кричлоу уставился на мальчика, потом несколько раз качнул головой, как бы говоря: «Еще один дурак растет! Так одно поколение следует за другим!» На приветствие он не ответил и удалился.
Сирил бросился в уголок, где сидела мать, и, проходя мимо ступенек, ведущих в мастерскую, швырнул на них свою сумку. Сняв шапку, он поцеловал мать, а она холодными пальцами расстегнула на нем пальто.
– Зачем приходил этот Мафусаил? – спросил он.
– Тише! – мягко заметила ему Констанция. – Он пришел, чтобы сообщить мне, что суд начался.
– О, я уже знаю об этом. Один мальчик купил газету, и я заглянул в нее. Послушайте, мама, а про папу напишут в газете? – и потом совсем другим тоном: – Мама, а что у нас к чаю?
Когда мальчик насытился тем, что было к чаю, он стал не закрывая рта говорить о судебном процессе, проявляя к нему беспредельный интерес. Он не сел за уроки, сказав: – Ничего не выйдет, мама. Не могу. – Они вместе вернулись в лавку, и Сирил каждую минуту подходил к двери, чтобы не пропустить крика газетчика. Вскоре он решил, что мальчишки, вероятно, объявляют о специальном выпуске «Сигнала» около ратуши, предав забвению Площадь св. Луки. И несмотря на уговоры, он решил пойти туда и убедиться во всем лично. Он отправился без пальто, пообещав, что будет бежать бегом. Все в лавке пребывали в состоянии тревожного ожидания. Своим беспрерывным движением по лавке мальчик создал там крайне напряженную обстановку. Казалось, жители города страшатся новых известий, но вместе с тем страстно желают получить их. Констанция рисовала в своем воображении Стаффорд, которого никогда не видела, и зал суда, которого никогда не видела, и мужа и Дэниела на суде. И ждала.
Прибежал Сирил.
– Нет! – объявил он, еле переводя дыхание. – Ничего еще нет!
– Не простудись, ты разгорячился, – предостерегла его Констанция.
Но он стоял у двери и немного спустя вновь убежал.
Не успел он уйти, как послышался, сначала издалека, слабый и неясный, потом, приблизившись, громкий и отчетливый крик продавца «Сигнала».
– А вот и газета! – сказала ученица.
– Ш-ш-ш! – прошептала Констанция, прислушиваясь.
– Ш-ш-ш! – повторила мисс Инсал.
– Да, да, это газета! – сказала Констанция. – Мисс Инсал, пойдите и возьмите газету. Вот – полпенни.
Монета быстро перешла из одной руки в наперстке в другую. Мисс Инсал засеменила к двери.
Она вернулась, с торжественным видом неся газету, которую Констанция схватила дрожащими руками. Она сперва никак не могла найти нужное сообщение. Мисс Инсал указала на него и прочла: «Заключительная речь судьи» – Ниже, ниже! – «После совещания, длившегося тридцать минут, совет присяжных вынес вердикт о виновности подсудимого в убийстве, присовокупив рекомендацию о помиловании. Судья надел черную шапочку{46} и провозгласил смертный приговор, добавив, что передаст рекомендацию в надлежащее место».
Вернулся Сирил.
– Нет еще! – начал он, но увидел на прилавке газету и сразу упал духом.
После закрытия лавки Констанция и Сирил долго сидели в нижней гостиной в ожидании хозяина дома. Констанция испытывала безысходное отчаяние. Вокруг себя она видела одну лишь смерть. Ее мучила мысль: беда никогда не приходит одна. Почему Сэмюел еще не вернулся? Она приготовила к его приезду все, что только могло подсказать ей воображение: еду, лекарства, согревающие средства. Эми не разрешили лечь спать – вдруг в ней возникнет нужда. Констанция даже не заикалась о том, чтобы Сирил отправился в постель. Часы на камине отсчитывали тяжкие, грозные минуты, и наконец, осталось всего пять минут, они пройдут, и Констанция вовсе уж не будет знать, как ей поступить.
Было двадцать пять минут двенадцатого. Если в половине двенадцатого Сэмюел не появится, значит, сегодня он не приедет, разве только последний поезд из Стаффорда прибудет с немыслимым опозданием.
Звук подъезжающего экипажа! Затих! Мать и сын вскочили.
Да, это был Сэмюел! Она вновь узрела его. Моральное и физическое состояние мужа привело ее в ужас. Его рослый, крепкий сын и Эми помогли ему подняться по лестнице. «Спустится ли он еще когда-нибудь по этой лестнице?» – такая мысль пронзила сердце Констанции. Боль мгновенно прошла, но нанесла рану ее здравому смыслу, который обычно противился истерическим страхам и даже немного их презирал. Когда она, задыхаясь под собственным весом, поднялась по лестнице, ей понадобилась огромная сила воли, чтобы обрести свойственную ей приятную веселость; ей казалось, что со всех сторон к ней подбираются ужасные беды.
Может быть, послать за доктором? Нет. Это было бы уступкой паническому настроению. Она сама отлично знала, что происходит с Сэмюелом: у него сильнейший, запущенный кашель, и ничего более. Она частенько говорила своим собеседникам: «По-настоящему он никогда не болеет». И все же, каким слабым и хрупким он выглядел, когда она укладывала его в постель и поила горячим молоком с сахаром и вином! Он был так измучен, что даже не сказал ничего о суде.
«Если завтра ему не полегчает, я все-таки пошлю за доктором!» – молча решила она. Она поклялась себе, что, если он попытается встать, она удержит его в постели силой.
На следующее утро она встала довольная и гордая тем, что не поддалась страху, – ему стало просто до удивления лучше. Ночью он крепко спал, да и ей удалось немного поспать. Правда, Дэниел приговорен к смерти! Но оставив Дэниела на произвол судьбы, она почувствовала, что сердце ее полнится радостью. Как нелепо было спрашивать себя, «спустится ли он еще когда-нибудь по этой лестнице».
Из заброшенной в то утро лавки ей сообщили, что к мистеру Пови пришел мистер Лотон. Сэмюел собрался было встать, но она запретила ему, да еще таким тоном, каким говорит женщина, когда становится опасной, и Сэмюел проявил благоразумие. Он сказал, что мистера Лотона надо пригласить наверх. Она оглядела спальную. Все было на месте, в полном соответствии с ее представлением о комнате больного. Она согласилась впустить сюда человека другого круга и, пробыв здесь положенные минуты, оставила их вдвоем. Визит молодого Лотона наглядно подтверждал значительность Сэмюела и обсуждаемого ими дела. Столь торжественное событие требовало соблюдения этикета, а этикет гласил: жена должна покинуть общество мужа, когда ему предстоит заняться делами, выходящими за пределы ее компетенции.
Во время этой встречи возникла идея направить прошение министру внутренних дел, и еще до захода солнца она облетела весь город, все Пять Городов, и появилась в «Сигнале». «Сигнал» назвал Дэниела Пови «обреченным человеком». Это выражение заставило весь округ с возмущением требовать отсрочки приведения смертного приговора в исполнение. Округ вдруг осознал, что городской советник, видная фигура, честный коммерсант с незапятнанной репутацией, сидит взаперти в одиночной камере и ждет, когда его повесят. Округ решил, что этого быть не может и не должно. Как же так! Ведь Дэн Пови был одно время председателем Городского общества по борьбе с преступниками, этой ассоциации, члены которой ежегодно встречались за пиршественным столом, в шутку называя друг друга «преступниками»! Невероятно, чудовищно, чтобы экс-председатель «Преступников» оказался злодеем, приговоренным к смерти!
В общем, бояться нечего. Ни один министр внутренних дел не посмеет пойти против рекомендации суда присяжных и волеизъявления всего округа. Кроме того, племянник министра внутренних дел был членом парламента от Найпа. Вердикт присяжных о виновности был, безусловно, неизбежен. Теперь это признавали все. Даже Сэмюел и самые ярые сторонники Дэниела Пови признавали это. Они высказывались так, будто все время предвидели подобный исход, хотя лишь накануне утверждали обратное. Без колебаний или стыда они вдруг изменили свою точку зрения. Как это часто бывает, здание слепой веры рухнуло под натиском реальной действительности, а извращенные, не свойственные англичанам взгляды, которые, будь они изложены на сутки раньше, привели бы к изгнанию их носителя из общества, теперь внезапно оказались просто банальными убеждениями Площади и рынка.
Подать прошение нужно было немедленно, потому что в распоряжении осужденного оставалось всего три воскресенья. Но задержка произошла уже в самом начале, ибо ни молодой Лотон, ни его коллеги не имели представления, по какой форме принято писать прошения об отсрочке приведения в исполнение смертного приговора на имя министра внутренних дел. Никто не помнил, чтобы в этом округе когда-нибудь было написано подобное прошение. Сначала молодому Лотону нигде, ни в Пяти Городах, ни в других округах, не удавалось взглянуть на такое прошение или получить его на руки. Несомненно, такая форма должна существовать, и, несомненно, применить нужно только эту форму. Ни у кого не хватало смелости предложить, чтобы молодой Лотон начал прошение словами: «Благороднейшему маркизу Вельвину, кавалеру ордена Бани. Да будет благоугодно Вашей Светлости…» и завершил его словами: «Ваши просители будут вечно молиться за Вас!», а между этими фразами вставил бы просьбу об отсрочке приведения в исполнение смертного приговора с указанием мотивов. Нет! Нужно непременно найти форму, освященную традицией. И после того как Дэниел на полтора дня приблизился к своему концу, ее нашли. У адвоката из Эника оказался образец прошения, в ответ на которое убийце из Нортумберленда смертную казнь заменили двадцатью годами каторжных работ. Главные инициаторы обращения к министру уверовали, что Дэниел почти спасен. Были напечатаны сотни бланков для подписей, потом эти бланки разложили на прилавках всех крупных торговых заведений не только в Берсли, но и в других городах. Их можно было также найти в редакции «Сигнала», в комнатах ожидания на вокзалах и в различных читальных залах, а во второе воскресенье, предоставленное Дэниелу, они были выставлены на папертях англиканских и неангликанских храмов и часовен. Церковные старосты и служители приходили к Сэмюелу и с тупым однообразием задавали один и тот же вопрос: «А как насчет перьев и чернил, сэр?» У этих должностных лиц был такой вид, как будто они бесстрашно нарушают вековую традицию во имя того, чтобы совершить благодеяние.
Здоровье Сэмюела постепенно восстанавливалось. Кашель стал слабее, а аппетит улучшился. Констанция разрешила ему расположиться в гостиной, где камин давал особенно много тепла. Отсюда, сидя в старом зимнем пальто, он руководил великим сражением за петицию, которое ширилось с каждым днем. Сэмюел мечтал собрать двадцать тысяч подписей. На каждом листе помещалось двадцать подписей, и он несколько раз в день пересчитывал эти листы; однажды бланков не хватило, и Констанции пришлось лично посетить печатников, чтобы заказать дополнительные экземпляры. Беззаботность типографщиков привела Сэмюела в неистовство. Он пообещал Сирилу по шесть пенсов за каждый заполненный подписями лист, который ему удастся получить. Сначала Сирил стеснялся собирать подписи, но отец пристыдил его, и через несколько часов Сирил превратился в настойчивого сборщика. Однажды он не пошел в школу и целый день занимался сбором подписей. Он уже заработал пятнадцать шиллингов, причем совершенно честно, если не считать того, что нашел себе компаньона, который подделал две-три подписи, не указав адреса в конце последней страницы, и получил щедрое вознаграждение в шесть пенсов, то есть плату за целый лист.
Когда Сэмюел получил тысячу листов с двадцатью тысячами подписей, он возжелал добиться двадцати пяти тысяч. Он также объявил, что твердо намерен сопровождать молодого Лотона с прошением в Лондон. Таким образом, это прошение оказалось одним из самых примечательных прошений современности. Во всяком случае, такое определение дал ему «Сигнал». «Сигнал» ежедневно помещал на своих страницах отчет об успехах в сборе подписей, успехи были поразительными. На некоторых улицах прошение подписали все домовладельцы. Первые листы были оставлены для подписей членов парламента, священнослужителей, гражданских сановников, мировых судей и т. п. Эти листы были великодушно заполнены. Первым свою подпись поставил пожилой священник англиканской церкви в Берсли, после него, как и положено, – мэр Берсли, а потом – разные члены парламента.
Из гостиной вышел Сэмюел. Он пошел в нижнюю гостиную, а потом в лавку, но ничего худого не воспоследовало. Кашель у него не совсем, но почти прекратился. Погода стояла для этого времени года удивительно теплая. Он повторил, что должен ехать с петицией в Лондон, и поехал. Констанции не удалось найти веских доводов для возражений. Она тоже была несколько увлечена историей с прошением, которое весило значительно более ста фунтов. В Лондоне была своевременно получена венчающая документ подпись члена парламента от Найпа, и единственным разочарованием для Сэмюела послужило то, что до задуманных двадцати пяти тысяч подписей не хватало нескольких десятков. Их можно было бы получить, если бы столь настоятельно не торопило время. Сэмюел вернулся из Лондона знаменитым, уверенным в себе человеком, но кашель у него вновь усилился.
Его убежденность в силе общественного мнения и в присущей правосудию справедливости могла бы оказаться уместной, если бы тогдашний министр внутренних дел не был одним из пресловутых человеколюбивых должностных лиц. В правящих кругах маркиз Вельвин славился своими человеколюбивыми побуждениями, которые вели постоянную борьбу с его чувством долга. К сожалению, чувство долга, которое он унаследовал от многих поколений своих предков, почти при всех стычках оказывало разрушающее действие на его человеколюбивые побуждения. Говорили, что впоследствии он ужасно страдает. Страдали и другие, ибо не было известно ни одного случая, когда он рекомендовал бы отменить наказание розгами. Некоторые смертные приговоры он заменил другими наказаниями, но в отношении Дэниела Пови он этого не сделал. Он не мог допустить, чтобы на него оказала влияние волна народных чувств, а тем более – подпись его племянника. Он подверг это дело, как и все другие, терпеливому, беспристрастному изучению. Он провел ночь без сна, пытаясь найти основания для того, чтобы уступить своим человеколюбивым побуждениям, но безуспешно. Как отметил судья Линдли в своем конфиденциальном сообщении, единственными аргументами в пользу Дэниела были всеобщее возбуждение и его прежняя превосходная репутация, но эти аргументы несостоятельны. Общее возбуждение – аргумент совершенно непригодный, а прежняя превосходная репутация как аргумент может лишь вызвать недоумение, поскольку к делу никакого касательства не имеет. Так что еще раз человеколюбивые побуждения маркиза потерпели поражение, и он ужасно страдал.
В воскресенье утром Констанция и Сирил стояли рядом у окна большой спальной: накануне «Сигнал» опубликовал меню последнего завтрака Дэниела Пови и точные сведения об установленной для него палачом длине веревки. На мальчике был его лучший костюм, но одежда Констанции отнюдь не выглядела нарядной. На старое, ставшее ей тесным платье она надела большой передник. Лицо у нее было бледное, вид – больной.
– Ой, мама! – внезапно воскликнул Сирил. – Слышите? По-моему, играет оркестр.
Она остановила его безмолвным движением губ, и они оба с беспокойством взглянули на кровать, откуда не доносилось ни звука, при этом Сирил жестом извинился за то, что забыл о необходимости соблюдать тишину.
Звуки оркестра, двигавшегося в направлении церкви св. Луки, доносились с Кинг-стрит. Казалось, они надолго задержались где-то вдалеке, но потом приблизились, стали громче, и городской оркестр Берсли, награжденный серебряным призом, прошел мимо окна торжественным шагом под звуки траурного марша из «Саула» Генделя. Под влиянием этого реквиема, исполненного своей особой красоты, связанного с тягостными традициями, из глаз Констанции потекли слезы, и она рухнула на стул. Хотя щеки у трубачей были надуты, хотя барабанщику приходилось выставлять живот и отклоняться назад, чтобы не наткнуться на свой барабан, поступь оркестра оставалась величественной. От дроби барабана, заполняющей паузы в игре оркестра, сердце щемила тоска, но тоска возвышенная, и погребальная мелодия, казалось, сплетала пурпурную пелену, предохраняющую от всего дурного.
Не все музыканты были в черном, но все прикрепили на рукав креп и повязали крепом свои инструменты. К шляпам были приколоты карточки с траурной каймой. Сирил держал в руках одну из таких карточек. Она гласила:
Памяти
ДЭНИЕЛА ПОВИ
Городского советника этого города
Убиенного по приговору суда в 8 часов утра 8-го февраля 1888
«Грех, совершенный против него, тяжелее его грехов»
Вслед за оркестром шел с обнаженной головой пожилой приходский священник англиканской церкви в стихаре, надетом поверх пальто; его редкие седые волосы растрепал легкий ветерок, резвившийся в нежарких лучах солнца; скрестив руки, он прижимал к себе книгу с золотым обрезом. За ним следовали второй священник, церковные старосты и их помощники. А за ними, тяжело ступая по черной грязи и извиваясь, тянулась процессия, которой, казалось, нет конца, состоявшая из огромного множества лиц мужеского пола; все они были в трауре, и у всех, кроме господ более аристократического происхождения, к шляпам были приколоты траурные карточки. Фланеры, женщины и дети сгрудились на просыхающих тротуарах, а в окне, как раз напротив Констанции, красовались лица всех членов семьи хозяина «Солнечных погребов». В большой пивной зале буфетчик вытянул шею над деревянной перегородкой, которая обеспечивала посетителям покой и уединение. Процессия двигалась нескончаемой вереницей, то поднимаясь на вал Кинг-стрит, то исчезая за углом Площади св. Луки; время от времени мелькали священник англиканской церкви, пастор-диссентер, городской глашатай, кучка штейгеров или несколько стрелков добровольческого стрелкового корпуса. По мере удлинения процессии увеличивалась толпа зрителей. Потом послышались звуки другого оркестра, исполнявшего тот же марш из «Саула». Первый оркестр уже добрался до верхней части Площади, и на Кинг-стрит его почти не было слышно. Искристое сверкание траурных карточек, приколотых к шляпам, создавало на солнце причудливый образ невероятной серебристой змеи, плутающей по городу. Хвост змеи показался лишь через три четверти часа, к нему прилипла толпа чумазых мальчишек, заполнившая всю улицу.
– Я подойду к окну гостиной, мама, – сказал Сирил.
Она кивнула головой и на цыпочках вышла из спальной.
Площадь св. Луки превратилась в море шляп и траурных карточек. Большинство обитателей Площади вывесило приспущенные флаги, приспущенный флаг развевался и над находившейся в отдалении ратушей. Во всех окнах стояли зрители. В верхней части Площади оба оркестра соединились, а позади них на платформе, принадлежавшей Северной стаффордширской железной дороге, стоял одетый в белое священник англиканской Церкви и несколько фигур в черном. Священник говорил, но его слабый голос был слышен лишь тем, кто стоял близ платформы.
Таков был бурный протест Берсли против жестокой, по мнению города, несправедливости. Казнь Дэниела Пови вызвала в городе самое искреннее негодование. Эта казнь явилась не только выражением несправедливости, но и оскорблением, унизительной пощечиной. И самым худшим оказалось то, что вся остальная страна не проявила сочувственного отношения к этой истории. Более того, некоторые лондонские газеты, мимоходом освещая это событие, осудили нравственный облик и поведение Пяти Городов, заявив, что округ нарушил Десять заповедей. Это привело жителей Берсли в состояние ярости и способствовало бурному взрыву чувств, достигшему высшей точки на Площади св. Луки, которую заполнили люди с траурными карточками на шляпах. Вряд ли демонстрацию организовали заранее, она возникла стихийно в молитвенных домах и некоторых клубах. Демонстрация оказалась чрезвычайно успешной. На Площади находилось семь или восемь тысяч людей; досадно, что на это зрелище не удалось взглянуть всей Англии. После казни слона не произошло ничего, что так сильно потрясло бы Берсли. У Констанции, которая вскоре перешла из спальной в гостиную, мелькнула мысль, что смерть и похороны почтенного деда Сирила, хотя и были примечательным событием, не вызвали и десятой доли того волнения, какое она наблюдала сейчас. Но ведь Джон Бейнс никого не убивал.
Все ощутили, что священник говорит слишком долго. Но, в конце концов, он завершил свою речь. Оркестры исполнили славословие{47}, и огромные толпы людей стали растекаться по восьми улицам, расходившимся от Площади. В это время часы пробили один удар, и с обычной замечательной точностью открылись трактиры. Добропорядочные горожане, естественно, не обращали внимания на трактиры и торопились домой, не поспевая к обеду. Но в городе, где живет более тридцати тысяч душ, всегда хватает шалопаев, чтобы заполнить трактиры под влиянием возбуждения, вызванного ритуальными церемониями. Констанции был виден пивной зал Погребов, до отказа набитый особами, которые не обладали идеальным чувством благопристойности. Буфетчику, хозяину и членам его семьи с огромным трудом удавалось утолить жажду, вызванную похоронами. Констанция во время легкого обеда в спальной стала невольной свидетельницей этой оргии. Особенно бросался в глаза стоявший у прилавка музыкант из оркестра со своим серебряным инструментом. Без пяти минут три Погреба изрыгнули толпу кутил, которые двигались по тротуару, как по канату, среди них был и музыкант со своим серебряным инструментом, кое-как засунутым в чехол из зеленой саржи. Он приобрел устойчивость, лишь оказавшись в канаве. Никто не обратил бы на это особого внимания, если бы он не был музыкантом. Буфетчик и хозяин вытолкали пьянчугу на улицу и заперли дверь на засов (до шести часов) как раз тогда, когда мимо проходил полицейский. Это был первый полицейский, показавшийся в тот день на улице. По слухам, подобные же сцены происходили и у дверей других питейных заведений. Благоразумных людей это очень огорчило.








