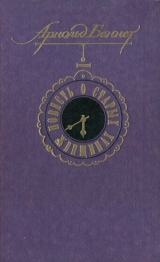
Текст книги "Повесть о старых женщинах"
Автор книги: Арнольд Беннет
Соавторы: Нина Михальская
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 51 страниц)
У Софьи все еще оставалось около ста фунтов, и если бы она захотела уехать из Парижа или из Франции, ничто не могло бы ей помешать. Быть может, если бы ей случилось побывать на вокзале Сен-Лазар или на Северном вокзале, вид десятков тысяч людей, устремившихся к морю, мог бы пробудить в ней желание вместе с ними бежать от приближающейся неясной опасности. Но на вокзалах она не бывала: у нее было слишком много забот, связанных с мосье Ньепсом, бакалейщиком. Кроме того, она не пошла бы на то, чтобы расстаться с мебелью, которая казалась ей своего рода якорем. С обставленной квартирой, как ей думалось, она сумеет найти средства к существованию; в сущности, она уже встала на путь к независимости. Софья страстно желала обрести независимость, использовать себе на благо здравый смысл, упорство, предусмотрительность и организаторский талант, которыми, как она знала, она наделена и которые пока оставались без применения. Мысль о бегстве была ей ненавистна.
Ширак появился так же внезапно, как и исчез: он уезжал по поручению своей газеты. На словах он уговаривал ее уехать, но его глаза говорили другое. Однажды днем он пришел в настоящее отчаяние, которое не осмелился бы обнаружить, если бы Софья не внушала ему величайшего доверия.
– Они войдут в Париж, – сказал он. – Ничто не может их остановить. И тогда…
Ширак цинично засмеялся. Но когда он стал уговаривать ее уехать, она сказала:
– А как же моя мебель? К тому же я обещала мосье Ньепсу, что присмотрю за ним.
Тогда Ширак признался ей, что остался без квартиры и был бы рад снять одну из ее комнат. Софья согласилась.
Вскоре после этого он представил ей своего знакомого, господина средних лет по фамилии Карлье, ответственного секретаря его газеты, который тоже хотел снять комнату. Так, благодаря счастливому стечению обстоятельств, Софья быстро сдала все три комнаты и обеспечила себе больше двухсот франков в месяц, не считая дохода от приготовления пищи. Теперь уже Ширак, как и его приятель, был полон оптимизма и с абсолютной уверенностью повторял, что Париж никогда не будет сдан. Впрочем, Софья не поверила Шираку. Она верила другому Шираку – Шираку, впавшему в отчаяние. У нее не было ни информации, ни общих соображений, чтобы оправдать свой пессимизм, ничего, кроме внутреннего убеждения, что народ, способный вести себя так, как это было на площади Согласия, обречен на поражение. Она любила французов, и в трудную пору весь ее тевтонский здравый смысл готов был прийти на помощь этому народу и возмущался тем, что французский народ совершенно не способен помочь самому себе.
Софья предоставила мужчинам разговаривать, а сама, с презрительной небрежностью отнесясь к их пересудам и надеждам, продолжала заниматься домашней работой. В эту пору, утомленная и измотанная новой для нее ответственностью, не желая ударить в грязь лицом, Софья чувствовала себя счастливей, чем когда-либо, просто потому, что она ни от кого не зависела и в ее жизни появилась цель. Она понятия не имела о военной и политической обстановке: обстановка ее не интересовала. Что ее интересовало, так это то, что ей полностью или частично нужно прокормить троих мужчин, а цены на продукты растут. Она запаслась провизией. Она купила десять бушелей картофеля по франку за бушель и еще столько же по франку с четвертью, то есть вдвое дороже обычной цены, десять окороков по два с половиной франка за фунт, множество консервированных овощей и фруктов, мешок муки, рис, галеты, кофе, лионской колбасы, чернослива, сушеных фиг, много дров и угля. Но главным ее приобретением был сыр, о котором ее мать говаривала, что если есть вода, хлеб и сыр, все будут сыты. Большую часть продуктов она купила у своего бакалейщика. Все, кроме муки и галет, Софья спрятала в погреб, закрепленный за ее квартирой. Спустя несколько дней (поскольку парижские мастеровые были слишком воодушевлены установлением республики, чтобы сразу взяться за работу) она вставила в дверь погреба новый замок. Все в доме были поражены ее энергией, все восхищались, но никто не следовал ее примеру.
Однажды утром, выйдя за покупками, она обнаружила на закрытой ставнями витрине молочной на рю Нотр-Дам-де-Лорет объявление: «Закрыто. Молока нет». Осада началась. Для Софьи осаду олицетворяла закрытая молочная и то, что цена яиц поднялась до пяти су за штуку. Софья отправилась в другую молочную, но там с нее взяли франк за яйцо. В тот вечер она сообщила своим постояльцам, что будет брать с них за пансион вдвое и что если кто-то из них считает, что может так же хорошо питаться в другом месте, он вправе перестать у нее столоваться. Ее положение упрочилось с появлением еще одного претендента на комнату – друга Ньепса. Софья сразу предложила ему собственную спальную за сто пятьдесят франков в месяц.
– Вы видите, – сказала она, – здесь есть даже пианино.
– Но я не играю на пианино, – возразил претендент, пораженный ценой.
– Это не моя вина, – ответила она.
Он согласился на цену, запрошенную Софьей, поскольку стол у нее был хорош и куда дешевле, чем в ресторане. Как и мосье Ньепс, он был «осадным вдовцом» – его жена нашла себе убежище в Бретани. Софья переселилась в комнату для прислуги на седьмом этаже. В этой комнатенке – семь футов на девять – не было окна, только чердачное окошко. Но Софья прекрасно понимала, что даже после всех расходов у нее останется прибыль в четыре фунта в неделю.
В тот день, когда она устроилась в этой каморке, в мире прислуги и бедноты, Софья проработала до глубокой ночи, и колеблющийся свет ее свечки то появлялся, то исчезал в слуховом окошке на фоне черного неба – время от времени она то сбегала вниз, то поднималась вверх по лестнице со свечой. Софья и не подозревала, что постепенно перед домом на тротуаре собралась толпа; около часа ночи взвод солдат разбудил консьержа и рассыпался по двору, а в каждом окне внезапно появились головы. От Софьи потребовали доказательств, что она не шпионка и не подавала сигналов пруссакам. Прошло три четверти часа, пока ее невиновность была установлена, после чего люди в форме и всклокоченные любопытные соседи очистили лестницу. В глазах Софьи немыслимая, детская нелепость этого подозрения окончательно подорвала репутацию французов как людей здравомыслящих. На следующий день Софья была чрезвычайно язвительна со своими постояльцами. Если не считать этого эпизода, множества людей в военной форме на улицах, цен на продукты и того факта, что, по крайней мере, на каждом четвертом доме развевался либо флаг красного креста, либо флаг иностранного посольства (вывешенный в абсурдной надежде предотвратить близящийся обстрел), Софья осады не замечала. Мужчины нередко говорили о дежурствах в национальной гвардии и отправлялись на день-другой на линию обороны, но Софья была слишком занята, чтобы внимательно слушать их разговоры. Она думала только о своем деле, поглощавшем все ее силы. Софья вставала в шесть утра, затемно, а к половине восьмого подавала мосье Ньепсу и его приятелю завтрак и успевала покончить со многими другими делами. В восемь она шла на рынок. Объясняя, зачем она продолжает закупать по высоким ценам провизию, запас которой у нее уже есть, она обыкновенно говорила: «Пригодится, когда продукты еще вздорожают». Французам это казалась вершиной практичности.
Пятнадцатого октября Софья выплатила квартирную плату за квартал, четыреста франков, и была признана владелицей помещения. Ее слух очень быстро привык к канонаде, и ей казалось, что она всегда жила в Париже, а Париж всегда был в осаде. Она не задумывалась о том, чем кончится осада, а просто жила – жила день за днем. Иногда у нее случались приступы страха, когда грохот пушек на мгновение усиливался или когда она узнавала, что идут бои в каком-нибудь предместье. Но она успокаивала себя тем, что нелепо бояться, когда разделяешь судьбу двух миллионов человек, которым уготовано то же будущее, что и тебе. Софья со всем смирилась. Она даже полюбила свою каморку, отчасти потому, что в ней легко было натопить (проблема топлива в Париже становилась все острее), отчасти же потому, что здесь ей никто не мешал. Ведь внизу, в квартире, из-за обилия дверей все, что говорилось или делалось в одной комнате, было слышно во всех остальных.
В первой половине ноября жизнь Софьи стала размеренной и почти идеально монотонной. Изо дня в день слегка колебалось лишь число блюд, предлагаемых жильцам. Еду подавала поденщица прямо в комнаты – исключение иногда делалось только для ужина. Софья почти не показывалась в квартире, разве что во второй половине дня. Хотя она все больше брала с жильцов и ее запасы окупались теперь с небывалой прибылью, ее цены все же оставались ниже городских. Софью возмущала спекуляция парижских лавочников, которые придерживали огромные запасы провизии, чтобы взвинтить цены. Но сила их примера была слишком велика, чтобы полностью им пренебречь, Софья удовлетворялась половинной прибылью. Только с мосье Ньепса она брала больше, чем с других, поскольку он сам был лавочником. Четверо мужчин ценили свое райское житье. В них появилось то приятное ощущение уверенности в завтрашнем дне, которое только тогда возникает у холостяков, когда хозяйка их квартиры соединяет в себе честность, энергию и пристрастие к чистоте. У входной двери Софья повесила грифельную доску, на которой жильцы записывали свои пожелания насчет меню, стирки, времени, когда их следует разбудить, и т. п. Софья никогда ничего не забывала и не путала. Отлаженность домашнего механизма поражала жильцов, которые привыкли к совсем другим порядкам и каждый день выслушивали от своих знакомых душераздирающие истории о неопрятности и жульничестве квартирных хозяек. Им даже нравилось, что Софья берет с них дорого, хотя и не очень дорого. Их восхищало, что Софья заранее сообщала им о том, что сколько будет стоить, и даже давала им советы, как избежать лишних расходов, особенно по отоплению. Каждому жильцу Софья выдала теплый коврик, чтобы в комнатах можно было безболезненно обойтись одними маленькими жаровнями для рук. Естественно, мужчины считали ее чудом и совершенством. Они приписывали ей одни достоинства. Послушать их, такой женщины еще не было в истории человечества, да и быть не могло! Среди их друзей она стала легендой: молодая элегантная женщина, писаная красавица, гордая, величественная, неприступная, почти неуловимая, великолепная хозяйка, превосходная кулинарка, создательница причудливых английских блюд, образец надежности, образец точности, образец аккуратности!.. Их умилял легкий английский акцент, придававший слегка экзотическое звучание ее правильной, свободной и богатой французской речи. Короче, Софья была для них совершенством, идеальной женщиной. Что она ни делала, все было правильно.
А она каждый вечер поднималась в свою каморку, утомленная физически, но с головой достаточно ясной, чтобы еще привести в порядок счета и пересчитать деньги. Этим она занималась, лежа в постели и надев толстые перчатки. И если часто ей плохо спалось, то не из-за отдаленной канонады, а из-за того, что ей не давали покоя финансы. Она делала деньги и хотела сделать как можно больше. Она непрестанно искала способов сэкономить. Ей так хотелось независимости, что она ни на минуту не могла забыть о деньгах. Она полюбила золото, полюбила его копить и не хотела его тратить.
Однажды утром не пришла поденщица, которая, по счастью, была почти столь же пунктуальна, как и Софья. Когда подошло время подавать завтрак мосье Ньепсу, Софья заколебалась, но потом решила сделать это сама. Она постучала в дверь старого лавочника и решительно вошла с подносом и свечой. Увидев ее, мосье Ньепс вздрогнул от неожиданности – хотя на ней был синий фартук, как на поденщице, принять Софью за поденщицу было невозможно. В постели Ньепс казался старше, чем в полном облачении. Вид у него был довольно смехотворный и совсем не солидный, как и у большинства стариков, еще не закончивших утренний туалет; ночной колпак тоже его не красил. Его округлое брюшко выпирало из-под одеяла, на которое, тепла ради, была навалена одежда отнюдь не царственного вида. Софья внутренне усмехнулась, но презрение, выражавшееся этой тайной улыбкой, смягчилось при мысли о том, что перед ней несчастный старик. В скупых словах она объяснила ему, что поденщица, видимо, заболела. Ньепс кашлянул и смущенно пошевелился. Когда она установила поднос рядом с кроватью, его незлобливое и простодушное лицо просияло отеческой улыбкой.
– Нужно хоть на минутку приоткрыть окно, – сказала Софья и отворила створку. Через закрытые ставни в комнату ворвался свежий воздух, и старый лавочник поежился. Открыв ставни, Софья затворила окно, а затем проделала то же с двумя другими окнами. В комнате стало светло.
– Свечка вам больше не нужна, – сказала она и подошла к кровати, чтобы задуть ее.
Благосклонным, отеческим жестом старый лавочник приобнял ее за талию. На какое-то мгновение этот жест ошеломил Софью, только что вдохнувшую бодрящий чистый воздух и всего минуту назад подивившуюся смехотворному виду старика. Прежде она не задумывалась о темпераменте бакалейщика, пожилого мужа молоденькой жены. Ей не всегда удавалось внутренне оценить, как действует на мужчин ее блеск, особенно при таких обстоятельствах. Но секунду спустя в ней проснулся не по годам развившийся цинизм. «Ну конечно! Этого можно было ожидать!» – подумала Софья с глубоким презрением.
– Уберите руки! – не шевельнувшись, холодно сказала она добродушному старому дурню.
Ньепс покорно отпустил ее.
– Вы хотите жить здесь и дальше? – спросила она и, поскольку он на мгновение замялся, повелительно добавила: – Отвечайте же!
– Да, – сказал Ньепс робко.
– Тогда ведите себя как следует.
Софья направилась к дверям.
– Я хотел только… – пробормотал он.
– Знать не желаю, чего вы хотели, – отрезала она.
Выйдя от Ньепса, она подумала, что другие жильцы, наверное, могли услышать этот разговор. Подносы с их завтраками она оставила у дверей и так же поступала впоследствии с завтраком Ньепса.
Поденщица так больше и не появилась. Она заразилась оспой и умерла, потеряв таким образом хорошее место. Как ни странно, Софья не взяла другой прислуги – слишком велик был соблазн сэкономить на жалованье и еде. Софья, однако, не могла часами простаивать с другими женщинами в длинных очередях к булочнику и мяснику, чтобы получить хлебный паек на день и мясной – на три недели. За два су в час она наняла сына консьержа, чтобы выполнять эту работу.
Иногда мальчик возвращался с иззябшими до синевы руками и едва мог удержать драгоценные карточки, по которым выдавался паек и ради которых Ширак каждую неделю простаивал в муниципальных учреждениях по часу, а то и по два. Софья могла бы прокормить своих подопечных и не получая официальных пайков, но не могла пренебречь той экономией, которую воплощали карточки. Она потребовала у жильцов выдать мальчику теплую одежду и получила ботинки у Ширака, перчатки у Карлье и пальто у Ньепса. Дни делались все холоднее, продукты – все дороже. В один прекрасный день Софья продала жене аптекаря со второго этажа окорок, который когда-то купила менее, чем за тридцать франков, и выручила сто десять франков. Она испытала прилив восторга, когда за обычный окорок получила красивую сотенную бумажку и золотую монету в придачу. К этому времени ее капитал составил почти пять тысяч. Изумительно! А припасы в погребе все еще были велики, и мешок с мукой, загромождавший кухню, не истощился даже наполовину. Когда Софья, переутомленная и столь поглощенная собственными делами, что у нее не осталось нервной энергии на переживания, узнала о смерти поденщицы, преданной слуги, это почти ее не тронуло. И поденщица, вместе с которой Софья изо дня в день проводила на кухне долгие часы, так что, казалось, помнила каждую морщину на ее лице и каждую складку на юбке, была забыта начисто.
Утром Софья убирала две комнаты, и еще две – во вторую половину дня. Ей случалось жить в гостиницах, где на одну горничную приходилось пятнадцать комнат, и Софья считала, что должна справиться с четырьмя в промежутках между готовкой и прочей работой! Это служило ей предлогом, чтобы не нанимать новую поденщицу. Как-то раз после обеда она натирала медные дверные ручки в комнате мосье Ньепса, когда неожиданно бакалейщик вернулся домой.
Софья сурово посмотрела на старика. Вид у него был смущенный. В квартиру он проник бесшумно. Софья вспомнила, что в ответ на его расспросы сказала ему, что теперь убирает его комнату в послеобеденное время. Зачем он вернулся из лавки? Ньепс со стариковской аккуратностью повесил шляпу на вешалку за дверью. Затем он снял пальто и потер руки.
– Хорошо, что вы в перчатках, мадам, – сказал он. – Собачий холод.
– Я ношу перчатки не потому, что холодно, – ответила Софья. – Я не хочу испортить руки.
– Ах, вот оно что? Прекрасно! Прекрасно! Не выдадите ли вы мне дров? Я возьму их сам. Не хочу вас утруждать.
Софья отвергла его помощь и, принеся дрова из кухни, пересчитала их в его присутствии.
– Разжечь огонь? – спросила она.
– Я сам, – сказал Ньепс.
– Дайте мне, пожалуйста, спички.
Пока Софья укладывала дрова в растопку, он сказал:
– Мадам, прошу вас выслушать меня.
– В чем дело?
– Не сердитесь, – сказал лавочник. – Разве я не доказал, что отношусь к вам с почтением? Я почитаю вас по-прежнему. Питая к вам глубокое уважение, должен сказать, что я люблю вас, мадам. Нет, умоляю вас, дослушайте до конца!
Софья, надо сказать, оставалась совершенно спокойной.
– Да, у меня есть жена. Но что поделаешь! Жена далеко. Я безумно люблю вас, – продолжал он почтительным тоном. – Я знаю, что стар, но зато я богат. Я знаю ваш характер. Вы – настоящая леди, вы решительны, прямодушны, искренни, вы – деловая женщина. Я питаю к вам глубочайшее уважение. Ни с какой другой женщиной нельзя было бы говорить так откровенно. Вы любите прямоту и искренность. Мадам, если вы будете ко мне благосклонны, я буду выдавать вам две тысячи франков помесячно плюс все, что вы выберете у меня в лавке. Я страшно одинок, мне нужно общество прелестного существа, которое отнесется ко мне с нежностью. Две тысячи франков в месяц. Это приличные деньги.
Ньепс утер рукой свою сверкающую лысину.
Софья стояла на коленях у камина. Она обернулась к лавочнику.
– Вы все сказали? – спокойно спросила она.
– Вы можете положиться на мою скромность, – прошептал бакалейщик. – Вы женщина порядочная. Я буду приходить к вам на седьмой этаж поздно ночью. Это устроить нетрудно… Вы видите, я говорю напрямик, как вы привыкли.
Софья испытывала желание возмутиться и выгнать его из квартиры, но желание это не было искренним. Ньепс – старый болван. Так с ним и следует обращаться.
Относиться к нему всерьез – нелепо. Кроме того, он приносит хороший доход.
– Не глупите, – с бессердечным спокойствием сказала она. – Не будьте старым дураком.
И на глазах у добродушного, хоть и недалекого, старого распутника очаровательная Софья, в ловко подвязанном фартуке и немыслимых перчатках, промелькнула по комнате и исчезла. Бакалейщик спустился к себе в лавку, оставив гореть дорогостоящие дрова в пустой комнате.
Софья рассердилась на Ньепса. Очевидно, он запланировал разговор заранее. Умея быть почтительным, он явно умел и схитрить. Однако, по ее мнению, все эти французы были как на подбор – препротивные, а значит, не стоит огорчаться из-за того, что им всем свойственно. Они просто-напросто бесстыдники, и она мудро поступила, когда устроилась подальше от них, на седьмом этаже. Оставалось надеяться, что другие постояльцы не стали свидетелями вопиющей наглости Ньепса. Правда, Софье показалось, что в это время Ширак был у себя в комнате и работал.
В ту ночь пушки молчали, и Софья никак не могла заснуть. Потом, задремав, она внезапно проснулась и зажгла спичку, чтобы посмотреть, который час. Часы стояли. Она забыла завести их с вечера – свидетельство того, что разговор с бакалейщиком взволновал ее сильнее, чем ей самой показалось. Она не могла сказать, сколько времени проспала. Сейчас могло быть и два часа, и шесть. Придется вставать! Она вылезла из постели и оделась на случай, если, как она опасалась, уже наступило утро, и тихонько спустилась за свечой по скрипучей лестнице. На лестнице ей стало ясно, что еще глубокая ночь, и Софья стала ступать еще осторожнее. Тишину нарушал только звук ее шагов. Она отперла дверь квартиры своим ключом и вошла. До нее донеслось громкое тиканье дешевых ходиков на кухне. В тот же момент скрипнула другая дверь, и в коридоре появился Ширак, с всклокоченной шевелюрой, но совершенно одетый.
– Вы все-таки решили продать себя ему! – прошептал Ширак.
Софья инстинктивно отпрянула и почувствовала, что краснеет. Она не знала, что предпринять. Она видела, что Ширак потрясен, что он вне себя от ярости. Он двинулся к ней на цыпочках, склонив голову. Никогда она не видела ничего более театрального, чем эта поза и выражение его лица. Софья понимала, что и ей следует вести себя так же театрально и с негодованием отвергнуть его низкие инсинуации, его непростительные оскорбления. Даже в том случае, если она намерена уступить этому дряхлому паше, какое Шираку дело? Кроме возмущенного молчания, кроме уничтожающего взгляда, Ширак ничего не заслужил. Но на героическое поведение она была неспособна.
– Который час? – слабым голосом спросила она.
– Три, – усмехнулся Ширак.
– Я забыла завести часы, – сказала Софья. – И спустилась, чтобы узнать время.
– Да ну! – произнес он саркастически, словно говоря: «Я ждал вас, и вот дождался».
Софья убеждала себя, что ничем ему не обязана, и все же сознавала, что они – единственные молодые люди в этой квартире и что она должна представить Шираку доказательства, что неповинна в высшем бесчестии, на которое способна молодость. Она собрала силы и посмотрела ему в глаза.
– Как вам не стыдно! – сказала она. – Вы разбудите других.
– А разве мосье Ньепс спит?
– Мосье Ньепса нет дома, – ответила Софья.
Дверь в комнату Ньепса была незаперта. Софья толкнула ее и вошла в пустую комнату, имевшую совершенно нежилой вид.
– Зайдите сюда и убедитесь сами, – предложила она.
Ширак вошел в комнату. Лицо его вытянулось.
Она достала из кармана часы.
– А теперь заведите, пожалуйста, мои часы и поставьте их на правильное время.
Софья увидела, что Ширак в отчаянии. Руки его не слушались. На глаза набежали слезы. Потом он закрыл лицо ладонями и отвернулся. Подавляя рыдания, он пробормотал: «Простите меня!» – и захлопнул за собой дверь. В наступившей тишине Софья услышала похрапывание мосье Карлье и сама заплакала. Как в тумане побрела она на кухню, сняла со стены часы и пошла с ними наверх, дрожа от ночного холода. Еще долго она тихонько плакала. «Какой позор! Какой позор!» – повторяла она. И все же Софья не могла бесповоротно осудить Ширака. Холод заставил ее лечь, но спать она не могла. Она продолжала всхлипывать. К утру глаза у нее были красными от слез. Она спустилась на кухню. Дверь Ширака была открыта настежь. Он уже ушел. На грифельной дощечке было написано: «К обеду не ждите».








