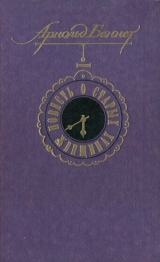
Текст книги "Повесть о старых женщинах"
Автор книги: Арнольд Беннет
Соавторы: Нина Михальская
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 51 страниц)
Джеральд Скейлз шел по Стрэнду, во все глаза глядя на его высокие, узкие дома, сдвинутые так тесно, как будто их без разбора плотно упаковал какой-то упаковщик, стремившийся лишь к экономии пространства. Только Сомерсет-Хаус{59}, Кингз-Колледж и два-три театра и банка нарушали однообразие убогих лавок, над которыми громоздилось по нескольку этажей. Потом Джеральд натолкнулся на Эксетер-Холл и уставился на его выступающий фасад взглядом провинциала, ибо Лондон знал плохо, хотя вообще много разъезжал. Увидев Эксетер-Холл, он, естественно, вспомнил о дядюшке Болдеро, этом великом и ревностном диссентере, и о своей благочестивой юности. Забавно было воображать, что сказал бы и подумал его дядюшка, если бы узнал, что его племянник совершил побег с девицей, намереваясь совратить ее в Париже. Это было невероятно смешно.
Однако с этим покончено. Он благополучно от всего избавился. Она велела ему уйти, и он ушел. Деньги на дорогу у нее есть, теперь пусть сама разузнает, как ей добраться домой. Все остальное – ее забота. Он поедет в Париж один и там найдет себе другие развлечения. Нелепо было полагать, что Софья подойдет ему. Нужно было ему вовремя сообразить, что в такой семье, как Бейнсы, образцовую любовницу не найдешь. Он совершил ошибку. Несуразная получилась история. Она чуть было не одурачила его. Но он не из тех, кого можно одурачить. Он сумел сохранить свое достоинство.
Так он убеждал себя. Однако все это время его чувства собственного достоинства и гордости кровоточили, испещряя невидимыми каплями крови тротуар Стрэнда во всю его длину.
Джеральд вновь оказался на Солсбери-стрит. Мысленным взором он увидел ее в спальной. Черт ее побери! Как она желанна! Какое непреодолимое тяготение он к ней испытывает! Как невыносимо обидно, что его отвергли. Как невыносимо обидно сознавать, что она останется беспорочной. И ему непрестанно чудилась она в волнующем уединении этой проклятой спальной.
Он спускался по Солсбери-стрит. Ему вовсе не хотелось идти по Солсбери-стрит, но он продолжал свой путь.
– Черт возьми! – бормотал он. – Пора положить конец этой истории.
Его терзало отчаяние. Он был готов любой ценой получить возможность доказать себе, что совершил то, к чему стремился.
– Моя жена здесь? Она не ушла? – спросил он у привратника.
– Не уверен, сэр, но полагаю, что она не выходила, – ответил привратник. Ему стало дурно от мысли, что Софьи уже нет на месте. Заметив ее чемодан, он воспрял духом и бросился вверх по лестнице.
В тусклом свете он увидел ее – это скорчившееся, сраженное дитя человеческое, которое, свесив ноги с кровати, прижалось грудью к голубоватому покрывалу; ее шляпка с вуалью валялась на полу. За всю жизнь, казалось ему, он не видел столь трогательного зрелища, хотя лицо ее было спрятано от него. Он забыл обо всем, и его одолело глубокое, доселе незнакомое чувство. Он подошел к кровати. Она не шелохнулась.
Услышав, как он вошел, и понимая, что это не сон, Софья заставила себя не двигаться. В ней вспыхнула неистовая, радостная надежда. Удерживаемая всей силой своей воли, она не двигалась, но подавить рыдание, разрывавшее ей грудь, не смогла. От этого рыдания у Джеральда на глазах навернулись слезы.
– Софья! – с мольбой в голосе обратился он к ней.
Но она не шевелилась. Ее вновь сотрясло рыдание.
– Ну, хорошо, хорошо, – сказал Джеральд, – мы поживем в Лондоне, пока не сможем пожениться. Я все устрою. Найду для тебя подходящий пансион и скажу там, что ты моя кузина. Сам я останусь здесь и буду каждый день навещать тебя.
Ответом было молчание.
– Спасибо! – разрыдалась Софья. – Спасибо!
Джеральд увидел, как потянулась к нему, словно щупальце, ее маленькая ручка в перчатке, и, сжав ее, он опустился на колени и неловко обнял Софью за талию. Однако поцеловать Софье руку он все еще не осмеливался.
Мало-помалу их обоих охватило всепоглощающее чувство облегчения.
– Я… честное слово, я… – попыталась что-то объяснить Софья, но фразу прервали рыдания.
– Что? О чем ты, любимая? – выпытывал Джеральд.
Софья сделала над собой усилие.
– Как же я поеду с тобой в Париж, если мы не повенчаны, – наконец выдавила она. – Я так не могу!
– Ну конечно! – успокаивал ее Джеральд. – Конечно, не можешь. Это все я виноват. Но если бы ты знала, что я переживаю… Ведь теперь все хорошо, Софья, правда?
Она села на кровати и нежно его поцеловала.
Как удивительно, как чудесно, что он не таясь расплакался. В том, с какой легкостью и силой проявилось его чувство, Софья видела залог их будущего счастья. И как прежде Джеральд утешал ее, так теперь Софья утешала его. Обнявшись, они оба изумлялись той сладостной, дивной, упоительной печали, которая поглотила их целиком. Они сожалели о том, что поссорились, о том, что не верили в высшую правоту своего решительного поступка. Все идет как должно и будет как должно – они проявили преступную глупость. Теперь они сожалели о ссоре и были счастливы – ради этого стоило поссориться! Джеральд снова казался Софье совершенством! Он воплощение доброты и чести! А в его глазах она снова стала идеальной любовницей, которая, однако, заодно станет и его женой. Торопливо обдумывая, какие шаги следует предпринять в связи с женитьбой, Джеральд в самой глубине души повторял: «Она будет моей! Она будет моей!» Ему не приходило в голову, что этот хрупкий росток на семейном древе Бейнсов, невольно впитавший в себя силу целых поколений порядочных людей, одержал над ним победу.
После чая Джеральд, полностью удовлетворенный ходом событий, сдержал свое слово и подыскал для Софьи респектабельный пансион неподалеку от Вестминстерского аббатства. Софью поразило, с какой легкостью он ввел в заблуждение хозяйку пансиона и насчет ее положения, и насчет всех прочих обстоятельств. Кроме того, Джеральд нашел поблизости церковь и священника, и через полчаса подготовка к венчанию уже шла полным ходом. Софье он объяснил, что, поскольку она проживает теперь в Лондоне, проще начать дело с начала. Она благоразумно не стала спорить. Так как она ни в коем случае не хотела снова причинить ему боль, Софья не стала расспрашивать Джеральда о тех шагах, которые из-за канцелярских проволочек завершились столь неожиданным провалом. Она знала, что он женится на ней – чего же еще надо! На следующий день Софья сделала то, что подсказывал ей дочерний долг, и дала матери телеграмму.
Глава II. УжинОни побывали в Версале и пообедали там. Можно было бы вернуться назад и на конке, но Джеральд, который выпил шампанского, на меньшее, чем экипаж, не соглашался. Более того, он настаивал на том, чтобы въехать в Париж через Булонский лес и Триумфальную Арку. Чтобы полностью удовлетворить его тщеславие, пришлось бы распахнуть настежь Ворота чести и проехать напрямик через Арку в фиакре. Джеральду с его чувством гармонии, порожденным выпитым шампанским, претила необходимость объезжать памятник кругом. В тот день Джеральда так и распирало от тщеславия. Он демонстрировал Софье чудеса Парижа не без знакомого всем чичероне тайного чувства, что в чудесах есть и его заслуга. К тому же, он был очень доволен тем, как подействовали виды Парижа на Софью.
Явившись в Париж с обручальным кольцом на победоносном пальчике, Софья робко затронула вопрос о новых платьях. Никто бы и не догадался по ее тону, что она словно бесом одержима мечтой о французских нарядах. Софью удивила и обрадовала покладистость Джеральда. Но ведь и Джеральд был одержим бесом. Ему страсть как хотелось увидеть жену в парижских туалетах. Джеральду были известны кое-какие магазины и ателье на рю де ла Пэ, на рю де ла Шоссе-д'Антен{60} и в Пале-Рояле. Он разбирался в модах намного лучше Софьи, так как по прежним своим делам ему приходилось сноситься в Париже с большими фирмами, и Софье пришлось пережить минутное унижение, когда выяснилось, что в глубине души он ее туалеты и за туалеты-то не считал. Она и сама понимала, что им далеко до парижских и даже лондонских, но все-таки они казались ей премиленькими. Однако ее утешало, что Джеральд так искусно скрывал свое истинное мнение, чтобы не оскорбить ее самолюбие. Джеральд повел Софью в магазин на Шоссе-д'Антен. Это было, конечно, не то, что Джеральд называл les grandes maisons[16]16
Первоклассные ателье (фр.).
[Закрыть], но ненамного хуже, и здесь было самое настоящее haute couture[17]17
Первоклассное шитье (фр.).
[Закрыть], а Джеральда даже помнили по фамилии.
Софья отправилась по магазинам, дрожа и робея, хотя в глубине души была полна решимости вернуться домой француженкой до кончиков ногтей. Но модели ошеломили ее. Они превосходили самые дерзкие наряды, виденные ею на улице. Она отпрянула от них и, казалось, хотела спрятаться за спину Джеральда, словно прося у него защиты, и отвечала ему, а не продавщице, когда та бросала лаконичные реплики. Цены тоже привели ее в ужас. Последний пустяк обошелся бы здесь фунтов в шестнадцать, а знаменитый шелк ее матушки, стоивший благодаря своему качеству двенадцать фунтов, казался тут просто неуместным! Джеральд советовал ей не думать о ценах. Однако какой-то инстинкт заставил Софью об этом задуматься – это ее-то, которая дома презирала скупердяйство Площади! На Площади ее считали бесшабашной и безнадежно опрометчивой, но здесь, казалось, в ней ни на миг не иссякал родник житейской мудрости, постоянное противоядие от всего того безумия, которое ее окружало. Необыкновенно быстро научилась она призывать Джеральда к умеренности. Ей противно было видеть, как «деньги бросают на ветер», а ее представление о том, где проходит граница между мотовством и благоразумием, оставалось еще таким, как на Площади.
Джеральд смеялся. А она, уязвленная, краснеющая, не уверенная в себе, отвечала: «Смейся, смейся!» Все это было ужасно приятно.
В тот вечер Софья надела первый свой новый туалет. Она носила его весь день. Характерно, что выбрала она платье, которое можно было носить и днем, и вечером, и в теплынь, и в непогоду. Платье было из бледно-голубой тафты в синюю полоску, корсаж с баской, а нижняя юбка – из тафты того же цвета, но без полосок. Пышная верхняя юбка, ниспадающая на простенькую нижнюю, с маленькими двойными воланами, выглядела, как представлялось ей, да и Джеральду, бесподобно. Платье было с высокой талией – таких у нее раньше не водилось – и с широким кринолином. Большой бант, с развевающимися синими лентами под подбородком, удерживал у нее на голове изящную плоскую шляпку вроде детского чепчика, и из-под шляпки на лбу выбивались локоны, а на затылке лежал шиньон. В экипаже ее двойные юбки широкой волной ложились на колени Джеральда, и, откидываясь на жесткие подушки, он бросал на нее самонадеянные взгляды, ничего не чувствовал, кроме буйной, рвущейся наружу радости жизни, и с неистовым пылом предвкушал все новые и новые удовольствия, удовольствия раз и навсегда.
Когда экипаж пронесся через широкие, пустые и темные Елисейские поля и въехал в ожидавший их блистающий Париж, другой фиакр промелькнул мимо и скрылся в туче пыли. В фиакре, в который были запряжены две белые лошади, виднелась женская фигура. Джеральд посмотрел вслед экипажу.
– О боже! – воскликнул он. – Да это Гортензия{61}!
Может быть, то была Гортензия, а может, и нет. Но он уверил себя в том, что это, конечно, она. Не каждый вечер встретишь Гортензию одну на Елисейских полях, да к тому же в августе!
– Какая Гортензия? – простодушно спросила Софья.
– Гортензия Шнейдер.
– А кто это?
– Ты что, не слыхала о Гортензии Шнейдер?
– Нет!
– Ну и ну! А об Оффенбахе{62}?
– Нет… не знаю. Кажется, не слыхала.
Он скорчил недоверчивую гримасу.
– Не хочешь ли ты сказать, что не слыхивала о «Синей бороде».
– Конечно, я слышала о Синей бороде, – сказала Софья. – Эту сказку все знают.
– Я говорю об опере, об опере Оффенбаха.
Она покачала головой, толком не понимая даже, что такое опера.
– Ну и ну! Вот так сюрприз!
Джеральд хотел показать, что и не подозревал о таком невежестве. На самом деле, он только радовался тому, какую чистую страницу ему предстоит заполнить. Софья ничуть не обиделась. Она ловила каждое слово мужа. Она наслаждалась, черпая из этого неиссякаемого источника житейской мудрости. Перед другими она готова была корчить всезнайку, но перед ним – в теперешнем ее настроении – ей было приятно изображать наивную, глупенькую крошку.
– Ну, – объяснил Джеральд, – эта Шнейдер гремит с позапрошлого года. Просто гремит.
– Жаль, что я ее не разглядела! – сказала Софья.
– Вот подожди, откроется Варьете{63}, мы на нее наглядимся, – ответил он и принялся рассказывать ей во всех подробностях о карьере Гортензии Шнейдер.
Значит, впереди новые удовольствия! Софья пока успела увидеть только самый краешек будущего счастья. Она предвкушала свое сияющее будущее, полное свободы, богатства и вечного веселья в обществе щеголеватого Джеральда.
На Площади Согласия она спросила:
– Мы в гостиницу?
– Нет, – ответил он. – Я думаю, надо заехать куда-нибудь поужинать, если еще не слишком рано.
– Как, после такого обеда?
– Какого еще обеда? Я съел раз в пять меньше, чем ты.
– Да разве я против? – сказала она.
И она была не против. Этот день, раз уже она впервые надела свое французское платье, казался Софье дебютом на блистательной столичной сцене. Она была наверху блаженства и не чувствовала ни физической, ни душевной усталости.
Только после полуночи они добрались до ресторана «Сильвен». Джеральд, решивший было не возвращаться в гостиницу, передумал, они заехали туда на минутку, а он задержался надолго. Ну, это уж само собой! Софья успела привыкнуть к мысли, что с Джеральдом невозможно предвидеть будущее дальше, чем на пять минут вперед.
Когда швейцар распахнул перед ними дверь и Софья скромно проскользнула в ярко освещенный желтый зал ресторана, а за нею с повадкой светского льва последовал Джеральд, они приковали к себе внимание многочисленных блистательных посетителей. В лице Софьи, окаймленном младенческим капором с пышным бантом и лентами, было столько детского, оно так светилось, на нем было написано такое очарование и чистая прелесть, его черты так ясно говорили, что она более не девушка, что ни одна женщина с иным жизненным опытом не смогла бы сильнее отличаться от других дам, сидевших в кабинетах ресторана за перегородками. Вокруг нее над белыми скатертями теснились сотни накрашенных губ, напудренных щек, холодных, циничных глаз, хладнокровных дерзких лиц и наглых бюстов. Что более всего поразило Софью в Париже, даже сильнее омнибусов, в которые впрягали по три лошади сразу, так это исключительная самоуверенность женщин, их бесстыдное позерство, их спокойствие под чужими взглядами. Эти дамы, казалось, говорили: «Мы и есть знаменитые парижанки». Они пугали Софью, казались ей такими развращенными и так кичились своей развращенностью. Она уже видела с десяток женщин, которые у всех на виду пудрились с таким спокойным видом, словно поправляли прическу. А они, эти женщины, изумлялись явлению, воплощенному в Софье, они восхищались, они оценивали покрой платья, но они не завидовали ни ее невинности, ни красоте – они завидовали только ее юности и свежему румянцу на щеках.
– Encore des Anglais![18]18
Опять эти англичане! (фр.)
[Закрыть] – сказала одна из них, как если бы это все объясняло.
Джеральд не церемонился с официантами, и чем больше они лебезили перед ним, тем он делался высокомернее; даже с метрдотелем он обходился как с поваренком. Он сделал заказ по-французски, громко, вместе с Софьей гордясь своим произношением, после чего их усадили за столик в углу, у большого окна. Софья устроилась на зеленом бархатном диванчике и обмахивалась веером из слоновой кости, который подарил ей Джеральд. Было очень жарко. Окна были открыты настежь, и звуки, шедшие с улицы, мешались со звяканьем, доносившимся из зала. В окне, на фоне густо-фиолетового неба, Софья увидела черный гигантский остов здания – то было новое здание Оперы.
– Все что душе угодно! – удовлетворенно сказал Джеральд, заказав суп со льда и игристый мозель.
Софья не ведала, что такое мозель, но полагала, что все, что угодно, лучше, чем шампанское.
В те времена «Сильвен» был типичным рестораном Второй империи{64} и особенно славился как место, где можно поужинать. Дорогой и веселый, этот со вкусом оформленный ресторан был великолепной сценой, на которой лоретки, актрисы, порядочные женщины, а иной раз и гризетка, которой повезло в жизни, могли любоваться друг на друга сколько угодно. Общедоступность «Сильвена» не лишала его благопристойности; не многие другие рестораны смогли бы так успешно соперничать августовским вечером со злачными местами Булонского леса и темными закоулками Елисейских полей. Изысканное богатство нарядов, целые ярды изящного шитья, бесконечные рюши, более или менее откровенные намеки на то, что спрятано под расшитой тканью и что сильней всего бросалось в глаза, яркие шелка и муслины, вуали, перья и цветы, небрежно выставленные на всеобщее обозрение, покоящиеся на зеленых бархатных подушках и многократно повторенные зеркалами в золоченых рамах, – все это зрелище опьянило Софью. Ее глаза лучились. Она с охотой отведала супу и пригубила вино, хотя, как ни старалась, привыкнуть к нему не могла, а затем, увидев на большом столе, уставленном фруктами, ананасы, сказала Джеральду, что ей именно этого и хочется, и он заказал ананас.
Когда к Софье вернулись разум и самообладание, она пустилась с Джеральдом в обсуждение чужих туалетов. Этим она могла заниматься безнаказанно, поскольку ее собственное платье бесспорно было выше критики. Некоторые наряды она безоговорочно осудила, и не нашлось ни одного, который бы заслужил ее полное одобрение. В потоке пылких, пристрастных замечаний излилась вся нелепая придирчивость, порожденная ее возрастом и провинциальностью. Однако у нее хватило ума, чтобы спустя некоторое время понять по тону Джеральда и по выражению его лица, что она ведет себя как надоедливая дурочка. Тогда Софья ловко перевела разговор на качество портновской работы, которую – она сделала упор на слово «работа» – объявила неподражаемой. Софья полагала, что знает цену швейному мастерству, и ее небольшой, но твердо усвоенный опыт рисовал ей картину целого города, переполненного девушками, которые шьют, шьют и шьют день и ночь. Те несколько дней, что они провели в Париже в промежутках между поездками в Шантильи{65} и другие места, она дивилась изобилию и роскоши магазинов; ей было непонятно, как могут процветать все эти лавки, если взять за эталон Площадь св. Луки. Но теперь, когда Софья впервые по-настоящему разглядела пошловатую и двусмысленную роскошь одного из целой сотни ресторанов, ей стало непонятно, как может хватить всех этих лавок. Ей пришло в голову, что здешняя дороговизна весьма выгодна для хозяев магазинов. Право, мысли, проносившиеся одна за другой в ее очаровательной глупой головке, образовывали удивительную мешанину.
– Ну, как тебе «Сильвен?» – спросил Джеральд, которому не терпелось удостовериться, что его любимый ресторан должным образом ошеломил ее.
– Ах, Джеральд! – шепнула она, показывая, что этого не выразить словами, и легонько коснулась его руки своей ручкой.
С лица Джеральда улетучилась скука, вызванная ее критикой недостатков в парижских туалетах.
– Как ты думаешь, о чем говорят за тем столом? – сказал он, кивнув в сторону трех шикарных лореток и двух господ средних лет, устроившихся за соседним столиком.
– О чем?
– О казни убийцы Ривена. Она состоится послезавтра в Осере. Они хотят отправиться туда всей компанией.
– Что за ужасная идея! – воскликнула Софья.
– У них же тут гильотина! – сказал Джеральд.
– И казнь показывают всем, кто захочет?
– Разумеется.
– По-моему, это чудовищно.
– Конечно. Поэтому людям и нравится. Кроме того, Ривен не простой преступник. Он очень молод и хорош собой, из приличного общества. А убил он знаменитую Клодину…
– Клодину?
– Клодину Жакино. Ты, разумеется, не знаешь, кто это. Она знаменитая… э… распутница сороковых годов. Сколотила капиталец и уехала в родной город.
Софья, как ни старалась доиграть до конца роль всеведущей женщины, покраснела.
– Значит, она старше его?
– Лет на тридцать пять старше, это уж точно.
– За что он ее убил?
– Денег давала мало. Она была его любовницей… точнее, одной из его любовниц. Понимаешь ли, Ривену нужны были деньги для его молоденькой подружки. Он убил старуху и снял с нее все драгоценности. Она всегда надевала лучшие свои драгоценности, когда он приходил к ней, а уж у такой женщины камушков хватает. Похоже, она давно боялась, что Ривен ее убьет.
– Зачем же она его к себе пустила? Зачем надела драгоценности?
– Затем, что ей нравилось бояться, дурашка! Некоторые женщины тогда только и счастливы, когда их страх разбирает. Чудно, правда?
Под конец этих откровений Джеральд пристально глянул жене в глаза. Он прикидывался, будто такие истории – самое обычное дело, и смутить они могут только ребенка. Внезапно погрузившись в чужой мир, до предела откровенный в своей чувственности и эстетстве, оказавшись под руководством молодого человека, для которого ее до конца не сформировавшийся ум служил самой привлекательной игрушкой, Софья в глубине души ощутила неловкость, ей не давали покоя мотыльки дурных предчувствий и неясных мыслей. Она опустила глаза. Джеральд самодовольно рассмеялся. Софье больше не хотелось ананаса.
Как раз в этот момент в ресторан вошла дама, с появлением которой в зале на мгновение прекратились все разговоры. Это была высокая зрелая женщина – поверх фиолетово-черного шелкового платья на ней была надета просторная развевающаяся sortie de bal[19]19
Бальная накидка (фр.).
[Закрыть] алого бархата, завязанная под подбородком золотыми кистями. Ни один туалет не мог бы выдержать сравнения с этим нарядом, арабским по очертаниям, русским по расцветке и парижским по стилю. Накидка сверкала. Тяжелые волосы женщины были перевязаны лентами с витым золотым шнурком и пурпурными розочками. За дамой вошел молодой англичанин в вечернем костюме и исключительно холеными бакенбардами. Женщина подплыла, тяжело дыша, к соседнему столику и уселась за него с привычным, почти скучающим видом. Она села, сбросила с царственных плеч накидку и выпятила грудь. Не обращая, казалось, внимания на англичанина, который с надменным видом расположился напротив, она обвела презрительным взглядом огромных глаз ресторан, спокойно и величественно принимая вызванное ее появлением любопытство. Ее красота была, бесспорно, изумительна и все еще лучезарна, но цветение близилось к концу. Женщина была великолепно напудрена и нарумянена, ее руки были безукоризненны, ресницы – длинны. Трудно было заметить в ней недостатки, если не считать чрезмерной пышности, типичной для блондинок, которые тщетно борются с тучностью. Костюм ее сочетал смелость с требованиями моды. Она небрежно положила на стол руку, унизанную кольцами, и, подавив своим великолепием весь ресторан, приняла из рук метрдотеля карту и углубилась в ее изучение.
– Одна из этих! – шепнул Софье Джеральд.
– Каких этих? – прошептала Софья в ответ.
Джеральд предостерегающе поднял брови и подмигнул. Англичанин расслышал их слова, и на его гордом лице мелькнуло выражение холодного недовольства. Очевидно, он стоял в обществе куда выше Джеральда, и Джеральд, хоть и мог сколько угодно утешаться тем, что учился в университете с лучшими из лучших, ощущал превосходство англичанина и не мог этого скрыть. Джеральд был богат, он происходил из богатой семьи, но не свыкся с богатством. Бешено тратя деньги, он бравировал, слишком остро сознавая и шик мотовства, и все трудности, связанные с добыванием того капитала, который он пускает на ветер. Джеральду ведь приходилось зарабатывать деньги. Этот англичанин с бакенами никогда денег не зарабатывал, не знал им цены, никогда и подумать не мог, что денег может оказаться меньше, чем требуется. У него было лицо человека, привыкшего приказывать и свысока смотреть на тех, кто ниже его. Он был полон уверенности в себе. Англичанина ничуть не смущало, что его спутница не обращала на него ни малейшего внимания. Она заговорила с ним по-французски. Он лаконично ответил по-английски и тут же, по-английски, заказал ужин. Как только принесли шампанского, он принялся пить, в промежутках поглаживая бакенбарды. Дама в накидке молчала.
Джеральд заговорил громче. Ему было не по себе под взглядом этого аристократа. Он не только заговорил громче, но и завел речь о деньгах, путешествиях и светской жизни. Пытаясь произвести впечатление на англичанина, Джеральд выглядел смешным в его глазах и в глубине души это чувствовал. Софья, заметив это, огорчилась. Ощущая себя весьма незначительной, она приняла превосходство англичанина с бакенбардами как нечто само собой разумеющееся. Своим поведением Джеральд в какой-то мере уронил себя в ее глазах. Потом Софья посмотрела на Джеральда – на его аккуратные черты, живое лицо, прекрасный костюм – и решила, что он лучше всех аристократов с их тяжелыми подбородками и длинными носами.
Женщина, которую накидка опоясывала как крепостная стена, обратилась к своему кавалеру. Тот не понял. Он попытался ответить по-французски, но не смог. Тогда женщина принялась растолковывать ему все сначала. Когда она кончила, англичанин отрицательно покачал головой. По-французски он знал только названия блюд.
– Гильотина! – пробормотал он то единственное слово, которое понял.
– Oui, oui. Guillotine. Enfin!..[20]20
Да-да. Гильотина. Наконец-то! (фр.)
[Закрыть] – возбужденно воскликнула женщина.
Одобренная успехом и тем, что ее спутник понял хотя бы одно слово, она начала в третий раз.
– Извините, – сказал Джеральд. – Мадам говорит о казни в Осере, назначенной на послезавтра. N'est-ce pas, madame, que vous parliez de Rivain?[21]21
Вы ведь говорили о Ривене, не так ли, мадам? (фр.)
[Закрыть]
На непрошеное вмешательство Джеральда англичанин ответил разгневанным взглядом. Но женщина благосклонно улыбнулась Джеральду и пожелала говорить со своими другом через него. Англичанину пришлось смириться.
– Сегодня вечером в каждом ресторане только и разговоров, что об этой казни, – сказал Джеральд по собственному почину.
– Вот как? – ответил англичанин.
Вино подействовало на них по-разному.
В это время в дверях показался невысокий хрупкий юноша-француз с чрезвычайно бледным лицом и маленькой черной эспаньолкой. Он огляделся и, заметив женщину в красной накидке, сдержанно поклонился. Потом он увидел Джеральда, и на его изношенном, усталом лице появилась внезапная, смущенная улыбка. Он быстро подошел к столику со шляпой в руках, пожал Джеральду руку и красноречиво его приветствовал.
– Моя жена, – произнес Джеральд четко и торжественно, как человек, желающий показать, что он совершенно трезв.
Молодой человек посерьезнел и повел себя чрезвычайно церемонно. Он поклонился и поцеловал Софье руку. Она чуть было не засмеялась, но важность и почтительность молодого человека остановили ее. Залившись краской, она поглядела на Джеральда, словно хотела сказать: «Я тут ни при чем». Джеральд что-то сказал, молодой человек повернулся к нему, и на лице его снова заиграла приветственная улыбка.
– Это мосье Ширак, – наконец завершил Джеральд церемонию представления. – Мы дружили, когда я жил в Париже.
Джеральду было приятно так случайно повстречать в ресторане приятеля. Это показывало, что он настоящий парижанин, и поднимало его в глазах англичанина с бакенбардами и дамы в красной накидке.
– Вы впервые в Париже, мадам? – неуверенно обратился Ширак к Софье на ломаном английском.
– Да, – ответила она и хихикнула.
Ширак еще раз поклонился. Затем он принес свои поздравления Джеральду в связи с женитьбой.
– Не стоит благодарности! – сострил по-английски Джеральд и, радуясь собственной шутке, добавил: – Как насчет казни?
– А! – ответил Ширак, глубоко вздохнул и улыбнулся Софье. – Ривен! Ривен!
Он многозначительно взмахнул рукой.
Сразу было ясно, что Джеральд коснулся той темы, которая, как подземный огонь – шахту, поглощала все ресторанное общество.
– Я еду! – гордо сказал Ширак и посмотрел на Софью, которая застенчиво улыбнулась.
Ширак вступил с Джеральдом в беседу по-французски. Софья понимала, что на Джеральда производит впечатление то, что рассказывает Ширак, а тот в свою очередь тоже удивлен. Затем Джеральд долго искал свою записную книжку и, вытащив ее, протянул Шираку, чтобы тот мог вписать в нее свой адрес.
– Мадам! – проговорил Ширак на прощание, вернувшись к своей церемонной манере. – Alors c'est entendu, mon cher ami[22]22
Итак, мы условились, дорогой друг (фр.).
[Закрыть], – сказал он Джеральду, который флегматично кивнул в ответ.
И Ширак отошел к тому из соседних столиков, за которым восседали три лоретки и два господина средних лет. Там его встретили с энтузиазмом.
Софью немного волновало, что Джеральд что-то вышел из берегов. Она не думала, что он пьян. Такая мысль ее возмутила бы. Она вообще ни о чем определенном не думала. Она заблудилась в лабиринте новых, живых впечатлений, куда завел ее Джеральд, и была ошеломлена. Однако ее здравый смысл был начеку.
– Я устала, – тихо сказала Софья.
– Ты разве хочешь, чтобы мы ушли? – надулся он.
– Ну…
– Погоди чуточку!
Владелица красной накидки снова заговорила с Джеральдом, который не мог скрыть, что польщен. Беседуя с ней, он заказал бренди с содовой. А затем не сдержался и, желая показать, что хорошо знаком с парижской жизнью, рассказал, как видел Гортензию Шнейдер в экипаже, запряженном двумя белыми лошадьми. Услышав это громкое имя, красная накидка стала еще общительнее и с очаровательной живостью пустилась в болтовню. Ее спутник оставался по-прежнему недовольным.
– Ты слышала? – спросил Джеральд у Софьи, которая сидела молча, и объяснил: – О Гортензии Шнейдер… ну, той, которую мы видели сегодня вечером. Оказывается, она поспорила на луидор с каким-то господином, а когда он проиграл, то послал ей этот луидор в оправе из брильянтов стоимостью сто тысяч франков. Вот как живут!
– О! – воскликнула Софья, сделав еще шаг в глубь лабиринта.
– Виноват, – тяжеловесно вмешался англичанин.
Он слышал, что в разговоре повторяется одно и то же имя – Гортензия Шнейдер, Гортензия Шнейдер, – и понял, наконец, что речь идет о Гортензии Шнейдер.
– Виноват, – повторил он. – Вы говорите о… о Гортензии Шнейдер?
– Ну да, – ответил Джеральд. – Мы видели ее сегодня вечером.
– Она в Трувиле{66}, – равнодушно произнес англичанин.
Джеральд отрицательно покачал головой.
– Мы с ней ужинали вчера вечером в Трувиле, – сказал англичанин. – А сегодня вечером она играет там в театре Казино.
Джеральд отступил, но не сдался.
– В каком же спектакле она играет? Скажите нам, пожалуйста! – усмехнулся он.
– С какой это стати?
– Гм! – сказал Джеральд. – Если то, что вы говорите, верно, не странно ли, что нынче вечером я видел ее на Елисейских полях?








