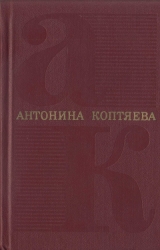
Текст книги "Собрание сочинений.Том 5. Дар земли"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)
7
Еще на крыльце сдернув шаль и отряхнув ее от снега, Зарифа вбежала в избу. Бибикей, сильно постаревшая за эти годы, сидела, держась за щеку, и уныло глядела в окошко, затянутое морозным узором: у нее болели зубы. Все шестеро сестер и два брата Зарифы были дома, и каждый занимался своим делом: сестры пряли шерсть и конопляную кудель, сучили нитки; один брат, шорник, вырезывал ремни из сыромятной кожи, другой, еще подросток, мастерил из конского волоса силки для охоты на рябчиков и тетеревов. В избе было жарко, пахло дегтем, а от лампы, коптившей из-за разбитого стекла, тянуло керосином.
– Просто задохнуться можно! – проворчала Зарифа, окинув всех сердитым взглядом: тут и кошка с котятами, и заболевшая гусыня, и новорожденный теленок – присесть негде, не то что поплакать!
Никто не обратил на нее внимания. Почти так же было и в день ее приезда на каникулы. Суетилась, торопилась домой, но никого не обрадовало появление родного человека. Подарков привезти не смогла, а в семье, живущей впроголодь, добавился лишний рот.
Только Бибикей, ревниво оглядев дочь, погладила ее, как маленькую, и сказала все еще звучным голосом:
– Не скоро закончишь там свои занятия! Вышла бы лучше замуж – помогла бы матери: Магасумов сельской лавкой заведует, не пожалел бы для родни…
Зарифа сначала обиделась, но потом, окруженная бедностью домашнего быта, поняла равнодушие братьев и сестер и не смогла осудить мать, измученную постоянной лютой нуждой.
Ну, в самом деле, что за жизнь: даже поплакать негде!
Набросила шаль и выскочила из душной избенки. В низком хлевушке, сплетенном из тростника и обмазанном глиной с навозом, шевелятся над входом соломинки, поседевшие от дыхания коровы. Побелели, заиндевели и стены. Присев на скамеечку для дойки, Зарифа закрыла лицо руками, и давно просившиеся слезы потекли меж пальцев.
«Видно, не понравилось Ярулле, что на курсы поехала! Какие жестокие слова говорит! Неужели не понимает, что только работа избавит меня от Магасумова! Разве я стану хуже, если выучусь на тракториста? Отчего же Ярулла согласился жениться на другой? Почему разговаривает со мной так злобно? Похоже, раскаивается в том, что хотел увезти меня из деревни. Боится, чтобы я не напомнила ему об этом. Какой глупый! Какой дурной! И все равно я люблю его!»
Еще девчонкой полюбила она Яруллу… С чего началось? Копали в поле картофель, потом сидели у костра среди разрытой земли, покрытой увядшей ботвой; в осеннем свежем воздухе пахло дымком, печеной картошкой, сытной пылью от туго набитых мешков. Тогда и возникло у Зарифы желание подружиться с красивым тихим подростком, который, ни о чем не догадываясь, смотрел куда-то мимо непоседливой девочки, держа в руках обгорелую хворостину, которой перевертывал и доставал картошку, роясь в горячей золе.
А Зарифе, наслушавшейся всяких разговоров и очень боявшейся, чтобы ее не просватали за какого-нибудь старика, вдруг захотелось, чтобы этот мальчик влюбился в нее. Пусть он украдет ее, как это водилось в деревнях, по договоренности между молодыми людьми, если жених не может уплатить калым за невесту. Они убегут в лес, притихший и желтый (ведь свадьбы всегда играются осенью или зимой, после обмолота), так же будут печь картошку у костра, собирать ярко-красные среди побуревших листьев венчики костяники, холодной от утренних заморозков. А вернувшись домой, будут спать вместе под стеганым лоскутным одеялом, как их родители. Такая перспектива совсем не пугала девочку, когда она широко раскрытыми глазами рассматривала доброе лицо своего юного избранника.
С тех пор Зарифа и начала вертеться перед ним, шаля и гримасничая, точно обезьянка, которую однажды вел по дороге словно с неба свалившийся фокусник-китаец. Орава ребятишек и деревенских вечно голодных голосистых псов сопровождала его.
– Мадама, потансуй! – приказывал фокусник.
И «мадама», забавно скорчив рожицу с печальными человеческими глазами, кружилась под звуки флейты, придерживая тонкими пальчиками подол красной юбки и пугливо помаргивая на собак, которых зрители отгоняли камнями.
Ярулла тоже увязался за фокусником, а Зарифа, не отставая, бежала рядом с ним, держась за его сильную руку.
Потом он надолго уехал, застряв в далеком городе, но девочка не забыла его, и когда увидела на озерных покосах, то сразу почувствовала, что только для новой встречи с ним и жила на земле. Какое гордое и радостное волнение испытывала она под пристальными взглядами Яруллы и то непривычно робела, то искрилась счастливым, озорным весельем. «Пожалуйста, смотри, любуйся, говори мне каждым взглядом о своей любви! Я тоже тебя люблю, хотя еще не знаю, как это высказать. Хорошо среди ласкового шума листвы и травы думать о тебе. Ветер гладит мое лицо, шевелит волосы над виском, и мне кажется – это ты. Солнце горячо целует меня – и опять это ты».
Так маленькая озорница стала влюбленной девушкой. Перед возвращением в город из прошлогоднего отпуска Ярулла подстерег ее и сказал:
– Жди меня, голубушка моя. Приеду – откуплю от Магасумова.
Но Зарифа не могла сидеть и ждать сложа руки, пока ее вызволит любимый человек: Магасумов все настойчивее стал напоминать о своих правах жениха, торопя со свадьбой, и, когда в Урман пришло сообщение об открытии курсов, она решила стать трактористкой. Оттого и ощущала она себя победительницей, когда явилась нынче домой, оттого, узнав о приезде Яруллы, и шла по улице чуть не приплясывая. Как было ей не броситься ему навстречу, если ее, помимо радостного волнения, распирало желание похвалиться своими успехами.
И вдруг рухнули радужные надежды на счастье.
«Пусть разонравилась, пусть другую берет, но почему он так жестоко оскорбил меня?!»
Корова, перестав жевать жвачку, обнюхала мокрые от слез руки юной хозяйки, лизнула их шершавым языком. Девушка обняла ее большую теплую морду и заплакала еще сильнее…
– Вот проклятый, болит да болит! – сказала мать за ужином, держась за щеку. – Лечат же чем-то в городе эту напасть! У нас тут одна старушка тоже хорошо заговаривает зубную боль, на воду шепчет, однако сейчас рта раскрыть не может: у самой зуб раздурелся.
Зарифа сидела молча. Казалось, нет ничего больнее ее переживаний, но ни с кем не могла она поделиться своим большим горем: друзей в Урмане не было, – одни осуждали, другие завидовали ее красоте и смелости, а в родной семье смотрели только как на товар, который можно выгодно сбыть с рук.
8
Под вечер Ярулла с приятелем – другом детства – отправился к невесте.
У ворот их окружила толпа молодежи, требуя выкупа, и жених оделил всех разменной монетой. Ради торжественного случая девушки надели новые бешметы, повязали яркие кашемировые платки, на ногах вместо валенок мягкие суконные сапоги с аппликациями из цветного сафьяна и вышитые ичиги, над которыми так и разлетались оборки цветастых платьев. Парни в нагольных полушубках и чапанах, в лохматых меховых шапках расшалились вовсю; Ярулла и его друг едва пробились среди этой веселой ватаги.
Хасановы еще не вступили в колхоз, и их единственная лошадь будто приветствовала жениха, мотая головой из-под навеса, хотя впалые глаза ее смотрели сквозь спутанную челку с явной укоризной. Гуси, оставленные на племя, торопливо, но и с достоинством отступили от крылечка; лишь самый главный, с большой шишкой над клювом, растопырив крылья, с угрожающим шипением подбежал к гостям, целясь ущипнуть Яруллу. Даже взъерошенные голодные воробьи, прыгая вокруг, казалось, насмехались над ним: «Чей? Чей?»
А один так прямо и выговаривал: «К черту! К черту!»
Неуклюже, отяжелев от смущения, переступил Ярулла порог празднично убранной избы. Молодая женщина в белом фартуке, позвякивая подвесками в косах, хлопотала возле нар, расставляла на скатерти посуду с закусками. Невеста, тоже принаряженная, придерживая на груди нитки бус, церемонно поклонилась вошедшим, мелькнуло за красно-белым платком чернобровое лицо, залитое густым румянцем. Сильные руки в браслетах из монет выпирали из узких для нее рукавов старинного свадебного платья.
Парни оставили полушубки и валенки у двери и уселись на нарах, поджав ноги в шерстяных носках (Ярулла, как полагалось, сел рядом с невестой). Молчаливая прислужница принесла из-за кухонной занавески миску горячей лапши и вареную курицу на тарелке.
Наджия, не притрагиваясь к еде, смирно сидела, положив на колени большие руки в серебряных колечках, платок, прикрывавший лицо, колебался от ее дыхания.
Приятель ел за троих, а Ярулла, которому кусок не шел в горло, потупившись, рассеянно водил ложкой по узорам скатерти. Хоть бы невеста исчезла куда-нибудь, хоть бы он сам провалился в тартарары!
Уши у него рдели, как раскаленные угли, не от стеснения перед невестой, а оттого, что его мучило чувство стыда и досады: стал грамотным городским рабочим, в политике разбирается, однако жениться тянут против воли, на веревочке, свитой тысячу лет назад.
«Ведь я не знаю эту девушку. Что у нее на душе? – угрюмо думал он. – Наджия тоже обо мне ничего не знает. Родители сказали: „Иди за сына Низамова“, – и она согласилась. Оба мы неразумные!»
Ярулле захотелось отодвинуть поданную ему тарелку с большим куском вареной курицы, схватить в охапку свою одежду и убежать домой.
Но невидимые нити опутывали его крепче железных оков, и он сидел словно пришибленный, только искоса посмотрел на невесту, когда та, осмелев, взяла немного чакчака – мелких орешков из теста, политых медом. Платок от движения руки откинулся в сторону, и сразу обнаружилась родинка на щеке девушки размером почти с медный пятак, густо поросшая волосами.
«Толстые губы были у черта!» – горько усмехнулся про себя Ярулла.
Когда они остались вдвоем и Наджия сняла платок, он снова придирчиво посмотрел на нее. Теперь, после сговора стариков с муллой, она являлась его женой перед людьми и законом. Предстоящий веселый той, когда молодушка переходит в дом мужа, уже ничего не добавит к их отношениям, которые должны установиться сегодня.
Наджия раздевалась, застенчиво отворачиваясь, а он смотрел на ее тяжелые косы, на молочно-белые плечи, и тревогой за будущее полнилась его душа. Только печальные серые глаза и насупленные брови девушки примиряли Яруллу с нею: видно, тоже не рада свадьбе.
Она легла в постель, взглянула на него робко, ожидающе из-за вздыбившегося угла пуховой подушки, а он все не решался поднять руку к воротнику своей рубахи.
– Ложись, голубчик! – Тихий голос Наджии вздрагивал от волнения. – Теперь уж ничего не поделаешь, раз мы обрученные.
– А ты хочешь стать моей женой?
– Сначала боялась, а теперь вижу: ты смирный, значит, добрый. И лицом хороший.
– Ты тоже хорошая, да не знаю я тебя!
Она приподнялась на локтях, уже с любопытством и симпатией посмотрела на Яруллу.
– Вот и познакомимся… Ну, что ты стоишь, как бычок перед пряслом? Никто тебя силком сюда не затаскивал.
Оба рассмеялись, и все стало легче, проще…
9
Утром молодоженов водили в баню. Когда они вернулись, сконфуженные общим вниманием, пышущие горячим румянцем, их встретили на пороге родители Наджии, ночевавшие у соседей. Подружки и тетушки приготовили чай с оладьями, но на стол подавала сама Наджия – собранная, замкнуто спокойная; только когда она взглядывала на Яруллу, выражение ее лица смягчалось, в глазах просвечивало счастье.
– Обычаи надо соблюдать. Иначе исчезнет наш народ, уйдет в другую нацию, как вода в песок, – говорил молодому зятю Хасан. – Отец твой понимает это, и ты хороший сын, раз слушаешься его. Почему русские такая сила? Триста лет ведь жили под властью татар, а уберегли себя. Мало того, верх взяли над захватчиками. Почему? Да потому, что веры и обычаев держались. Семья – дело серьезное, нельзя строить ее как попало, с кем придется. Главное, чтобы дети совесть имели, честь и долг знали. Для этого родители должны сами по закону жить.
Ярулла невольно расправил плечи, вздохнул свободнее: именно о детях думал он, когда взвешивал все «за» и «против» своего брака с Наджией, – оттого и в Казани не прельстился улыбками девчат (многие ведь заигрывали с ним), и от Зарифы отказался, приглушив чувство любви.
Хасан умный, можно сказать, образованный крестьянин, похож скорее на городского жителя, – вон книги у него на полочке лежат, – поэтому и сумел разрешить сомнения зятя, найдя сразу ключик к его сердцу.
– Как вы насчет колхоза? – осторожно спросил Ярулла.
– В первый раз не пошел: Бадакшанов сбил меня с толку, но тогда колхоз и вправду развалился. Нынче подаю заявление. Если такой порядок устанавливается, надо идти вместе с народом. А ты, сынок, у нас останешься или обратно в город?
Ярулла, конечно, даже не помышлял о том, чтобы остаться в деревне: отвык он от нее, да и встреч с Зарифой боялся.
– Я обратно в Казань. У меня там квартира, работа хорошая.
– Хорошая? – Хасан задумчиво пощипал еще темные усы. – Татары издавна в городах либо торговцы, либо дворники, а то еще старьевщики; куда ни сунься: «Стары вещи покупай!..» Так и поют, как муэдзины на минаретах! Я в гражданскую, как и твой отец, кое-где побывал, многое видел, но из деревни меня не манит. Нет ничего краше хлебного поля, когда оно зеленью оденется, а еще лучше – зашумит спелым колосом. Дождик его оросит, ветер обдует, солнышко пригреет. Какая красота перед тобой: и горы, и леса, и река – серебро чеканное, птицы звенят на тысячу ладов. Все признают: нет края красивее Башкирии. Ты через нее проехал по дороге в Казань, видел, какая она! А в городе мне тесно, скучно: городской двор будто яма глубокая. – Хасан помолчал, сухой, жилистый, с наголо обритой головой; понял – не тронули зятя его слова. – Значит, увезешь Наджию в город? Выходит, такая ей судьба. А судьба – что сварливая жена, ее не переборешь.
На свадебном тое все было, как полагается. Правда, не мчался шумный конный поезд, не везли приданое в тяжелых сундуках. Просто на паре лошадей подвез Ярулла Наджию к самому крылечку отцовской избы, и Шамсия (как это делали все татарские женщины) выбежала навстречу и положила на снег подушку, чтобы мягкой была жизнь невестки с мужем, чтобы не водилось в доме ссор. Наджия, прикрывая лицо платком, выпрыгнула из саней, сразу став обеими ногами на подушку, а с нее, словно большая ловкая кошка, перемахнула на ступеньку крыльца, вызвав одобрительные возгласы собравшихся во дворе гостей, и званых и незваных. Потом она степенно вошла в избу, села на нары и помолилась вместе со всеми, проводя по лицу сложенными ладонями и повторяя в общем вздохе:
– Бисмилла [1]1
Бисмилла – во имя бога, или: господи, благослови (мусульм.). (Здесь и далее прим. автора.).
[Закрыть].
Совершив этот обряд, Наджия с помощью золовок начала разбирать сундук с приданым: стелить свои скатерти, вешать занавески, а над окнами и дверью – длинные полотенца. Свекру и свекрови она подарила платье, рубашки, коврики для совершения намаза [2]2
Намаз – мусульманская молитва.
[Закрыть]и вышитые ею полотенца – вытирать ноги, омытые перед молитвой.
Почти два дня шло гульбище: пили кумыс и пьяную медовку, ели шурпу [3]3
Шурпа – татарский суп.
[Закрыть], балиш [4]4
Балиш – пирог, испеченный и поданный на сковороде.
[Закрыть], бешбармак. Совсем как у богатых людей получился той, но Ярулла тосковал и тревожился: боялся, что придет Зарифа и всех высмеет. Опасения его оказались напрасными: она не пришла. Спросить о ней он не решался даже у сестренок. Однако долго гадать не пришлось, стало известно, что бойкая девушка опять уехала в город.
10
После свадебных расходов Низамовы, еле сводя концы с концами, жили впроголодь. Последние дни отпуска Ярулла гостил с женой у ее родителей: там было просторнее и не так скудно с едой. Тоска, охватившая его перед сватовством и во время свадьбы, прошла: сдержанно-ласковая, пышногрудая Наджия пришлась ему по нраву, как приходится по плечу в мороз удобный, теплый тулупчик, тем более что ее цветущая молодость обещала здоровое потомство.
Зато все сильнее беспокоило его положение в семье отца: мать нездорова, девчонки – плохие помощницы в хозяйстве, а хлеба до нового урожая не хватит. Как жить будут? Правда, они в колхозе, но колхоз-то пока одно название. Значит, надо скорее возвращаться в Казань и вместе с Наджией браться за работу, чтобы прислать домой хоть немного денег.
– Помоги, сынок, дров привезти. Председатель колхоза дает коня, – сказал Ярулле отец, как и все родственники, опечаленный предстоящим отъездом молодых. – Вдвоем быстренько воз накидаем.
Утром Низам, туго перепоясанный кушаком по заношенному бешмету, заехал за сыном, и они отправились в лес. В бледно-голубом небе неярко золотилось солнце. Опушенные инеем тонкие косы берез и черно-белая пестрядь стволов сливались с белизной сугробов. Заваливаясь в снегу до пояса, мужчины таскали к дороге валежник, заготовленный по осени, он был легок, и воз накидали изрядный, сверху наложили хворосту, да еще отец умудрился сесть.
– Лезь и ты, сынок. Может, успеем обернуться до ночи, заберем остатки.
– Нет уж! Ты гляди, как бы лошадь не понесла под гору.
– Мурза-то? [5]5
Мурза – бай, богач (башкир.).
[Закрыть]Этот не понесет. Я его знаю.
Действительно, конь замедлил без того неторопливый шаг и то ли навалился на воз широченным задом, то ли сушняк стал сползать на него.
– Смотри-ка! – закричал Ярулла. – Неладно мы уложили дровишки: подпирает коню под хвост.
Отец, лежа наверху, свесил голову и крякнул от удивления:
– Ведь он сидит на возу, проклят!
Ярулла до того смеялся, что, как мальчонка, упал на снег, догнал воз, взглянул на хитрого мерина и снова захохотал. Давно не было ему так легко и весело.
– Приспособился жить на свете! – сказал отец, улыбаясь и дымя цигаркой. – Ленивый, сколько ни хлещи, он только хвостом машет. Потому и жирный, сам на махан просится.
Во второй раз они подъехали на лесную делянку к вечеру, и пришлось крепко поработать, чтобы управиться до наступления темноты. Ярулла вспотел, скинул пояс с финским ножом и старый дедов чапан из домотканого сукна, надетый поверх стеганки. Меж деревьев уже сгущались сероватые сумерки, но он вспомнил о сухостойной березе за бугром, которую приметил в первую поездку.
– Я сейчас срублю ее, а ты складывай, что осталось, – сказал он отцу.
Быстро свалил дерево, разрубил его на части и вдруг услышал: не то лошадь зло взвизгнула на делянке, не то взвыл и резко оборвал волк. Однако отец, не подавая голоса, ходил неподалеку, хрустел снегом, и Ярулла успокоился, привязал веревку к самому толстому обрубку, поволок его.
Перевалив через бугор, он увидел, что воз совсем накренился, а Мурза бился так, словно хотел вырваться из лыковой упряжи и, заворачивая оглобли, с хрипом валился на бок.
«Неужели и впрямь волки! Где же они? Куда девался отец?»
Стиснув в руке топорище, Ярулла бросился вперед.
У раскатившихся с воза бревешек, на истоптанном снегу неподвижно чернел человек.
Ярулле показалось, что отца ушибла испуганная волками лошадь. Упав на колени, он приподнял его странно огрузневшее тело, заметил струйку крови, стекавшую из приоткрытого рта… Стараясь посадить, обхватил крепче немо падавшего навзничь, вдруг нащупал рукоятку воткнутого в его спину ножа; выдернул – и сразу хлынула теплая кровь. В голове Яруллы помутилось, и он закричал на весь лес…
11
На рассвете приехали из района милиционеры, всех расспрашивали, писали протокол. Потом ввалились во двор Низамовых деревенские мужчины с муллой во главе, положили на носилки плоско вытянутое тело Низама, обернутое в длинный, до пят, саван, прикрыли сверху стеганым одеялом и понесли на кладбище. Жена и дочери с рыданиями бежали следом, но возле городьбы кладбища, запретного для женщин, отстали. Шагая рядом с носилками, на которых тихо покачивался мертвый отец, Ярулла увидел, как, словно подрубленное дерево, рухнула на снег мать, как с плачем облепили ее сестренки. Лишь издали может посмотреть мусульманка на каменный столб или на деревянный сквозной сруб, под которым покоится дорогой человек. Доступ на кладбище ей откроет только старость или смерть.
У русских покойник гостит в семье три дня, татары хоронят в тот же день. Издалека чернеет яма, уже вырытая для отца Яруллы. Нарядные, в зимнем уборе стоят по всему кладбищу деревья, посаженные родственниками умерших. Вон ель, вымахавшая над могилой деда Низама, шатается от порывов налетевшего ветра, взмахивает белыми мохнатыми лапами, роняя комья снега. Будто плачет по внуку старый бабай, рвет в отчаянии одежду.
Заплакал и Ярулла, придавленный лютым горем, и от слез, ослепивших его, все вокруг подернулось мутной пеленой.
Старики сняли с носилок одеяло и опустили убитого в могилу, положив прямо на голую землю в нише, выкопанной внизу ямы. Нишу закрыли досками в наклон, и застучала, зашуршала мерзлая земля, засыпая последнее убежище Низама, так и не увидевшего светлой жизни, к которой он стремился.
Ярулла смотрел опухшими от слез глазами, как зарывали отца, и терзался запоздалым раскаянием в том, что в постоянной городской сутолоке часто забывал о нем, а ведь он таскал его, маленького, на своем плече, вырезал веселые посошки и дудки из зеленого тальника, и корзиночки плел, и, возвращаясь с базара, обязательно привозил гостинцы, пусть немудрящие, но дорогие детскому сердцу. А потом учил сына ходить за сохой, ставить невод на реке, срезать острой косой влажные от росы луговые травы… Был отец, добрый, щедрый на ласку и заботу, – и вдруг не стало его: окончился на белом свете путь Низама Низамова, а вместе с тем оборвалась прежняя жизнь его родных. Все надо строить заново.
12
Случись такое в старое время, замучили бы Яруллу на допросах, засудили бы. Однако враг, ударивший уже оглушенного дубиной Низама ножом его сына, просчитался: следствие установило, что сельский активист Низам Низамов убит подкулачниками. Нити потянулись ко двору Бадакшанова, и хищного мироеда приговорили к высылке в дальние края.
В последний раз прошел он по деревне, мимо молчаливых, отчужденных урманцев, мимо окаменевшего Яруллы – невысокий, но плотный, в романовском полушубке и меховой ушанке, надвинутой на одутловатое лицо, на котором, как свинцовые картечины, светились смертельной ненавистью глубоко посаженные глаза.
Ярулле пришлось вступить в колхоз вместо отца. Не смог он, обремененный теперь заботами о такой большой семье, уехать в Казань.
Но для того ли он уезжал в город на десять лет, чтобы снова взяться за цеп и косу? Хотел стать рабочим высокой квалификации, а выше кочегара не поднялся. Для тестя это все равно, что дворник или старьевщик. Выходит, зря убил время! А мог бы даже на ветеринарного фельдшера выучиться! Ну, как вернется Зарифа из Челябинска да в самом деле сядет на трактор! Одними насмешками сживет со свету. Ярулла работал в колхозе то за конюха, то помогал плотникам, но от смутного, тяжелого беспокойства чувствовал себя словно волк, приморозивший хвост к проруби.
И вдруг по деревням и селам Зауралья прошел удивительный слух: в Башкирии, возле деревни Уртазы, из скважины, пробуренной разведчиками, ударил нефтяной фонтан. Заговорили об этом и в Урмане.
«Нефыть! Что такое нефыть?»
– Керосин. Вот что такое нефыть! – заявила Бибикей Насибуллина, стоя у плетня, который отделял ее двор от двора Низамовых. – Зарифа рассказывала, как он добывается. Мы тут ходим, хлеб сеем, лен да коноплю треплем, а под нами керосиновые реки текут…
– Уф, алла! Что теперь будет? – воскликнула Шамсия, совсем высохшая и постаревшая после смерти мужа.
– Хорошо будет, – сказал Хасан, пришедший навестить молодоженов, переехавших снова в осиротелый дом Низамовых. – За бутылкой керосина гоняемся, а тут свой появился. Это не хуже, чем в сказках: молочные реки, кисельные берега: трактора-то керосином заправляют?
– Говорят, что этот керосин черный, как горелое масло, – вмешался в беседу Ярулла, который поправлял дверь хлева, оторванную ветром.
– На то ученые люди есть – очистят, – с неожиданным сознанием своего превосходства возразила мать Зарифы, наслушавшаяся от дочери о машинах и горючем для них. – Заводы строятся, чтобы делать керосин. Ставят возле печей чаны высокие с трубками, по ним керосин и течет вроде самогона. Смола там еще какая-то получается.
– Я об этом тоже слыхал, – подтвердил с важностью Хасан. – Был у нас красноармеец в отряде с бакинского завода. Работать там трудно, но заработок порядочный.
– Пусть другие гонятся за таким заработком. – Шамсия не без опаски посмотрела на Яруллу. – Уж лучше на золото податься, чем на нефыть, – добавила она, вспоминая о ямах, пробитых старателями на склонах горы за крылом Урманского леса.
Золото? Нет, золото не манило Яруллу. Мало ли хороших людей потеряли здоровье на старании в глубоких этих шурфах. Роются, будто кроты-одиночки, но никто из них не создал себе хорошую жизнь, даже те, кому фартило. Взять хотя бы Насибуллу, отца Зарифы, могучего башкира: сначала запивать стал, потом в карты приохотился играть, а лет шесть назад уехал с дружком, таким же старателем, в Якутию, на далекие Алданские прииски, да и пропал без вести.
Мысль об отце Зарифы, как и рассуждения Бибикей, поющей, конечно, со слов дочки, снова вызвали у Яруллы саднящее чувство. Будет ли Зарифа жить в деревне со своим будущим мужем Магасумовым или начнет трепаться с кем попало, все равно постарается портить настроение Яруллы, не даст ему покоя. Последние встречи ясно показали, что его тут ожидает. Лучше бы уехать отсюда!
– Квалификации настоящей у меня нету, вот беда! – грустно посетовал он, прикрыв налаженную им дверь, подобрал топор, оставшиеся гвозди.
– Опять жди бурана! – взглянув в неспокойное небо, багрово-красное на западе, предсказала Бибикей. – Растреплет ветер стога в степи. Лоси да козы порастащат сено, а как за ним проберешься по таким заносам? – Бибикей вспомнила злополучную поездку в лес Низама Низамова, пригорюнилась. – Живем, живем, а ничего путного не видим! Меня все корят Зарифой… Я сама не рада ее характеру, а нет-нет да подумаю: «Пусть хоть она поглядит, как люди на белом свете живут!» Тоже нелегкое дело себе выбрала. Шутка сказать, трактор! В нем одних винтов, наверно, тысяча штук, и каждый запомнить надо. А уж как на нем ездят, ума не приложу!
Шамсия и Хасан промолчали, а Ярулла подумал: «Так и будет на каждом шагу – Зарифа да Зарифа!»
Звякало ведро у обледенелого колодца. Где-то жалобно мычал теленок, блеяли суматошные овцы. Наступал ранний деревенский вечер, а там и ночь на полсуток.
– Если бы мне квалификацию токаря или слесаря, пошел бы я на любое производство, – продолжал свое Ярулла.
– Ступай на нефть, – вдруг посоветовал Хасан, тронутый глубокой печалью в голосе зятя. – Если не манят тебя хлебное поле да зеленый покос, иди на промысел. Мать с девками не пропадет: все вместе в колхозе работать будем.
– А может, там еще нет ничего, только ведь открылась, – сказал Ярулла, обрадованный и немножко пристыженный.
– Съезди посмотри. Наджия пока дома поживет.
13
Март уже пригревал землю. Ослепительно белели покрытые снегом поля, голубоватые тени лежали по оврагам, и, царственно пышные, плыли в высокой синеве палево-седые облака. Они двигались из Оренбургских степей, подгоняемые южным ветром, наползали на древние бугры Уральских гор, клубились над речными долинами. Уральские горы! Словно табуны диких коней, ворвались они с севера в привольные степи и окаменели навсегда, опустив долу темные гривы. Вместе с ними вытекли из теснин на простор воды рек Белой и Урала.
Проезжая в поезде от Чебаркуля до Уфы, снова дивился Ярулла обилию скал и массе лесов, карабкавшихся по крутосклонам. В Уфе он подхватил свою котомку, вышел из вагона и отправился бродить по городу в поисках попутного транспорта на Стерлитамак. Что такое здесь попутный транспорт? Это грузовые машины, тяжело идущие по Оренбургскому тракту, который тянется по левому берегу Белой, среди пустынных в зимнее время полей и чернолесья. Ветер пронизывает насквозь, когда сидишь в кузове, вернее, над кузовом грузовика, цепляясь за веревки, которыми стянута кладь под брезентом. Верст сто ехал Ярулла, дрожа от холода. Вот и Стерлитамак – маленький городишко. Дома-развалюхи, кривые улицы, летом, наверно, грязища. Почему-то много деревянных мостов, то ли одна речка петляет, то ли много их тут. За Стерлитамаком далеко друг от друга разбросаны на увалистой равнине скалистые шиханы: [6]6
Шихан – островерхий холм.
[Закрыть]один – как седло, другой на кулак похож, третий – будто башкирский малахай. Говорят, вдоволь погуляли по этой большой дороге горе да беда: тут и Колчак ходил, тут и голод косил людей. Уныло горбились в деревнях избенки со съехавшими набекрень крышами, не то соломенными, не то лубяными, – не видно под снежными ковригами. У некоторых изб крыш вовсе нет – торчит лишь на плоской земляной кровле, среди былин засохшего бурьяна, широкая труба чувала, словно камень на могиле. Где-то здесь проносился с конницей Чапаева Низам Низамов… Воспоминание об отце острой болью прошило грудь Яруллы.
В одной из деревень он остановил машину, расплатился с шофером и, вскинув на плечи котомку, направился в сторону нашумевшей Уртазы. Масса голодных собак провожала его оголтелым лаем. Правда, все эти Актырнаки, Юлбарсы и Карабаи [7]7
Башкирские клички собак: Актырнак (Белый Ноготок), Юлбарс (Тигр), Карабай (Черный Бай).
[Закрыть]кусаться не лезли, а только будто допытывались с пристрастием, куда и зачем идет человек? Поэтому никто их не отгонял, и сам Ярулла не пытался отмахиваться от крутившихся вокруг него тощих, зубастых стражей, чтобы не вызвать среди них еще большего воодушевления.
Стайка кур на куче прелой соломы. Корова под скатом крыши греет на солнышке шершавый бок. Несмотря на яркое солнце, злой ветер режет лицо до слез, треплет какую-то рвань на покосившейся городьбе, заламывает хвост петуху, зябко подобравшему под себя одну ногу.
Все неприглядно, нищенски убого.
Но ведь это здесь нашли керосиновые реки, текущие под землей! Значит, есть промысел, дома, хотя бы бараки, и уголок для Низамова тоже должен найтись. Он согласен жить хоть на чердаке, хоть под лестницей, только дали бы ему возможность строить новый город в степи. Раз нашли нефть, обязательно будет город. Так говорили в поезде бывалые люди, так думал и сам Ярулла.
Он проголодался, устал и озяб. Можно было бы зайти в одну из хатенок, согреться, отдохнуть, но близился вечер и приходилось торопиться. Скоро солнце упадет за шиханы, что торчат вдоль далекой уже Ак-Идели, за леса, темнеющие на горизонте. Еще немного, и холодный день угаснет, мертвая чернота окутает землю. Жутковато одинокому путнику в незнакомых просторах. Красные огоньки чуть вспыхнут в степи, словно волчьи глаза, и погаснут: рано ложатся спать деревенские жители.
Боясь близкой ночи, тоскуя о ночлеге, Ярулла зашагал еще быстрее. Позади осталась Уртазы, прогремевшая, наверное, на весь Советский Союз. Где же промысел?
14
На отлогом увале вздымалась в небо сорокаметровая буровая вышка, обшитая снизу тесом для защиты от ледяного ветра. Далеко разносился ее глухой мощный скрежет, будто в ней вращались мельничные жернова, шумно было и в смежном сарае, где работали движки и насосы.








