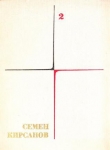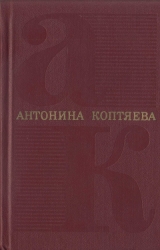
Текст книги "Собрание сочинений.Том 5. Дар земли"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)
Антонина Дмитриевна Коптяева
Дар земли
Часть первая
1
Поезд ушел в морозную темноту, и Ярулла Низамов остался один у черневших на снегу рельсовых путей. Звезды помаргивали в глубине неба, словно всматривались с любопытством, кто тут появился с котомкой за плечами и сундучком в руке. В неказистом поселке, смутно видневшемся по ту сторону железнодорожного полотна, все спали, лишь в здании полустанка тускло желтели окна.
Ярулла потянулся было на огонек, но раздумал: рассвет еще далеко, до дому близко, зачем зря терять время? И он направился в степь, сопровождаемый разноголосым лаем поселковых собак.
Бедно жил здесь народ, когда-то кочевой, потом лишенный земли, издавна разоренный поборами. «Угасающая Башкирия», так называли в старину этот край. А красивый он! Взять тот же Большой Урман, родную деревню татар Низамовых, расположенную на склоне холма над веселой речкой и окруженную могучими березовыми рощами, куда Ярулла бегал с ребятишками за клубникой, дикой вишней и хворостом. Позднее он хаживал с отцом через эти леса на свои и чужие поля и покосы. Десять лет прошло с тех пор.
Тянул навстречу ветер, гнал жгучую поземку, но на душе парня было радостно: домой идет!
Отец написал, что присмотрел ему невесту. Наверно, хорошая она, только у Яруллы есть уже там девушка на примете – красавица башкирка Зарифа Насибуллина. Поэтому и торопился он в Большой Урман, надеясь получить согласие родителей на брак с Зарифой – вера у них одна, обычаи близкие. Денег на свадьбу хватит – трудолюбивый Низамов брался за любую работу, чтобы отложить копейку.
Шагает одинокий путник по степи, озаренной солнцем, встающим за розовато-пепельными столбами дыма над деревенскими избами, как будто выбегающими навстречу из чернолесья. Дальше, точно волны на море, дыбятся горы – там богатый озерами таежный Урал.
Много озер раскидано и по степи. Приманчиво блестят их зеркала в зеленой оправе тростников, а в лунные ночи словно выпирают они из берегов, светясь серебром среди равнинного раздолья. Плещется в них рыба, стонут непуганые стаи птиц. Шел Ярулла и вспоминал, как ходил батраком по этой земле, как от лютой нищеты уехал в Казань, где служил истопником вместе с дядей Хафизом. Только через семь лет наведался он домой, но с тех пор стал приезжать каждый год. Что же потянуло его в родные края? Есть недалеко от Большого Урмана озеро Терень-Куль. На всю округу славится оно плавучими пышнотравными островами, которые, точно плоты, свободно двигаются по воде. Когда Ярулла впервые приехал в гости к родным, отправились они с отцом на озерные покосы. На утлой лодчонке добирались до своего острова, косили высокую траву, сметывали копны. Случалось, сильный ветер, налетавший то со степи, то с отрогов Урала, перегонял острова с места на место, перепутывая покосы; тогда между жителями возникали споры и потасовки, а озеро будто смеялось над ними, лениво плеща волной и шурша тростниками.
Во время такой схватки увидел снова Ярулла быстроглазую соседку Зарифу. Девушка-подросток гнала лодку сильными ударами весел, звонко переговариваясь с матерью, платок слетел с ее головы, черные косы метались по плечам. Так вот какой стала она, самая озорная в многодетной семье Насибуллиных! И уже была просватана за пожилого односельчанина Магасумова. Знал об этом Ярулла, но когда она появилась, то все вокруг показалось ему прекрасным.
Захватив для вида удочку, подплыл он к покосу Насибуллиных, чтобы еще раз взглянуть на Зарифу. Сквозь зеленую завесу стеблей, качавшихся над серебристым блеском воды, морщившейся от порывов ветра, вдруг мелькнуло, словно крыло лебедя, девичье плечо, обтянутое белым холстом домотканой рубашки, лицо, рдевшее горячим румянцем, ярко-черные блестящие глаза. Девушка работала и посмеивалась, сразу заметив с детства милого ей парня. С тех пор Ярулла и стал приезжать домой каждое лето. В прошлом году, улучив минуту, перебросился несколькими словами с Зарифой. Обожгла она его взглядом, но сказала с непривычной печалью:
– С матерью поговори. Может, Магасумов отступного возьмет. Когда я о нем, старом шайтане, думаю, до того тошно на душе – жизни не рада. А тебя буду ждать…
2
Днем жарко натопили баню. Мать настряпала оладий из пшеничной муки, отец купил и привез на санках бурдюк кумыса. Пришла старшая жена София-апа с детьми – сводными братьями и сестрами Яруллы. Много народу собралось в избе Низамовых. Были тут и башкиры и татары. На низеньких нарах расположились старики да Ярулла. Остальные, кто в рваненьком полушубке, кто в стеганом бешмете, толпились у дверей или сидели, поджав ноги калачиком, на полу и жадно слушали, как дорогой гость, румяный после бани, в новой рубашке, с туго застегнутым воротником, рассказывал о жизни в городе.
– Трудная работа у котлов, – важничал он, поблескивая большими карими глазами. – Огонь гудит в топке, будто красные петухи прыгают по раскаленному углю. На цементном полу шлак дымится. Я в спецовке, рукавицах, сапогах. Нельзя иначе в кочегарке. Зато и уваженье: премию дали, комнату получил по ордеру от горсовета – значит, напостоянно, как изба в деревне.
Земляки слушали, вздыхали. Конечно, теперь не старые времена, когда русские помещики отняли у башкир все земли и пастбища и народ целыми семьями вымирал в голодные зимы. Теперь получили землю обратно, но не сразу подступишься к ней с голыми руками. Кулак набирает силу, а бедноте трудно. Вот в городе и бедный человек может устроиться на хорошую работу!
– Нет, город – это чума. Город – погибель! – ревниво угадав мысли присутствующих, сказал родственник Низамовых Ахмет Гайфуллин.
Снежок седины точно таял на его огненно-рыжей голове, но виски, брови и узкая бородка совсем побелели, резко подчеркивая смуглость изможденного лица. Никак не мог он смириться со смертью единственного сына Фариха, ушедшего на заработки в Челябинск и умершего там от скоротечной чахотки.
– Зачем нам город? Попадешь туда – петля! Омут черный, – продолжал Ахмет Гайфуллин со страстным волнением. – Я бы на месте Бибикей Насибуллиной не отпускал Зарифу на курсы в Челябинск. Девка и без того крученая. Нет в ней степенности, стыдно смотреть, как она с парнями хороводится. Раньше таких плетями хлестали при всем народе. Какая из нее трактористка – баловство одно.
Яруллу словно кипятком обдало.
«Уехала… Значит, не нужен я ей, а обещала: „Буду ждать“. На воле жить захотела, с парнями гуляет – ведь на курсах трактористов только мужчины. Ахмет-абзы – человек почтенный, серьезный, зря не осудит».
– Когда Фарих лежал в больнице, ездил я в город… Улицы будто каменные трубы, ветер холодный по ним так и садит. От дыма сине. Народ бежит куда-то. Все чужие, все злые. Никто с тобой разговаривать не хочет. Никакого толку нигде не добьешься, – говорил Гайфуллин, и голос его, полный тоски и горя, резал слух. – Два дня не мог найти больницу и, когда нашел, до утра томился, прежде чем в палату пустили. А сын не дождался – умер, пока я в сенях сидел…
Сотни раз рассказывал Гайфуллин о смерти сына, и слова его вызывали общее сочувствие. Вот и сейчас от них повеяло холодом в маленькой, жарко натопленной избе, и оттого милее показался всем родной Урман, затерянный в лесостепях Зауралья. Только Ярулла остался при своем мнении.
– Нельзя же сравнивать новую жизнь с тем, что было раньше! – сказал он. – Такое строительство идет везде! Днепрострой появился. Тракторный завод. У нас, за Уралом, нашли железную руду, и вот «Магнитка» зашумела. Здесь, в деревне, все изменилось. Колхозы, понимаешь… (Про себя он отметил с горечью: «Даже Зарифа на курсы уехала».) А в городе вовсе по-другому жить стали. Я, деревенский житель, сначала там чудаком казался. А теперь ударник. Три раза премию получал. Выхожу, понимаешь, в клубе на сцену, музыка играет. Хочешь посмотреть кино – пожалуйста! А театры какие! Магазинов полно. Баня – в любое время. Хоть целый день мойся. От электричества светлым-светло. Вода горячая, холодная из кранов – сколько угодно.
Урманцы слушали, вздыхали. Они не знали электричества и даже представить себе не могли, как это выйти на сцену под музыку. У них не было клуба, и они ни разу не бывали в театре.
Однако и деревня кипела в ожидании больших событий: крестьяне спорили до хрипоты, как жить дальше. Говорят, если организовать колхоз, тогда машины будут ворочать землю. Хорошо, конечно, ходить по собственной пашне, держась за поручни плуга! А если у тебя ни плуга, ни лошади? Нет, дружной артелью легче работать, избывать вечную нужду. Поэтому отец Яруллы – Низам Низамов, жилистый, еще крепкий человек, за колхоз. Башкир Бадакшанов, брат муллы, державший в кулаке многих односельчан, запутавшихся в долгах, – против колхоза. У того свои доводы:
– Машина в хороших руках – большая сила. Только где они, хорошие-то руки, в нашей деревне? Всё голь да темнота. В своем углу каждый хоть бестолков, да хозяин, хоть голоден, да волен, а собери всех в кучу – сживут друг дружку со свету.
И выходило так, что единственный стоящий человек в Большом Урмане – Бадакшанов, недаром у него одного дом под железной крышей.
– Ума не приложим, сынок, как нам теперь быть: идти ли опять в этот самый колхоз или жить по-старому? – сказала мать, когда разошлись гости, и посмотрела на Яруллу теплыми, но уже выцветшими глазами, неловко сложив огрубелые руки, никогда не знавшие покоя.
Всю жизнь эти руки трудились в поле и дома, старались получше залатать прохудившуюся одежонку, без обиды разделить на полдюжины ртов горбушку ржаного хлеба с лебедой. Воспоминания о детстве вызвали у Яруллы нежную жалость к матери, и он внимательнее прислушался к ее словам. – Был уже у нас колхоз. Собрались мы в одну артель, скотину согнали в общественный табун, да не сработались: одна толкотня да беспорядки. Ну и разбежались опять врозь. Оно и понятно: все речи навострились говорить, а толку чуть, родные меж собой грызутся, словно собаки, где же добиться ладу в целой деревне?
– Побаски Бадакшанова повторяешь! – укорил отец. – Да ведь брешет он – свой богатый двор от голытьбы стережет! А у нас дворов нет. Вот уж верно: небом покрыты, полем огорожены. Такие, как мы, сроду горячий хворост в костре. Если нам от новой жизни отказываться, то зачем я в гражданскую к Чапаю уходил? За что, спрашивается, воевал? Чтобы кулаки на селе опять росли? Не бывать тому! Когда Бадакшанов зовет народ направо, то я должен налево агитировать. Тут мы с ним друзья, вроде огонь с водой. Раз невозможно бедняку добиться счастья в одиночку, значит, надо создавать его вместе на общей земле.
Мать вздыхала, на глаза ее навертывались невольные слезы: хотя бы на старости лет пожить без страха перед голодовкой, издавна ставшей хозяйкой в башкирских поселениях. Теперь есть земля и у Низамовых. Даже на девчонок – а их трое – дали наделы. Вон сидят, длиннокосые, рядком за откинутой кухонной занавеской, прядут конопляную пеньку, вяжут кружева из суровых ниток. Старшей семнадцать, младшей – восемь, но их ведь в соху не впряжешь! Ярулла весело подмигивает сестрам. Ходили они в общую сельскую школу, сидели за партами вместе с мальчишками, а дома, по старому обычаю, мужской компании избегали. Но все-таки теперь стало вольнее и проще, чем десять лет назад.
3
Ярулла проснулся в темноте и не сразу сообразил, куда его занесло. Кругом сонно дышали люди, слабо белели покрытые морозным узором стекла окон. Кто-то топтался возле нар, сопел, чавкал. Протянув руку, парень нащупал большую тряпку, вытащив ее из губ теленка – угадал в ней свою новую вышитую рубаху. Намокшая ткань была прожевана до дыр.
Жалко: слюнявый дуралей испортил хорошую вещь!
Душно в избенке, хотя от порога тянет холодом: дверь обита не войлоком, а дерюгой с прокладкой из пакли. Ярулла угнездился поудобнее, подтянул повыше край одеяла, собираясь еще вздремнуть, но вдруг тревога остро кольнула в сердце…
Опять эти жестокие слова Гайфуллина о Зарифе! Выходит, посмеялась девушка над влюбленным джигитом, а сейчас другим улыбается!
Поймав теленка, Ярулла привязал его к ножке кухонного стола, оделся и вышел во двор. В хлеву шумно вздыхала корова, бормотали спросонья гуси. Ветер шуршал в стожке соломы, сметанном на крыше хлева, приносил запах дыма: деревенские хозяйки уже затопили печи. Под увалом белела снежной гладью речка с черными дырами прорубей и старыми ветлами вдоль берега. Все родное, с детства знакомое, но когда-то еще возникнет здесь хотя бы подобие городской жизни? За последние десять лет только возле дома Бадакшанова выросли новые постройки; остальные избы совсем обветшали, того и гляди рухнут. Скупо пробивается сквозь замерзшие окошки свет керосиновых ламп, а недавно и лучину жгли.
Тоска так и давила сердце Яруллы: приехал, а Зарифы нет, и сразу опустела деревня.
– Ты что тут зябнешь, сынок? – с привычной заботой спросила мать, выходя на низенькое крылечко.
– Мне не холодно. Я смотрю, ани, на нашу улицу и вспоминаю, как мы тут росли.
Мать ласково усмехнулась.
– Наджию, дочь Хасана, ты помнишь?
– Нет… Я вроде и не знаю такую.
Снова забравшись под одеяло, Ярулла стал перебирать в памяти девушек, с которыми раньше встречался в Урмане. Почему мать заговорила о какой-то Наджии и не обмолвилась ни словом о Зарифе? Наверно, тоже осуждает ее? А вдруг Зарифа сбежала в город от Магасумова, которого ей нарекли в мужья? Она это сможет: всегда отличалась бойкостью среди деревенских девчонок. Так и носилась по деревне – вертлявый, юркий чертенок, – мелькая узкими пятками, и уже в ту пору заигрывала с Яруллой. Ножки ее были покрыты грязью и цыпками, платьишко рваное, но зато круглое лицо просвечивало нежным и смуглым румянцем, точно наливное яблочко.
Шамсия вздула огонек на шестке и подсунула охваченную пламенем бересту под дрова, с вечера уложенные в печи; заметив широко открытые глаза сына, вкрадчиво спросила:
– Не спишь? О чем задумался?
– Зарифу Насибуллину вспомнил.
– Ох, сынок, ни к чему она тебе! Совсем шальная стала, совестно слушать, как о ней люди судачат. И зачем только отпустила ее Бибикей?! Свихнется девка! – Мать недовольно громыхнула ухватом, присела на корточки у постели Яруллы. – Смеются теперь урманцы над Магасумовым, а он говорит: «Я еще успею свою нареченную к рукам прибрать». И приберет: он много старше, сам грамотный. Тебе, сынок, мы другую сговорили…
– Наджию Хасанову?
– Да, Наджию. Девушка скромная, работящая. И собой видная, только один изъян: родинка мохнатая на щеке, будто комочек шерсти прилип. Но ведь это пустяки.
– Родинка-то? Конечно, пустяки! – спокойно подтвердил Ярулла, которому женитьба на незнакомой девушке представлялась пустой затеей, и, однако, вздохнул, подумав: «Они тут совсем решили мою судьбу!»
4
Заснуть он больше не мог: лежал, смотрел на пылающий в печи огонь и теперь уже неотвязно думал о выборе, сделанном родителями.
Почему он должен жениться на незнакомой? Пусть не Зарифа, но мало ли хороших девушек в Казани? Наджия… И вдруг точно молнией в темноте озарило… Девочка лет двенадцати, укрывая лицо краем платка, повязанного по-татарски двумя смежными концами, бежала по улице; смех и вопли мальчишек подстегивали ее, пока старик, неподвижно, как ворон, сидевший на бревнах, в черном чапане и тюбетейке, не заступился за нее, пригрозив обидчикам тяжелым костылем.
– Наджию черт поцеловал! Наджию черт поцеловал! – приплясывая, выкрикивали издали неугомонные шалуны.
Значит, потому и не запомнил ее Ярулла, что она всегда дичилась и не участвовала в играх детей.
Совсем другой росла Зарифа. Вот она лежит на подоконнике, свесив растрепанную голову, шарит по завалинке цепкими руками – того и гляди, кувыркнется. Эта не побежит прятаться, а поколотит и исцарапает любого, кто ее затронет.
Ухватив оброненный гребешок, она с торжеством укрепляется на своей позиции, победоносно поводит искристыми черными глазами.
– Ты тятю моего видел? – задорно, весело кричит она, заметив Яруллу через поломанный плетень в соседнем дворе. – Тятя-то мой опять пьяный, швейную машинку сломал и мамке всыпал. Гляди: он и тебе всыплет!
Но неожиданно Зарифа хватается за волосы и точно испаряется, а в тесной раме окна появляется Бибикей.
– Зачем связываешься с девчонкой? – незлобливо спрашивает она. – Ты вон какой вымахал, женить можно.
Бибикей, окруженная малыми детьми, с рассвета до поздней ночи, подоткнув подол и засучив рукава, работает то в огороде, то в избе. Посуда в ее небогатом хозяйстве блестит от чистоты, некрашеные столы, лавки и полы, что дома, что в баньке, светятся белизной.
– Ты смотри, каков у меня талант! – громко говорит она матери Яруллы, тоже выглянувшей из своего окошка. – Девять ребятишек в избе и живности полный двор: лошадь, корова, овечки, кошка с котятами, утки, куры, гусята… А это что? – Бибикей наваливается на подоконник дородным станом, указывает глазами вверх.
Ярулла и Шамсия тоже задирают головы. На древних тополях у избенки Насибуллиных черно от грачиных гнезд. Над дуплянками всю весну наперебой свистят скворцы, под соломенной крышей хлева ютятся галки, а воробьи так и носятся, так и рассыпаются стайками, словно их из мешка вытряхивают.
– Вся живность ко мне тянется, а радости нету. Правда: поломал Насибулла швейную машинку, чугун эмалированный расколол. Трезвый – дурной, а пьяный и вовсе никуда не годится. Дал ему аллах силу не по разуму! Ты гляди, как славно, дружно грач с грачихой живут! – Бибикей с завистью показывает на черные шапки гнезд. – Карге вороне тоже хорошо: сама в гнезде сидит, мужик еду ей таскает, кормит. А отчего мы, бабы, так плохо живем?
«Верно ведь! Отчего нет никакой радости у Бибикей? А лучше ли другим женщинам?»
Но долго размышлять Ярулле некогда: надо идти к реке собирать высохшую после вымачивания коноплю.
Серыми рядами лежит она, как дерюга, разостланная поверх яркой зелени молодой травы. Почти каждая хозяйка раскинула по берегу возле мочильных ям такие дорожки: все в деревне сеют коноплю, ткут из нее суровое полотно, делают сапожную дратву, веревки.
Откуда-то вывертывается Зарифа. В смуглой ручонке ее горит словно солнышко нежно-желтый венок из одуванчиков.
– Я не сержусь. Совсем даже не было больно, когда меня мама за волосы дернула! – Она, улыбаясь, протягивает Ярулле венок. – На, возьми.
Он отмахивается с чувством неловкости.
– Вот еще! – И сурово, урезонивающе: – Баловница ты! Ведь только что влетело тебе, а все будто с гуся вода. Зачем мне твои цветочки, маленький я, что ли?
– Зарифа! Где ты, окаянная девчонка? Куда ты запропастилась? – кричит на своем дворе Бибикей.
И так не вяжутся эти грубые слова с ее звонкопевучим, грудным голосом.
Зарифа срывается с места, но на ходу успевает растерзать венок и швырнуть в лицо отрока горсти золотых брызг.
– Важный какой! Даже подойти нельзя!
5
«Смешная была девочка!» Ярулла гонит прочь мысли о нынешней, взрослой Зарифе, жестоко обидевшей его своим исчезновением (ведь знала, что он приедет), но и о Наджии, которую «черт поцеловал», тоже старается не думать.
По законам шариата знакомиться жениху с невестой до брака не полагалось. Но в деревне все жители знают друг друга: дети растут и играют вместе, да и как спрятать здесь девушку от парней?
Ярулла не собирался жить в деревне за высоким забором, тем более что не имел средств на такое сооружение, как и многие его земляки, но жену ему хотелось иметь степенную, чтобы не было в семье ссор, чтобы дети росли послушные. Зарифа никогда не отличалась скромностью и тихим нравом, однако Низамов рассчитывал, что с возрастом она образумится. Поездка домой в прошлом году особенно обнадежила его: Зарифа заневестилась, стала стеснительнее, скромнее. Тем обиднее оказалось теперь разочарование. И все-таки Ярулла обрадовался, увидев ее на деревенской улице.
Случайно ли она появилась или прикатила, прослышав о приезде любимого человека, только поведение ее не рассеяло его тревоги по поводу дурных толков о ней. Наоборот, что-то новое, пугающее появилось в облике девушки, которая, идя по улице, бойко размахивала руками, задорно отшучивалась, когда парни пытались остановить ее, смело, даже небрежно здоровалась со старшими, может быть сердясь на них за явно выраженное осуждение. Она сама пошла наперерез Ярулле, придерживая у горла накинутый на плечи полушубок и сияя улыбкой. Куда бежала простоволосая, несмотря на холод? Почему остриглась? (Башкирки обрезали косы лишь в знак печали.)
– Здравствуй! – сказала она, прямо глядя в глаза Низамова, и протянула маленькую теплую руку.
Ярулла взял ее ручонку, неловко подержал в широкой ладони и, спохватившись, выпустил: засмеют односельчане девушку, которая ведет себя так развязно.
Но Зарифа, не боясь насмешек, забыв даже о Магасумове, не озиралась по сторонам.
– Вернулся?
– Вот приехал…
– Совсем?
– Н-не знаю… вряд ли – совсем.
Она еще пристальней всмотрелась в него, не понимая его растерянности, огорченная холодом встречи.
– Я в Челябинске, на курсах трактористов. Еле вырвалась отсюда и словно опять на свет родилась! Не нарадуюсь, как замечательно все получается – сама себе хозяйка буду. Правда хорошо, что я стану трактористкой? – Не получив ответа, Зарифа добавила: – Я теперь комсомолка. А ты?
– А я? – Слова опять застряли в горле Яруллы. Чем мог он удивить бойкую девчонку? Лицевым счетом на комнату? Своей работой кочегара? Или тем, что родители сосватали ему Наджию, которую «черт поцеловал»?
«Правильно сделали, что сосватали! – угрюмо подумал он, всматриваясь в смугло-розовое лицо Зарифы, в глаза ее, излучавшие прямо-таки нестерпимый блеск. – Вот красота, выставленная напоказ всему белому свету. Глядите. Любуйтесь. Сплетничайте. Треплите длинные свои языки. Права мать: боязно иметь такую дочку, а еще страшней завести такую жену».
– Ты будто из-за угла мешком напуганный. – Зарифа невесело засмеялась. – Неужели пересудов боишься, как наша Маруся?..
– Какая еще Маруся?
– Наша уборщица в общежитии, – приехала из деревни и всего боится.
Нет, иной представлялась любимая девушка Ярулле. Теперь он окончательно уверился в том, что она издевалась над ним в прошлом году, когда обещала ждать его.
«Трактористкой стану!» Никто в Большом Урмане еще и понятия не имеет о тракторе, а Зарифа сама собирается на трактор сесть. Чего доброго, курить начнет! Каждому мужчине равная, смело протянет руку, прямо посмотрит в глаза.
– Уф, алла! – Сын Низама с невольным облегчением расправил плечи, когда девушка, опечаленная до слез, но с гордо поднятой головой, побежала дальше.
Такая никому дороги не уступит, спуску не даст и свекровке тоже не покорится, не сядет, будто робкая батрачка, бочком к столу за самоваром. Она даже перед отцом мужа не потупится, как должно невестке, не смеющей пикнуть или, спаси аллах, запеть при свекре.
Вот Наджия, говорят, скромница, работящая и почтительная дочь. Никто не видел, чтобы она больно вела себя на улице.
Чем дольше размышлял Ярулла, тем больше убеждался в том, что родители правильно поступили, позаботясь – хотя бы и деспотично – о его будущей семейной жизни. Прийти к такому выводу ему было не так уж трудно: Низамовы, как и другие жители деревни, приучали детей с малых лет к послушанию и покорности старшим.
Подходя к своему двору, он еще раз окинул взглядом деревенскую улицу. Избушки с навесами снежных ковриг над окнами подслеповато выглядывали из-за убогих плетней и серых частоколов.
То-то задрожат они, то-то глянут удивленно, когда мимо них прогрохочет на тракторе Зарифа Насибуллина!
Ярулла обмел валенки березовым голиком и вошел в избу; теленок, стоя в закутке, потянулся к нему влажным носом. Пол проскоблен добела, на полке таз для умывания – гордость семьи, – начищенный до блеска, рядом подбоченился тоже медный кумган с длинным носком. На низких нарах, занимавших почти всю переднюю часть избы, сложена постель с массой подушек в пестрых наволочках, тут же в углу сундук – в нем приданое дочерям накапливается по нитке.
Сестренки Яруллы скромницы, не чета Зарифе, сидят дома и под присмотром матери прядут, ткут, вяжут.
6
Мать вышла из-за печки веселая, в праздничном платье с высоким воротником и оборкой по подолу. V Яруллы сразу заболело, заныло в груди: сегодня сваты пойдут к Хасановым, а завтра или в любой другой день, как назначат родители Наджии, будет сговор. Мужчины соберутся в их избе, и мулла спросит Наджию, согласна ли она выйти за Яруллу, сына Низамова. Но не сама невеста, которая будет сидеть у печи за занавеской, а кто-нибудь из родных ответит оттуда: «Согласна». Так же спросит мулла двух парней, посланцев жениха, согласен ли тот взять за себя Наджию. И парни тоже ответят утвердительно.
«А если я не соглашусь? – Сердце Яруллы застучало учащенно. – Может быть, зря болтают про Зарифу? Разве плохо, если девушка бойкая? Русские про таких говорят: боевая. Есть и в Казани курсы трактористов… Разве не может Зарифа учиться там? Что, если не согласиться с выбором стариков? Не на гулянки, а на учебу вырвалась из деревни Зарифа. Как же она-то сумела настоять на своем? Вряд ли Бибикей легко отпустила дочь, у которой есть нареченный! Отец в стороне: отрезал себя от семьи, уехав в Сибирь на золотые прииски, но мать, – да еще такая, как Бибикей, – сила! А законы шариата, власть муллы и стариков? Ох, Зарифа!» Жарко стало Ярулле от этих мыслей, уже в самом горле колотится сердце, в ушах звон. Вот встанет он сейчас и скажет твердо: «Нет, не могу я жениться по старинке, без любви».
Но противная нерешительность сковала его по рукам и ногам, язык будто прилип к гортани. Даже сплетни деревенские не так подействовали на него, как развязно-насмешливый тон Зарифы, то, как бежала она по улице, дерзко отвечая на шутки мужчин. Одно – шалости детские, другое – поведение девушки на выданье. Кто знает, не слишком ли бойкой женой окажется она? Не отцовская ли беспутная кровь кружит ей голову? Насмешки и презрение людей обрушатся потом на ее мужа.
Ярулла смотрел на мать, не понимая того, что ему говорят, сознавая лишь одно, что сегодня, сейчас, решится его судьба; опять и опять думал о Зарифе, но сколько было «за», столько же и «против».
Он сел на краю нар, ссутулился, придавленный тяжестью возникших противоречий.
«Зря ты, глупый, приехал нынче, надо было написать, что не отпускают с работы, – корил он себя. – Может, у этой Наджии характер плохой, и всю жизнь буду я каяться».
– Ты не заболел, сынок? – Мать пытливо заглянула в его лицо, залитое темным румянцем, постояла, перебирая висевшие на груди четки, сделанные из косточек хурмы. – Хочешь, я катыка принесу?
Не дожидаясь ответа, она слазила в погреб, постелила на нарах скатерть, поставила чашку квашеного молока, положила кусок хлеба.
Во дворе весело звучали звонкие девичьи голоса; это сестренки хозяйничали там, и Ярулла остро позавидовал их беззаботности: им, конечно, интересно такое событие в семье, – брат женится! – а ему одно огорчение.
Он и не притронулся к еде. Шамсия угадала смятение сына, подошла, неловко поправила над его лбом прядь жестких волос.
– Наджия – славная девушка, ты не беспокойся. Мы с отцом тоже не сами сказали, что согласны пожениться, другие сказали за нас. А прожили вместе душа в душу. – Шамсия вдруг нахмурилась: вспомнила, что не вдвоем с Низамом прожили они свой век, была еще София-апа в этой избе и у нее тоже были дети от Низама. Но минутная хмурь быстро сменилась на лице женщины выражением привычной туповато-непоколебимой покорности долгу. – Мы о твоей женитьбе много думали и все обсудили. А если ты о Зарифе печалишься, то зря. – Заметив, как дрогнул Ярулла, мать добавила уже сухо, жестко: – Она со всеми мужчинами заигрывает, вертлява не в меру. Такая хорошему татарину не ко двору.
Двое суток кружила, бесновалась метель, замела сугробами пути-дороги. Солнце утонуло в облачных перинах, и белая пасмурь, скрадывая дали, затянула окрестность. Видимость ограничивалась то деревенскими околицами, то крышами соседних изб, с которых ветер сдувал космы дыма, перевитые снежной замятью. Мир страшно сузился, и от этого Ярулла еще острее ощущал безвыходность своего положения.
Женщины не успевали счищать снег с крылечек, мужчины прорыли вдоль улицы глубокие ходы – траншеи; не только на санях – на волокушах не проберешься. Но о свадебном поезде никто в семье Низамовых не тревожился: после сговора и первой ночевки жениха у невесты свадьбу можно играть хоть через неделю, хоть через год. Бывали случаи, когда невеста входила в дом родителей мужа уже с младенцем на руках.
– Вот я закончу курсы и привезу к тебе твою Наджию на тракторе, – сказала Ярулле Зарифа, как бы невзначай встретив его на тропе среди крутящихся снежных вихрей.
– Я и без тебя привезу, – ответил он, уязвленный ее насмешкой.
Погода погодой, но лошади у Низамовых не было, а лошаденка будущего тестя не годилась для свадебной упряжки, и даже на махан не годилась: выведи в поле – упадет под первым порывом ветра.
– Правда, чего тебе не терпится? – Зарифа совсем забыла о девичьей скромности, но вдруг притихла, побледнела и, открыто глядя в глаза Яруллы, сказала с упреком: – Ведь ты даже не знаешь, какая она, эта Наджия. Ты столько лет не был в деревне, а она с детства от всех пряталась. Потому что некрасивая! Потому что бородавка у нее чуть не на носу! – Голос Зарифы зазвенел, а лицо осталось печальным: погас блеск в глазах, жалко изогнулись губы, и Ярулле захотелось взять ее на руки, успокоить и приласкать, как ребенка.
Но вместо того он сказал с нервной грубостью:
– Ты лучше изучай гайки на тракторе. Помощников у тебя найдется много, а женихи будут бояться, как бы ты сама первая к ним не посваталась.
Зарифа сразу вскипела гневом, большие глаза ее сделались огромными. Теребя концы шали, запорошенной снежком, она подошла вплотную.
– А что ты мне в прошлом году говорил? Ты забыл разве, что у меня уже есть жених? Не я тебя сватала – ты за мной бегал, а теперь к другой переметнулся. Глупый ты, да еще и злющий. Если бы я тебя не полюбила, не расстраивалась бы из-за твоей никчемной свадьбы!
С тем и убежала возмущенная, а он остался, в самом деле поглупев от ее резких слов.
«Ну и девка! – прошептал он, опомнившись. – Если опять посмеяться хочет, пусть в другом месте поищет легковерного дурака. Полюбила! Если бы полюбила, не сбежала бы из деревни. Что ей так загорелось с этими курсами?»
Однако вместе с досадой такая нежность и жалость к Зарифе пробудились в нем, такое желание догнать и просить о прощении, что даже слезы выступили на глазах. Обидел… Нестерпимо обидел девушку, которая бросала вызов всем старым порядкам. Сгорая от стыда, Ярулла рванулся за нею, но Зарифа уже исчезла в метельной сумятице.