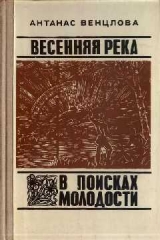
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 43 страниц)
Я увидел, как сверкнули глаза отца, и мне стало страшно.
КРАСНЫЙ КРЕСТ
Солдаты вместе со своим генералом исчезли однажды ночью так же неожиданно, как и появились. Пушек за садовой изгородью на лугу не осталось – лишь глубокие колеи от тяжелых колес и трава, порыжевшая там, где они стояли, напоминали о них.
На юго-востоке громыхали орудия. Иногда они вроде замолкали, потом снова принимались оглушительно и страшно греметь – мурашки бегали по спине от этого гула. Господи, только бы это сражение не прикатилось сюда, к нам! Далеко на востоке в небо вздымались высокие столбы дыма, а ночью то тут, то там полыхало зарево…
Мы все еще ютились в клети. Стояло лето, но никто не работал. Яровых не посеяли – не было ни семян, ни тягла. На полях вовсю разрастался бодяк, сурепка и иные сорные травы. Люди заливались слезами, глядя на землю, превращающуюся в целину.
Мы кормились солдатскими объедками. Однажды, когда одни солдаты покинули дом, а другие еще не заступили, отец выкопал из земли немного спрятанной муки. Мука, увы, уже сопрела, но мы все равно варили из нее похлебку и ели, несмотря на ее приторный, тошнотворный вкус. Тетя где-то достала картошки. Будто лакомство, мы смаковали ее: взрослые получили по две, а дети – по одной картофелине.
Однажды утром я увидел – двор забит повозками, закрытыми брезентом, на котором нарисованы большие красные кресты.
– Это лазарет приехал, – сказал отец. – Вон там, за хлевом, на горке вывесили полотнище с красным крестом. А знаете, почему?
– Почему ж, Тамошелис?
– Такой порядок: где висит крест, туда враг не стреляет: там, значит, больница. Такой уговор бывает во все войны. Помню, в газетах еще до войны писали.
И на самом деле, за садом рядом с нашим картофельным погребом теперь на длинном древке развевался флаг с красным крестом.
Солдаты тоже были с красными крестами на рукавах. Они вынимали из повозок носилки, обтянутые зеленой холстиной, и складывали их в штабеля. Гумно и хлев чистили, выносили оттуда навоз и слежавшуюся соломенную труху. Потом из поместья привезли несколько возов прошлогодней соломы и постелили ее всюду на землю.
Чуть ли не в тот же самый день мы увидели повозки, едущие с востока, от фронта. На деревенских, отобранных у людей телегах лежали раненые. Подойдя к первой же остановившейся во дворе телеге, я увидел двух солдат. У одного голова была завязана марлей, сквозь которую сочилась кровь. Солдат лежал, закрыв глаза, может быть, уже мертвый. Второй был смертельно бледен, и я заметил, что правая нога у него отрезана выше колена и обмотана тряпьем и марлей. Сквозь эти тряпки на солому густо капала кровь. Раненый тяжело стонал и ловил что-то руками, загребая воздух.
Повозка подъезжала за повозкой. Через Полой в сторону нашего дома тащились, поддерживая друг друга, раненые полегче. Несколько часов спустя раненые лежали вповалку во всем нашем дворе. Некоторых из них солдаты с красными крестами клали на носилки и уносили в избу. В открытые окна изредка мелькали бледные врачи в белых халатах. В руках у них поблескивали какие-то металлические предметы. Больные, уложенные на операционном столе (в избе устроили операционную), стонали, а иногда принимались вопить таким жутким голосом, что от ужаса затыкаешь уши.
За ночь ранеными заполнили все наши постройки. Я заметил, что среди них были не только немецкие, но и русские солдаты. Отец немного понимал по-русски и рассказывал нам в клети:
– Говорят, сильно дерутся. Уложили, говорят, и тех и других навалом. Здесь те, кто в живых остался. А в этих ихних окопах, говорят, кровавое месиво… Солдатик, у которого ладонь оторвало, рассказывал мне, что немцы гранату к ним в окоп кинули, троих на месте уложило, а его в плен взяли безрукого. Говорит, слава богу, отвоевался…
– Куда он теперь денется, бедняга? – говорила мама. – Гляжу я на них, и все они вроде родные дети. Один до того жалобно на меня одним глазом смотрит (другой-то завязан) и просит: «Mutter, Wasser…»[25]
А дома, может, его мать ждет не дождется. Пока воды принесла, гляжу; лежит уже неживой – лицо бледное-пребледное… А другой молоденький совсем, как наш Пиюс, а без обеих ног. Если и выживет, куда он приткнется, бедняга, калека-то? Кто его кормить будет?
– За грехи людские, за распутство наслал господь такие горести да мученья! – толковала тетя, но отец прерывал ее:
– Что ты, Анастазия? Не знаю, какие уж должны быть грехи, чтоб за них руки-ноги поотрубать, столько здоровых мужиков калеками оставить! Это дело не божеское, а сатаны, нечистого!
На юго-востоке продолжались сильные бои. Каждую ночь мы видели там исполинское зарево, словно там великаны зажгли костры. К утру костры эти потухали, а может, днем их нельзя было разглядеть. Днем и ночью тащились в наш двор телеги с уложенными вповалку тяжелоранеными. Легкораненые приходили сами. К ним подходил наш Казукас и, протянув руку, здоровался. Так они просиживали здесь иногда целый день – санитаров не хватало, да и под крышей не было места, чтоб всех уложить. Самых тяжелых сразу же клали на стол и потрошили. За воротами солдаты выкопали большую яму. В нее швыряли окровавленные бинты, пузырьки из-под лекарств, почерневшую вату. Тут же закапывали отрезанные руки и ноги. Весь наш дом провонял карболкой, эфиром и прочими больничными запахами, даже голова от них кружилась.
«Однажды в наш двор въехала и остановилась телега, запряженная до того дохлой лошадкой, что даже немцы ее не забрали. С нее слезли изможденный литовец с длинными серыми усами и румяная приземистая бабенка. Отец подошел к телеге.
– Издалека будете? – спросил он.
– Из Айстишкяй, Бертяшкасы. Неужто не узнаешь? – откликнулась бабенка. – Беда, сосед. Видишь, что сталось…
Она вытерла слезы, а мы уставились на мальчика одних лет с нашим Юозасом, лежавшего в телеге. Отец помог вынуть его и посадить на землю. У мальчика кровавыми тряпками были обмотаны голова и обе руки.
– Господи! Что же это случилось? – всплеснула руками мама, вышедшая из клети.
– Да ведь, знаешь, ребята! Всюду теперь этого оружия понабросано… Нашли они такую дудку блестящую, поковыряли проволокой… Слышим – за домом грохот, выбежали, глядим – лежит весь в крови, смотреть страшно… Я и говорю мужу: только бы глаза были целы. Нет ведь больше горя, как без глаз… И неизвестно теперь… И не слышит ведь ничего…
– Узнали мы, что у вас доктора немецкие есть, говорим, повезем, и все… хоть и не наши люди… все ж, может, помогут…
Пришли санитары с красными крестами на рукавах, положили ребенка на носилки и понесли в избу, как сказал отец, оперировать. Родители сидели во дворе на траве, в тени тележки, и медленно жевали заплесневелую хлебную корку. Через какой-нибудь час мальчика вынесли из избы и уложили вместе с солдатами на сеновале. Родителям кое-как растолковали, чтоб приехали за ним через две недели. Проходя мимо сеновала, теперь я каждый день видел и этого мальчика из Айстишкяй. Его голова была забинтована и походила на большой клубок белых ниток, а правая рука, короче левой, висела, подвешенная к потолку…
Каждое утро санитары ходили по всем строениям и собирали окоченевших, уже не дышавших солдат. Мне страшно было проходить мимо трупов, сваленных в ряд у гумна. Лица бледнющие, остекленевшие глаза глядят куда-то в пространство, хоть и ничего не видят.
Покойники лежали в одних рубашках – грязных, в запекшейся крови, в испражнениях. Потом приезжала зеленая широкая военная повозка, санитары сваливали трупы один на другой, чтоб не пришлось лишний раз ездить, и везли их хоронить на Часовенную горку. Там когда-то погребали детей и стариков из нашей деревни, кого лень было возить в далекий Любавас. Теперь здесь солдаты вырывали просторные могилы и сваливали туда столько трупов, сколько набиралось за ночь.
По ночам мне снились то раненые, то мертвецы, и, рассказывают, я даже вопил посреди ночи. Но вот что удивительно – со временем я к этому привык и ничего больше не боялся.
КАК Я ПАС ЛОШАДЬ
Немцы, вывесив на пригорке за садом флаг с красным крестом, зажили себе преспокойно, не боясь, что дом обстреляют русские. Трудно сказать, могли ли русские разглядеть в свои бинокли эту тряпку с крестом, фронт-то ведь находился все-таки в нескольких километрах. Зато сами немцы какое-то время спустя снова привезли и поставили свои пушки на Полое, затем на нашем огороде в Гульбинавасе, вырыли для них ямы и утыкали ветками. Они долго куда-то целились, глядели в бинокли, а потом принялись изредка постреливать.
И вот однажды на наших полях, в Полое, у батрацких, даже на поле будвечяйского Скамарочюса стали взрываться русские снаряды. Где-то вдалеке негромко прозвучит выстрел. Вскоре в воздухе возникает ужасающий вой. Этот вой все усиливается, растет, и вот уже весь воздух свистит, дрожит и ревет. Так и кажется, что свалится на тебя. И ты бежишь куда-то, спотыкаешься, лежишь, схватившись руками за голову, – ведь снаряд непременно попадет в тебя, только в тебя, и ты больше не встанешь.
Снаряд падает где придется, иногда даже на высохшей пашне, неподалеку от дома. Он взметает вверх землю – глину, песок, торф, и над полем долго плывет облако дыма, пока не рассеется. Когда подбегаешь к свежей воронке, она еще пышет жаром, а иногда находишь в ней раскаленные стальные зазубренные осколки. Говорят, когда стреляют, лучше всего прыгнуть в свежую воронку – в одну и ту же воронку снаряд второй раз не попадет… Но ни один снаряд не угодил в нашу избу, у которой висело полотнище с красным крестом.
…Однажды сразу после полудня начался сильный обстрел. Я ходил по пригорку, где из-под земли бьет холодный ключ. У ключа был выкопан небольшой пруд. В нем до войны поили скот, здесь плавали гуси. Теперь неподалеку от него я пас старую исхудавшую клячу, которую немцы бросили. Отец надеялся как-нибудь откормить лошадь и пахать на ней. Вот он и велел мне посматривать, чтоб эта лошадь куда-нибудь не убрела – вдруг она нам останется, когда немцы уйдут?
Я пригнал лошадь к пруду. Она долго пила, чавкая, качая усталой многострадальной мордой. В это время засвистел снаряд, и я свалился на землю. Не знаю, сколько времени я пролежал. Потом я сидел у пруда и отмывал кровь, что пошла у меня из носу. Мыл я, мыл, а кровь все шла да шла, и я не знал, почему она никак не перестает.
Недалеко от батрацких по-прежнему бухали снаряды. Каждый раз после взрыва вверх взлетал серый земляной столб. Я все умывался да умывался, а кровь все текла. Потом до меня дошло, что кровь вроде идет не из носу, и вдруг я нащупал рану на лбу. Рана у меня совсем не болела, но, когда я потрогал ее, из нее еще сильней пошла кровь. Тут я услышал Пиюса и увидел его самого.
– Что с тобой? Что ты натворил? – испуганно закричал он.
– Да вот кровь идет, – ответил я, глядя, как падают в воду капли крови и расходятся на ней.
– Да тебя в голову ранило, – сказал Пиюс, поднял меня и спросил: – Сам дойдешь?
– А как же, – ответил я. – Почему это я не дойду?
Я шагнул и снова свалился наземь, но тут же пришел в себя. Брат взвалил меня на спину, как дети обычно таскают друг друга – на закорки. Вскоре я уже был дома и лежал на чердаке клети. Пришел немецкий доктор, о чем-то меня расспрашивал, но я ничего не мог понять. Потом он взял пропахшую лекарствами марлю, обкрутил ею много раз мою голову и остриг кончик блестящими ножницами.
Ничего у меня не болело, было приятно, что обо мне так заботятся. Мама помазала высохшую горбушку мармеладом. Мармелад удивительно вкусно пахнул сливами, как тот бочонок, который когда-то, я помню, выгрузили из повозки приехавшие в нашу деревню маркитанты и из которого потом один из них половником бросал этот мармелад в котелок каждому солдату.
– Не лошадь ли копытом по лбу заехала, – сказала тетя, печально качая головой. – И лезет же под ноги лошадям! Ну и Тамошюс – гонит такого глупого ребенка за скотиной смотреть…
– Тамошюс! Тамошюс! – зло сказал отец. – Не осколком ли гранаты долбануло? Там стреляли ведь…
Сам я помнил только, как подгонял лошадь, как в это время стали рваться снаряды, как я бросился на землю, а потом смывал кровь…
Так я и ношу с той поры на лбу отметину. Долго мне казалось, что она сильно портит лицо. Боялся даже, что из-за нее меня не полюбит ни одна девушка. И когда, много лет спустя, одна девушка сказала мне, что от этой отметины мое лицо интересней и мужественней, я успокоился. Со временем я даже забыл про свой шрам – таким он мне показался маловажным по сравнению с теми событиями и переживаниями, которые ждали меня. И вспоминаю иногда о нем, лишь взглянув в зеркало.
НЕВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Немецкие солдаты заняли не только наш дом. Они стояли и в поместье, и у соседей Бабяцкасов, и у Андзюлявичюсов. Там они день-деньской, как говорили люди, «учили муштру» – кололи штыками привязанные к столбам соломенные кули, стреляли по мишеням в ямах, откуда наша деревня брала глину и песок, а по вечерам тянули свои «глории», да так, что поля звенели.
К озеру и не суйся – там прямо солдатский муравейник: одни купаются, другие стирают рубахи, третьи ручными гранатами глушат рыбу. Жуткое это дело. Если бросить гранату, вверх вываливается огромный водяной пузырь с травами, тиной и илом. Потом начинают всплывать всякие рыбешки и рыбы покрупнее. Немцы, раздевшись догола, бродят по хлюпающему болотцу, скачут в воду и прямо руками хватают оглушенных, а то и дохлых рыб. После войны в нашем озере редко кому удавалось поймать рыбу – до того ее немец перебил…
Не в силах больше выносить голод, мы решили, что мама со мной пойдет в деревню Граяускай, к родне отца, Жукайтисам. Может, они чем помогут.
Шли мы очень долго и в конце концов дотащились до александравасского поместья. Отсюда в Германию недавно проложили узкоколейку. Посмотрев на рельсы, на дымящий паровоз и длинную вереницу красных вагонов, мама вздохнула:
– Сколько народу эти бессовестные в землю уложили, когда дорогу строили, сказать страшно!.. Говорят, голодом морили… пленные как мухи мерли… Да не одни пленные. И наших мужиков по деревням хватали, на работу гнали… А работали, говорят, днем и ночью, только бы побыстрей…
Все поле у полотна было уложено снарядами. Солдаты грузили их в телеги и по большаку везли в сторону Любаваса и Калварии. В вагоны и на платформы подгоняемые немцами люди грузили тяжелые мешки.
– Наше добро в Германию везут, гады… А нам хоть с голоду помирай – им до того дела нет…
По дороге из Айстишкяй солдаты гнали трех коров – наверное, их только что отобрали. Положив наклонно доски, привязав к рогам веревки, они затащили коров на платформу, со всех сторон обитую досками, чтоб коровы не сбежали.
– Безбожники, – вздохнула мама. – Как воры. Может, малые дети без молока остались… Только чтоб у них утроба была полная…
Я все больше и больше ненавидел немцев.
До Граяускай мы добрались уже под вечер.
По дороге мы видели много сгоревших хуторов. Там уже прошла война. На месте домов торчали печи и еще не обрушившиеся трубы, глинобитные стены хлевов, валялись бутовые камни. Вокруг руин торчали мрачные, опаленные огнем деревья. А людей не видать – сбежали, если кто и остался, то жил в землянках. Кого бы мы ни встречали, народ все был унылый, убогий, оборванный и грязный. Мимо нас по дороге в обе стороны громыхали повозки с немецкими солдатами, изредка виднелись куда-то спешащие верховые. Очень редко встречались люди в поле. Лишь у озера Дотамай два старичка косили рожь.
У Жукайтисов я бывал еще до войны. Мне нравился этот дом, как аистово гнездо, со всех сторон укрытый высокими могучими деревьями. Нравился и сад, полный старых яблонь и груш, и боровые, старинные ульи, за которыми ухаживал и подрезал соты старик Жукайтис. Это был человек старинной закваски – рослый, крупный, силы необычайной, но и ласковый, добрый. Однажды он приехал к нам, и я, здороваясь с ним во дворе, забыл, как надо целовать ему руку – ладонь или тыльную сторону. Он взял мою маленькую ручонку в огромную, с лукошко, лапу, и я поцеловал, кажется, кончики пальцев, но он не обратил на это внимания и, улыбаясь, сказал:
– Ого, ну и вырос же ты! Больше всех мужиков! Скоро до потолка дорастешь.
Старик, увидев, как мы с мамой входим в калитку, закричал:
– Эльзбета! Ну что ты скажешь?! А мои-то бабы всех вас давно похоронили… Ведь из самой что ни на есть войны, из самого огнища… Ну, иди в дом, там расскажешь. И этот воробей уже в мужчины вышел! Э, что это у него на лбу? Не шрапнель ли, часом?
Мы вошли на половину стариков. Жукайтене, согбенная в три погибели старушка, поздоровавшись с нами, принялась хлопотать у печки. Вскоре в избе запахло жареным салом. У меня тут же потекли слюнки. В избу вошли и молодые Жукайтисы, которые жили на другой половине, и их дети. Много было тут рассказов: мама выкладывала про нашу жизнь, изредка вытирая краешком платка слезы, а старая Жукайтене сидела рядом, вздыхала и, гладя мамину руку, приговаривала:
– Ах, все натерпелись и страху, и бед… да нам-то что говорить? Сколько народу из родного дому погорельцами ушли, сколько людей в чужие края угнали!.. А иных и в живых нету…
И она рассказала случай, как якобы за укрывательство пленных или лазутчиков в одной деревне расстреляли всю семью, а дом пустили пеплом. (Позднее, много лет спустя, вспомнив это, я написал рассказ «Ночь».)
Мне очень нравилась старая Жукайтене, а еще больше – Жукайтис. Я знал, что они живут на иждивении у сына, что сын не очень-то хочет их содержать, а для снохи они поперек горла стоят. Об этом в нашей семье говорили и позднее, уже после войны…
И теперь, когда молодые ушли на свою половину, старик Жукайтис, сунув в кармашек жилета потухшую трубку, вздохнул и сказал:
– Тяжко и нам, Эльзбета, ох как тяжко каждый кусок от детей брать!.. И несогласия хоть отбавляй, и мать вот по ночам не спит, плачет все… Надо бы тебе помочь, а думаешь, есть из чего? Молодые-то уже другие, нет охоты помогать, хоть бы и родным…
Старуха, собирая со стола посуду и сметая крошки, сказала:
– Ничего, Эльзбета, последним поделимся, что есть… Враги мы, что ли?
Мама, сидя под окном на лавке, снова вытирала слезы:
– Может, даст бог, кончатся наши беды… Отблагодарим, отплатим, чем сможем… Знаешь, народу-то у нас много… И малышей больше всего жалко… голодные, бедняжки.
– Не говори, не говори, Эльзбета, сам знаю… – сказал Жукайтис. – Уж как-нибудь… Сколько сможем…
Образ этой усадьбы и ее жителей долго с необыкновенной яркостью стоял в моей памяти. Много лет спустя я изобразил старика Жукайтиса под именем Юраса Тамашониса в рассказе «Дерево и его побеги». Там довольно точно, как мне сейчас кажется, передана атмосфера этого дома, хотя события, конечно, вольно перетолкованы – кое-что было действительно, а кое-что и присочинено.
Мы вернулись домой на следующий день сытые (усадьба Жукайтисов пострадала от войны меньше других в этой округе). Несли с собой и подарки. Старая Жукайтене завернула нам в тряпицу большой кусок сала, каравай хлеба, превкусные, пахнущие чесноком колбаски.
Чтоб не наткнуться на немцев, домой мы возвращались межами, тропами, заросшими травой проселками. Ведь если какому-нибудь солдату вздумается нас ограбить, что ему сделаешь…
Счастливо добрались мы до деревни Лепалотай. А оттуда увидели высоченный, с полнеба, столб темного дыма.
– Господи! Не наш ли дом горит? – вздрогнула мама и перекрестилась. – В нашей же стороне…
Мы прибавили шагу. Обогнув Александравас, где у узкоколейки вечно шлялись немцы, с Будвечяйской горки разглядели, что горим не мы, а Андзюлявичюсы. Издали было видно, как вокруг дома бегают солдаты и деревенские. Хлев и гумно Андзюлявичюса уже успел сожрать огонь. Обгорели бревна, шел дым, а среди пепелища валялись трупы немецких лошадей. Я сосчитал чуть ли не с дюжину.
Закрыв руками лицо, у пожарища рыдала Андзюлявичене. Кастантас Бабяцкас, стоя у пруда, откуда, чтоб тушить пожар, вычерпали почти всю воду, рассказывал:
– Пес знает, как они эти избы подожгли. Мы со своего двора увидели, что соседское гумно горит. В гумне-то, верно, не только лошади стояли, там и патроны были и ручные гранаты. Загорелось и как заладит бахать, будто на фронте, можно подумать, русские вернулись. А у немчуры храбрости нет, чтоб в огонь лезть. Тут и хлев загорелся. А там ведь тоже лошадь к лошади, все сено у нас в деревне гадины сожрали. И тут патроны татакают, гранаты рвутся, слушать страшно. Народ согнали воду носить, а тут и гасить-то нечего.
От пепелища подул ветер. В нос ударил тяжелый запах горелого мяса. Рядом с лошадьми валялись винтовки с обгоревшими прикладами, пулеметы с облезшей краской, расплавленные латунные гильзы.
Наши очень нам обрадовались. Когда мама, закрыв от чужого глаза дверь, раздала всем по ломтику хорошего хлеба и по кусочку сала, это был такой праздник, какого никто из нас давно не знал. До поздней ночи мама рассказывала про наше путешествие. Отец с тетей Анастазией особенно радовались, что их родня Жукайтисы остались живыми в военной буре.
Лишь несколько дней спустя немцы, велев людям вырыть ямы, свалили в них лошадиные трупы. Мы же, дети, собирали на пожарище обгоревшие винтовки без прикладов и прятали их в кустах, совали под дерн, закапывали в песочных ямах на берегу озера.
КАДУШКА МЕДУ
Я не помню, когда исчезли немцы из нашего дома. Кажется, случилось это осенью, потому что в клети стало холодно. Все мы мечтали о тепле избы, о горячей гороховой похлебке, о щах. Дом был чист, хоть шаром покати. У нас не было не только лошадей (правда, та лошадь, что оставили немцы, чуть оправилась, но она стала старая, невероятно старая и немощная), и все-таки жизнь полегоньку налаживалась.
Может, и месяца не прошло, а на гумне, за соломой и сгребками, упрятанные поглубже, уже росли два поросенка. Их прислали те же Жукайтисы. По двору носилась маленькая собачонка: старого нашего Маргиса пристрелили еще первые стоявшие у нас немцы. Мама, тетя Анастазия и девочки теперь работали на огороде – там еще осталось кое-что, чего не успела сожрать немчура, – длинная, красная, удивительно вкусная морковь, брюква – она стала для нас лакомством. Женщины усердно убирали капусту, шинковали и бросали в бочку. Хоть что-нибудь, да будет на зиму! Может, и не придется подыхать с голоду.
Немецкие солдаты теперь, когда фронт передвинулся на восток, редко забредали в наш дом. Говорят, власти даже реквизицию запретили – по правде говоря, поздновато, реквизировать-то больше было нечего. По деревням то и дело скакали верхом жандармы. Иногда они, изрядно откормленные, с двойными подбородками, задастые, появлялись в деревне и на телеге. Всем было ясно, что они явились не только из-за подушного и собачьего налога, но выискивают, не удастся ли еще чего-нибудь содрать с десятки раз ограбленных крестьян.
Однажды в выломанные ворота во двор въехала бричка, запряженная ладным гнедым конем. В бричке сидел тучный вахмистр из Любаваса, а рядом с ним – волостной старшина, местный немец Зикис. Едва выйдя из брички, вахмистр принялся орать, зачем по двору бегает непривязанная собачонка. Напрасно отец объяснял через Зикиса, что собачонка малая и никому зла не делает. Немец выписал квитанцию – тотчас плати собачий налог и штраф за содержание собаки не на привязи. Отец отказывался, говорил, что денег нет. Немец, побагровев, что-то крикнул, а Зикис тут же перевел:
– Господин вахмистр говорит: кто не хочет платить за свою собаку, тот сам собаки не стоит…
Жандарм, видно, был не в духе. Выбравшись из брички, он обходил со старшиной строения. На гумне штыком тыкал в солому (к счастью, поросят не нащупал, хоть мы и здорово перепугались). Рыскал по хлеву, лазил на чердак, наверное в надежде, что люди по-прежнему держат здесь сало и колбасу. Всюду было пусто, и это еще пуще взбесило вахмистра. Ничем он не мог тут поживиться.
Он двинулся в клеть. Разворошил солому в кроватях, еще не перенесенных в избу, лазил и там на чердак. Увы, и тут пусто, как подметено. Вахмистр стал шарить за стропилами и решетинами, словно там могли быть спрятаны какие-то сокровища.
И что вы думаете, немец вдруг обрадовался, даже глаза у него заблестели! Он нащупал рукой какой-то продолговатый предмет, крепко обхватил его и вытащил. Зикис беспокойно заерзал и взглянул на стоящего рядом отца, который был удивлен, даже ошарашен. Из соломенной крыши клети вахмистр вытащил карабин – винтовку с коротким дулом, какие бывают у кавалеристов. Еще пошарив в соломе, он обнаружил несколько обойм патронов.
– Donnerwetter![26]
– выругался жандарм и что-то быстро, зло затараторил. Он глядел на отца налитыми кровью глазами. Руки у него беспрестанно дергались.
– Господин вахмистр говорит, – переводил Зикис, – что за утайку оружия немецкие власти расстреливают без жалости любое гражданское лицо. Понятно? Сядешь с ним и поедешь в Любавас, господин вахмистр говорит, тебе придется ответить головой перед военной немецкой властью!
Я видел, что отец побелел как бумага. Руки у него затряслись. Он глядел на нас и, видно, хотел что-то спросить, но мы, стоя за немцами, испуганно молчали. А ведь не кто иной, как мы с Юозасом, после ухода немцев нашли на гумне в соломе оставленный ими карабин и сунули под стреху клети.
– Это мы! – крикнул наконец я, задрожав и кинувшись вслед за отцом. – Папенька, это мы с Юозасом.
Зикис, видно, перевел мои слова жандарму, но тот не обратил на них ни малейшего внимания. Вытащив из кобуры большущий револьвер и приставив его к спине отца – найденный карабин был у него в левой, – он подгонял отца к бричке.
Весь дом сразу понял, что случилась страшная беда. Мы заревели еще громче. Подбежала мама и, говоря что-то по-литовски вахмистру, схватила отца за руку, но вахмистр дулом револьвера отпихнул ее в сторону.
Зикис, глядя на побагровевшее, даже черное от злобы лицо жандарма, вполголоса сказал отцу:
– Ей-богу, говорю тебе, хозяин, живым домой не вернешься! Слыхал, что случилось со Свитоюсом из Крийобаляй? Тоже ведь оружие прятал. Вторая неделя как в земле гниет. А коли что, могут не только тебя, а и всю родню…
– Я не прятал… – говорил отец, и я видел, как трясутся его посиневшие губы. – Слыхали же, дети… Малые, глупые… Будто они что разумеют…
– За свой дом хозяин в ответе, – сказал Зикис. – Тут никакого оправдания нету. Вот что я тебе скажу… Было бы у тебя золотишко…
– Откуда, человече? – удивился отец. – Будто в нашем доме может быть такое?
– А что бы ты мог дать господину вахмистру? Думаешь, он зверь? У него же тоже муттер есть, детишки в Инстербурге… А вы все марш отсюда! – крикнул Зикис, размахавшись длинными руками. – Los, los! Schneller![27]
Чтоб духу вашего тут не было!
Мы кинулись врассыпную. Издали мы видели, что между вахмистром, отцом и Зикисом идет торг. От брички они втроем наконец повернули к избе и довольно спокойно уселись во дворике на лавке. Вахмистр сунул свой револьвер обратно в кобуру, лицо у него было уже не такое багровое. Зато лицо отца, совсем белое, теперь чуть покраснело. Говорили то отец, то жандарм, а Зикис переводил слова то одного, то другого. Наконец вахмистр остался один во дворике. Положив рядом с собой найденный карабин, он закурил сигару. В это время отец с Зикисом отправились на другой конец гумна.
Только теперь я узнал, как, наверное, и другие в нашей семье, что там, под фундаментом гумна, отец устроил тайник. В нем он держал разные припасы, спрятанные так тщательно, что никто их не нашел, хотя каждый немецкий отряд и тыкал штыками во все углы.
Через минуту вернулись отец с Зикисом. Отец, схватив в охапку, тащил кадушку с ведро величиной. Мы сразу поняли, что он несет жандарму мед, который уберегли от всех многочисленных немцев. Когда он поставил кадушку на лавку рядом с вахмистром, тот усмехнулся, снял крышку и понюхал. Потом вынул из кармана складную алюминиевую ложку, зачерпнул меду, попробовал и еще раз улыбнулся.
– Jawohl, jawohl!..[28]
– сказал он и принялся что-то объяснять Зикису.
Зикис перетолковал отцу:
– Господин вахмистр говорит, мед хороший. Он доволен. Говорит, пошлет для своей муттер и деток в Инстербург… А ты гляди… Коли бы не мед, сам знаешь: пиф-паф, и все! Немецкие власти machen keinen Spass.[29]
Обняв кадушку, Зикис с трудом потащил ее через двор и поставил на передок брички. Вслед за ним шел вахмистр с карабином в руке.
Когда они уехали, мы стояли ни живые ни мертвые. Вошли в избу. Мама, рыдая, бросилась на шею отцу.
– Тамошелис, родимый… Слава тебе господи…
– А этих гадов ребят убить не жалко… Этакое несчастье всем на голову накликали. Идите сами обыщите все углы и, что куда ни засунули, чтоб тотчас в озеро у меня! Коли найду – убью!
Впервые в жизни мы поверили, что отец и правда может убить. Мы понеслись разыскивать и уносить из дому оружие и патроны, а их было насовано в разных местах немало.
Все это мы перепрятали в поле, в песочных ямах. Ведь до чего хорошо понатыкать патронов в землю и разжечь наверху костер. Как они грохают там и подскакивают! А самое большое удовольствие – зарядить винтовку (правда, обгоревшую, принесенную от Андзюлявичюсов) настоящим патроном и выстрелить из нее в воду в озере или просто в пригорок.
Хоть и крепко запрещал нам отец такие игры, еще долго в поле громыхали патроны – ребята со всей деревни продолжали эту страшную игру, которой научились у солдат. Юозас приладил к обгоревшей винтовке колеса. Теперь он тащил по полю на веревке своего рода пушку и изредка бухал из нее. Однажды отец увидел, отобрал у него это злополучное орудие и расколошматил обухом. Согнутое дуло он бросил в лужу за гумном.
Такие-то были наши заботы и игры в те годы.
НАДЕЖДА
Однажды отец вернулся из местечка веселее обычного и, поглядев на меня, сказал:
– Ну-ка, сынок, собирайся в школу! Приехал учитель. Снова начнет учить детей…
…И вот я снова ученик.
Весь Любавас сгорел. Нет больше костела на холме. Вокруг торчат лишь опаленные деревья. Не стало почти всей той улицы, где была старая школа и лачуга Калинаускаса. Неизвестно, живы ли Калинаускасы, а если живы, где они ютятся с тех пор, как сгорел их домишко. На той же улице на углу рыночной площади торчат обгоревшие стены кабака… В местечке тихо и неприютно. По улицам бродят изможденные люди. Лавки пусты – хоть шаром покати. Лавочники уныло стоят за прилавками, если только дом, где устроена лавка, вообще не сгорел…
Вот Верхняя, куда меня однажды прислали из дому за имбирем, а я забыл, как называется это снадобье от резей в животе, и попросил люциферу, рассмешив этим владелицу Верхней. Вот лавка, куда нас послали с Юозасом купить сахару, а мы по дороге домой почти весь съели. Мама удивились, когда мы отдали ей каких-нибудь пять или шесть кусочков. Это было еще до войны…








