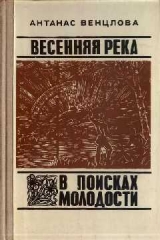
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 43 страниц)
Теперь камня нет, даже ямину, в которой он лежал, давно сровняли с землей. Неподалеку выкопали другую яму – здесь осенью сушат лен, а потом треплют его и несут домой чесать и прясть…
– Что ж, – говорит Пиюс, остановившись на краю лужка. – Отсюда начнем, что ли?
– Ладно, – говорю я, решив во что бы то ни стало не отставать от брата. Уже прошлым летом я немного пробовал косить. Теперь мне кажется, что косить я умею и что это дело для меня плевое.
Пиюс ставит торчмя косу, вынимает из подвешенного к ремню лагунка брусок и звонко правит лезвие. Я держу точило в кармане, оно тяжелое и оттягивает штаны вниз, но мне-то что? Я тоже ставлю косу торчмя и точу, но брусок убегает из рук, а то и коса вдруг кренится, и я едва не разрезаю руку.
– Ты там полегче, – говорит Пиюс. – Смотри, как я правлю. Он опускает косу, плюет на ладони и, взяв ее, проводит по траве. Чах-чах! Трава, ровнехонько отрезанная у самой земли, ложится пластом. Когда брат уходит на несколько шагов, я встаю в соседний ряд и замахиваюсь косой. Чах! Увы, коса что-то не очень меня слушается – она идет как-то не так. Вижу, трава обрублена посередине и у земли торчат пучки.
Я еще и еще раз провожу по тому же месту, пока мне не кажется, что скошено как следует. Снова взмах. Теперь вроде лучше. Я уже чувствую, как следует держать косу. Но вдруг лезвие утыкается в мягкую землю. Мне будет стыдно, если брат увидит такое. Я торопливо вытаскиваю косу и снова машу ею, стараясь косить ритмично, в такт брату.
Пиюс уже далеко. Здесь ряды не очень длинные, и он вскоре кончает свои. А я и до половины не дошел. Я чувствую, как устали руки, а солнце припекает все больше. Стараясь показать, что и я кошу неплохо, я отчаянно машу косой, а он, возвращаясь назад, говорит мне:
– Слишком широко машешь… Так долго не протянешь – руки утомишь. Гляди, твои ряды пошире моих. И косу держишь неважно…
Он берет у меня косу и говорит:
– Гляди-ка…
Я благодарен, что Пиюс хоть на минутку забрал у меня косу и я могу перевести дыхание.
– Вот как надо, – говорит он. – Бери косу.
Я снова машу косой. Брат меня поправляет. Когда я поменьше замахиваюсь и не тороплюсь, дело идет на лад.
Но косить наравне с братом я еще не могу. А он меня не ругает и не подначивает. Изредка, кончив свой ряд, он берет у меня косу и доканчивает мой. Потом мы ложимся на краю лужка, на густую, только что скошенную траву. У травы острый приятный запах, она холодит разгоряченное тело. В ней пестрят колокольчики и прочие луговые цветы… От поместья долетает кукованье кукушки.
– Я тебя ждал, – говорит мне Пиюс. – Посоветоваться хотел. Ты ведь знаешь, я тоже мечтаю об ученье… Я же всю зиму проучился… у нас в горнице была школа… Учительница мне помогала…
– Что ж, – говорю я, – это замечательно!
– Я вот думаю, – продолжал брат, – на пятнадцати гектарах мы все не проживем… Еще бы земля была хорошая, как под Мариямполе… Тут ведь не земля, одни слезы.
– Отлично, если ты хочешь учиться, Пиюс! – говорю я. – Ей-богу! А куда ты собираешься? И когда?
– Осенью. Говорят, лучше всего в Вейверяй. Далеко, зато там есть учительские курсы. Только бы экзамены сдать.
– Сдашь! – говорю я. – Ясно как день, что сдашь…
– Знаешь, мне еще в армии эта мысль в голову пришла. Свет повидал, людей, понял, что без ученья как без рук… Пускай Юозас остается в хозяйстве, а для меня тут места нет… Пойду-ка я по твоим стопам.
Я действительно обрадовался, услышав о планах брата. Без сомнения, из него получится отличный учитель. Он ведь такой степенный, незлобивый, умный.
– Правда, Пиюс, ты мне мало о своем солдатском житье рассказывал…
– Что там рассказывать? Были в Сувалках, потом в Сейнах поймали нас поляки и заперли в синагогу.
– В синагогу?
– Да, я ведь говорил, кажется… Мы там целую ночь просидели. Думали, что поляки нас в Варшаву погонят в лагерь, но в это время в Сейны снова ворвались наши ребята, распахнули дверь синагоги… Мы вышли очумелые, неспавшие, голодные. В местечке начался бой. Я помню только, что увидел подбегающих польских солдат и бросил в них гранату…
– Ну и что?
– Эх, – отмахнулся Пиюс и снова встал. – Лучше давай косить! Видишь, вот и обед скоро.
Да, сено косить – не орехи щелкать: к вечеру меня словно измочалили, – казалось, еще шаг, и рухну прямо на землю. Лежал ночью плашмя, не повернуться даже – ныли руки, ноги, все тело стало свинцовое.
…Косить рожь по старому обычаю созвали помочь. Пришли наши соседи – Андзюлявичюс и Юозас Бабяцкас, а из Гульбинаваса – Трячёкас и Белюнас, который на свадьбах пиликал на скрипке. Привел он и женщин. Из нашего двора были три косы – Пиюс, Юозас и я. Снопы вязали мама, тетя Анастазия и Забеле. По правде говоря, поначалу мне предложили носить с Аготеле снопы и ровно их укладывать, чтоб потом проворнее было ставить в суслоны, но я не согласился.
Рожь косить оказалось куда легче, чем сено. Особенно на пригорках, где рожь жидковата, хорошо отбитой косой можешь махать, не отставая от других. И мне было приятно слышать слова Юозаса Бабяцкаса:
– Гляди, а я-то думал, что, в классах поучившись, в дело не годится… Однако рубит парень сплеча, смотреть любо…
– Он ничего? – откликается Пиюс. – С ним я ведь луг «У камня» скосил. А трава там густая, стриги, как овцу, – уродилось там сено в этот год…
Помогал я и свозить домой сено и рожь. Сено мы сгружали на сеновал над хлевом. С воза на длинных вилах его подают Юозас или Пиюс. Мы, младшие, хватаем сено с вил в охапку, волочем и упихиваем под стреху, кладем на редкий настил, сквозь который легко провалиться в хлев. Так понемногу набиваем сено до конька. Снопы ржи с телеги, стоящей на току гумна, летят на кладь. А наша работа – подавать снопы кому-нибудь из взрослых, который плотно укладывает их в ряды – сначала в одну сторону комлем, потом в другую.
Когда носишь снопы, всякое бывает – то в руку вопьется шип чертополоха, то до крови занозишь соломинкой ногу, но ведь работаешь наравне со взрослыми! Впередышку слушаешь их рассказы, шутки и смеешься сам, а иногда расскажешь такое из городской жизни, что они слушают разинув рты, – если ты умеешь как следует приукрасить, конечно…
А летний полдень у озера… Запах аира и ила, серебряные рыбешки, кишащие в сети, вытащенной из Рукава, брызги воды из-под ног плавающих приятелей… Теперь мы снова встретились, и они придирчиво следят, не разучился ли я плавать, хорошо ли ныряю. Они не знают, что весной и осенью я каждый теплый день бегу за город к Шешупе. Нет, моим друзьям не в чем меня упрекнуть – я не отстал от них!
А по воскресеньям… Пешком или на телегах мы отправляемся в местечко. Здесь все для меня так знакомо! Торчит обгоревшая в войну корчма. Видно пожарище на месте моей первой школы. Когда я вхожу в лавчонку, она мне кажется меньше, чем была, и не такая завлекательная, молодая еврейка говорит мне:
– Господин студент, пожалуйте в комнату… Там сможете присесть…
Краснея, я отказываюсь и говорю, что увидел за окном приятеля. Там на самом деле идет Янушявичюсов Антанас. Но не он меня волнует. Только что прошла с подругой гимназистка Стасе, приехавшая к своей сестре из Алитуса. Я знаю, что она – татарка. Ее родители перешли в католическую веру. Стасе кажется мне необычайно прекрасной. Ее лицо – кровь с молоком, глаза карие, бархатные, косы толстые, с золотистым отливом. Фигурка высокая и стройная, и мне кажется, что она с каким-то небывалым изяществом ставит ножки, выбирая сухие места после сильного ночного ливня – лужи еще не просохли.
Стасе уже прошлым летом показалась мне на редкость привлекательной. Когда мы как-то остались вдвоем, она сказала, что я уеду в Мариямполе и, конечно, тут же ее забуду, а я от всей души доказывал, что наша дружба будет вечной. Кончилось тем, что мы обменялись адресами.
Сейчас эта самая Стасе идет по местечку и смотрит по сторонам, как будто кого-то ищет. Увидев меня перед дверьми лавочки, она покраснела и как бы нарочно отвернулась. Я решил, что она за что-то на меня сердится, но все-таки смело подошел и поздоровался. Да, она на самом деле недовольна. Едва подруга куда-то ушла, Стасе спросила меня, почему я так долго ей не писал. Я сослался на то, что был занят, ведь приближался конец учебного года. Но мне самому было неловко, я ведь лгал. На самом деле я напрочь о ней забыл! И теперь отчетливо вспомнил почему.
В дом, где мы жили в городе, приехал какой-то старичок. Рассказывали, что он только что вернулся из Америки и собирается домой, в Сейрияй или Лейпалингис, а в нашем доме поселился временно. Старичок был невероятно богобоязненный и целые дни проводил в костеле. Если он бывал дома, то в открытое окно весной я видел, как он стоит на коленях у кровати и перебирает четки. Из Америки старичок привез дочку, которую звали Региной, красивую, бойкую и шаловливую девушку лет семнадцати.
Она ходит на наши вечеринки и азартно танцует с гимназистами. Прищурив большие карие глаза, она ловко перебирает крепкими ножками, а желтые как воск волосы развеваются – ну просто глаз не оторвать. Губы у нее пухлые, носик чуть курносый. Симпатичная особа!
Вскоре я с ней познакомился. Разговорчивая и приветливая, в разговоре она сыпала всякими американскими словечками: «yes, surely, going»[73]
– и потому казалась мне еще интересней. Вдруг ей взбрело в голову научить меня английскому языку, и она притащила ко мне какую-то книжку и заявила, что прежде всего я должен выучить алфавит.
– Алфавит у нас, в Америке, поют, – щебетала она. – Surely, послушай!
И она запела:
– Эй, би, си, ди, и, эф, джи, эйч, ай, джей, кей, эл, эм, эн, оу, пи…
Тянул вместе с ней и я.
– Хорошо, хорошо ты поешь, very good![74]
– твердила она.
Она мне объясняла, что лучше всего английский изучать, начиная с таких слов, которые скорей застревают в голове. И я вскоре уже знал и «Go to hell!»[75]
и «Devil»[76]
и другие подобные словечки. Когда я их повторял, Регина смеялась во весь рот, даже ее белые зубки сверкали. Помню, как-то она долго глядела на меня, а потом взяла в руки мою голову, привлекла к себе и так крепко поцеловала в губы, что у меня голова закружилась.
– Ты знаешь, как по-английски поцелуй? – спросила она. – Surely, не забывай! Kiss![77]
– она еще раз поцеловала меня.
Это было до того неожиданно, что я подумал: сейчас мне на голову обрушится потолок. Но потолок не обрушился…
А однажды, вернувшись из гимназии, я видел, что комната, в которой жил американец со своей дочкой, пуста – он увез ее в Дзукию, и я никогда больше не видел Регины…
Пока вернулась подруга Стасе, мы снова пообещали писать друг другу и, как она выразилась, «делиться мыслями и чувствами». В это время зазвенел колокол нашего нового костела, устроенного в деревянной богадельне, и Стасе с подругой побежали в костел. Я же мимо каменных столбов повернул наверх, во двор костела, где мы с пареньками моих лет обычно во время мессы и проповеди толковали о том о сем. А когда народ валил из костела в местечко, мы тоже отправлялись «людей посмотреть и себя показать»…
Скоро конец лету… Конец полевым работам, зреющим колосьям и песням субботних вечеров… Конец чтению новых книг в свободные минуты и – писанию… Даже летом я не забывал этого занятия. Я сочинял стихи, пробовал писать поэму, писал письма Казису и Винцасу. Иногда и письма были стихами. В тишине полей, я лежал у озера, стоял вечером под старыми липами, глядел на загорающиеся в небе звезды и о чем-то тосковал, что-то рифмовал.
Приближался день отъезда – уже не в первый раз. Беспокойным становился не только я, но и мои младшие братья, которые успели привыкнуть к моим рассказам… Мама снова укладывала продукты – подсушенный сыр, стаканчик меду, мешочек муки.
– Когда же кончатся эти вымогательства? – говорил Юозас, с недовольством глядя на маму. – Одному все, а другому – шиш! Знай работай да работай, как последний батрак…
– Будто другие столько дают, когда пускают учиться? – оправдывалась мама. – И одеваются дети у людей иначе! А тут ребенок сколько времени новой одежи не знает… Ведь и перед друзьями неудобно…
– А что у меня есть, хоть потею битый день, как кляча?! – огрызнулся Юозас. – Один он ишь барином заделался!.. Одному ему все!..
Мог бы, ничего не взял бы из дому. И так за последние годы, после смерти отца, помощь из дому заметно ослабела. Хорошо еще, я уроками подрабатываю.
– Пускай уж кончает гимназию ребенок… Потом сам как-нибудь… – говорит мама, а Пиюс добавляет:
– Не пропадем! Летом-то ведь работал… Эх, помолчал бы ты, Юозас!
И я собираюсь в гимназию с тяжелым сердцем, словно преступник. «Скорее бы конец, – думаю я. – Только бы скорее…» Лето прошло, сгинуло…
ПОЕЗДКА К БУГЕ
Не знаю, почему все сильнее занимало меня языкознание. Казалось, эта наука полна каких-то тайн, которые в один прекрасный день засверкают передо мной такими открытиями, что я только рот разину от удивления. Все до единой книги Йонаса Яблонскиса[78]
и Казимераса Буги[79]
я не только прочитал, но и вытвердил страницу за страницей, строку за строкой. Внимательней всего я изучил книгу К. Буги «Язык и древность» и нашел в ней уйму ценнейших сведений. На уроках мои знания всплывали наружу и поражали друзей и учителей. Меня интересовали не только их книги: если я узнавал, что какой-нибудь журнал поместил их статью или рецензию, я не успокаивался, пока не доставал его.
Казалось, я бы стал самым счастливым человеком на свете, доведись мне увидеть живых Винцаса Креве, Людаса Гиру, Путинаса. Но теперь рядом с ними, а то и чуть выше встали для меня наши лингвисты. О, как я буду счастлив, если, подобно другим избранникам, когда-нибудь смогу не только читать их сочинения, но и слушать их, разговаривать с ними!
Когда в газетах появились сообщения, что К. Буга готовит фундаментальный литовский словарь и просит помочь ему собрать все слова живого языка, многие гимназисты решили стать его сотрудниками. В их числе был и я. Приехав летом в деревню, я стал внимательно прислушиваться к речи моих родных и соседей и на каждое занимательное слово заводил карточку. Трудно было угадать, какое слово заинтересует Бугу, а какое – нет. И я старался записывать только занятные, редкие слова, которых, как мне казалось, не употребляют жители других местностей. Я долго готовился и все не мог осмелиться, но наконец все-таки собрался с духом и послал Буге несколько десятков слов. К ним я приложил письмо, в котором писал, что меня интересуют вопросы языка и что я хотел бы переписываться с ним по этим вопросам. Это, разумеется, была по-детски дерзкая просьба.
Я выслал письмо и тут же пожалел о своей наивности и смелости. Но прошло несколько дней, и почтальон принес мне ответ. Уже по конверту я понял, что письмо от Буги. С нетерпеливой дрожью я разорвал конверт. Буга бисерным, очень четким почерком писал мне, что письмо получил и постарается ответить на мои вопросы, насколько позволит время. Кажется, он благодарил меня за собранные для словаря слова. Я был на седьмом небе от радости.
Я тут же послал по почте новую кипу карточек и снова получил письмо от Буги. Да, мне непременно надо съездить в Каунас и зайти к Буге! Ведь очень важно выяснить, правильно ли я заполнял карточки для словаря. Необходимо узнать и его мнение по тем вопросам, по которым тогда шла полемика в печати. Но главная причина была, наверное, в том, что я просто боготворил профессора Бугу и думал: раз он написал мне целых два письма, то, конечно, меня примет и со мной поговорит.
Да и вообще меня давно манил Каунас. Я побывал в нем вместе с покойным отцом несколько лет назад, в 1919 году. Тогда мы приезжали проведать Пиюса, который служил в армии. Но в казарме нам сказали, что он отправлен куда-то в Сувалки или Сейны, где тогда шли сражения с панской Польшей. Так мы и вернулись домой ни с чем.
Теперь я мечтал через год поступать в университет. Да, я уже знал, что буду изучать языкознание и слушать своих любимых профессоров и прежде всего Казимераса Бугу! О, как я буду стараться, чтобы он во мне не разочаровался! Я стану лучшим его учеником…
С такими мыслями, получив несколько литов за частные уроки, я сел в вагон (недавно, в 1923 году, построили железную дорогу через Мариямполе). Век передвижения на колымагах кончился! После открытия железной дороги колымаги между Каунасом и Мариямполе уже перестали ходить, да и в Калварию приходили все реже.
И вот я сижу в вагоне, в котором полно женщин, везущих куда-то кур и сыры. Два атейтининка в красных шапочках толкуют о танцульках и девушках, чинно сидят одинокие чиновники. Поезд быстро идет по сувалкийской равнине, и я с любопытством гляжу на новенькие крохотные станции, на незнакомые деревеньки, проносящиеся мимо…
Каунас на этот раз мне куда больше понравился. Не зря он – временная столица. Правда, от вокзала по-прежнему кляча тащит по рельсам обшарпанный, набитый людьми вагон, зато на улице, что ведет в город, по которой мы когда-то шли с отцом, больше прохожих, извозчиков, крестьян и ни единого немца. Многие дома свежевыкрашены и уже не такие полинявшие, пыльные, источенные временем. Как и в Мариямполе, исчезали немецкие вывески.
И чем дальше, тем больше поразительного – уличное движение, люди, одетые богаче, чем у нас, сверкают на солнце полные товаров витрины Лайсвес-аллеи. Изредка, гудя, проносится по улице автомобиль, пуская клубы едкого дыма. Гордо вышагивают студенты в разноцветных шапочках. Все они с виду такие умные, самоуверенные, что я чувствую себя наивным, придурковатым провинциалом с необоснованными претензиями, который лезет в их общество.
Неторопливо я прохожу всю Лайсвес-аллею и направляюсь в старый город, в сторону рынка. Я уже знаю адрес профессора Буги и рядом с рынком действительно нахожу большой дом. В нем, как показывает вывеска, находится сейм. В глубине двора я вижу крохотный домик из красного кирпича. Заметив дворника, я спрашиваю, где тут живет профессор.
– А кто его не знает? – ответил дворник, скручивая из клочка газеты, цигарку. – Тут у него каждый день полно всяких студентов да писателей… Видишь, вот ихний дом! Ну и валяй прямо…
Я подошел к двери домика и остановился. Сердце сильно колотилось. Что я ему скажу? И что он мне скажет? У него ведь каждый день полно народу. Сегодня воскресенье, ему отдыхать надо, а не терять время в разговорах со мной!
– Ну, иди, чего ждешь? Бей кулаком в дверь, чтоб услышал… – торопил меня дворник.
Делать было нечего. Я постучал в дверь раз, потом другой. Стучал легонько, но внутри кто-то все-таки меня расслышал. Громыхнула щеколда, и со скрипом отворилась дверь. На пороге стоял высокий, худой, непритязательно одетый человек с высоким залысым лбом. Его печальные, задумчивые глаза скрывались за очками в тонкой металлической оправе. Он глядел на меня, о чем-то думая, словно ждал, чтобы я объяснил, кто я и чего хочу.
– Сотрудник словаря, – сказал я и почувствовал, как сорвался мой голос. Я сразу понял, что передо мной стоит Буга.
После моих слов на его лице мелькнула еле заметная улыбка, которая, однако, не рассеяла задумчивости и грусти.
– Сотрудник словаря? – спросил Буга и еще раз улыбнулся. Он протянул мне прохладную руку и добавил: – Милости просим, заходите…
Я шел по длинному коридору, вдоль стен которого был сложены дрова. Коридор, видно, давно не красили, и на меня дохнуло запахом нищеты. Профессор, пропустив меня вперед сказал:
– Налево…
В полуоткрытую дверь я вошел в комнату. Все стены был закрыты полками из некрашеного дерева, а на полках до потолка стояли книги. Здесь, как и в коридоре, было холодно. Профессор походил по комнате, наверное греясь, потер руки. В кафельной печке горел огонь (была ранняя весна), и Буга, открыв железной кочергой дверцу, сунул внутрь несколько поленьев. Огонь затрещал и загудел веселей. Профессор указал мне на стул у своего письменного стола, тоже заваленного книгами, бумагами, карточками. Я сел и почувствовал, как зашатался подо мной стул – он был такой же ветхий, как все в этой комнате. Нет, не такой я представлял себе квартиру профессора – в ней нет ни дорогих картин, ни сверкающей мебели, ни мягких кресел…
Между тем профессор сел за стол и, внимательно глядя на меня, спросил:
– Наверное, ученик?
Узнав, что я на самом деле ученик, он добавил:
– Да, растут хорошие помощники словарного дела. Уже теперь я получаю от них немало материала…
Я назвался, и профессор, глядя на меня, снова улыбнулся усталой, грустной улыбкой. Потом он сказал:
– А как же, припоминаю. Ведь я от вас уже получал слова…
– Я новые привез… – сказал я.
Мое смущение таяло. Я вытащил из кармана перевязанную ниткой стопку карточек. Профессор взял ее у меня, распутал нитку и сквозь очки стал просматривать слова.
– Любопытно. В моем говоре, под Дусятос, этого слова никто не знает.
Он говорил со мной как со взрослым, и это меня радовало. Я сказал, что через год кончаю гимназию и мечтаю изучать языкознание.
Профессор снова поднял глаза и долгим, внимательным взглядом посмотрел на меня, словно прикидывая, чего я стою.
– Хорошо, – сказал он, как и раньше, медленно, не торопясь. – Хорошо, когда в науку приходит юношество – решительное, любящее свою работу. Вот теперь у меня есть несколько переписчиц, которые мне помогают при словаре. Но они не только ни бельмеса не смыслят, но и не желают учиться. Получи я лучших помощников, я бы отпустил этих девиц на все четыре стороны уже завтра… И работа бы пошла иначе…
Не спеша профессор проверил мои карточки, похвалил меня за то, что я правильно понял, в чем нуждается словарь, попросил и в дальнейшем собирать слова. Потом со стопки на столе взял свою недавно вышедшую книжку «Прошлое балтов в свете топонимики» и надписал: «Сотруднику словаря такому-то – К. Буга».
Это было лучшее вознаграждение за мой труд.
Квартиру профессора Буги я покинул счастливым человеком – сбылась моя мечта: я увидел великого лингвиста, говорил с ним и даже получил от него такой драгоценный подарок! Да, кончены все сомнения. Будь что будет, а окончив гимназию, я еду в Каунас! Я наймусь на самую гнусную, тяжелую, низкооплачиваемую работу, но каждый день буду видеть любимого профессора, говорить с ним, учиться у него. А кто знает – вдруг настанет такой час, когда я попаду в число счастливчиков, которые помогают ему готовить к выпуску тот великий словарь, какого никогда еще не было у нашего народа. Может ли провинциальный гимназистик представить большее счастье в жизни, чем стать помощником в работе великого человека?
С такими мыслями я ходил по Каунасу, с такими мыслями я ехал домой. А перед глазами у меня стояли захламленный дровами коридор, холодная комната, полная книг, грустный, задумчивый профессор. Но мне казалось, что работать в такой комнате, исследовать языковые проблемы, искать ответы на загадки этой науки – вот где цель моей жизни…
…Стояла зима следующего года. Ветер нес холодный снег по улицам Мариямполе. В эти дни разнеслась страшная весть, что профессор Буга, надломленный нищетой и равнодушием, не найдя помощи в своей великой работе и делая ее почти один, умер от переутомления… Пожалуй, лишь смерть отца была тяжелей для меня этой смерти.
Как ценнейшую реликвию берег я его письма и подаренную им книжку. Увы, все пропало в войну… И лишь в душе сохранился образ этого необыкновенного, большого, скромного человека, который на всю жизнь остался для меня символом самопожертвования, безграничного поклонения труду и истине. Этим человеком я никогда не переставал восхищаться и гордиться.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Наши развлечения не отличались разнообразием. Только Бронюс Самуолис и еще кто-то из нашего класса изредка ходили на укромное, поросшее травой поле на краю города и гоняли там футбол. Других эта игра не привлекала. Баскетбол только-только начинал входить в моду. Во дворе гимназии в него играли несколько старшеклассников. Купаться в Шешупе любили многие. Но весной и осенью сезон короток. А что же зимой? Зима – время карнавалов, маскарадов и прочих развлечений. Наши увеселения и здесь были довольно просты.
Чаще всего субботним вечером в нашем зале устраивались танцы. Поначалу они меня не привлекали. Но настало время, когда я, скопив немного денег, приобрел дешевую серую двойку (увы, рукава пиджака были коротковаты, да и брюки могли бы быть подлиннее). После долгих мучений, при помощи всех жильцов комнаты, я завязал под гуттаперчевым воротничком (тогда были в моде такие воротнички) вязаный синий галстук. Когда я появился в зале гимназии, все уставились на меня – кто удивился, что я одет как студент, кого поразило несоответствие отдельных частей моего костюма. Вынув из кармана зеркальце, я то и дело поправлял съезжавший галстук и, поплевав на ладонь, приглаживал вихор на макушке.
Я уже знал танцы тех лет – вальс, польку, падеспань, краковяк и коробочку, но, хотя и разрядился в пух и прах, мне все ж не хватало смелости пригласить девушку. Одни девушки в перерывах между танцами гуляли парами под руку, другие сидели и разговаривали, а самые счастливые стояли с гимназистами старших классов и смеялись их рассказам и комплиментам.
Но еще счастливее, без сомнения, были те, кто сидели с молодыми учителями, с приехавшими из Каунаса студентами или – это уже просто как в сказке – с лейтенантами, которые явились на вечер из казармы. Лейтенанты мгновенно побеждали не только нас, гимназистов, но даже учителей – они все какие-то подтянутые, привлекательные, беззаботные. Кое-кто даже позванивает блестящими шпорами. Гимназисток они кружат с какой-то особенной непринужденностью, изяществом и вместе с тем – мужеством, словно танец после суровых военных упражнений – шуточное дело для них.
Я расхаживал по коридору в одиночестве, в пакостном настроении. Мне уже казалось, что своим новым костюмом я мало чего добился – длинные руки все равно торчат из рукавов. Ботинки тоже отнюдь не новые, и блеск у них не тот, что у лейтенантских сапог. Сам я очень уж худой, дохлый и весь какой-то непропорциональный. Гимназисты с гимназистками шли мимо меня по коридору, и я слышал их смех. Мне, к сожалению, совершенно не было смешно.
Неожиданно кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся и увидел Скринску из нашего класса. Это был известный лодырь, но в общем парень хороший. Он был горазд на всякие затеи: спрятавшись в уборной, курил на переменах, дулся в карты с гимназистами последних классов, торговал ножиками, книгами и прочей мелочью. Ко мне он относился хорошо, потому что я давал ему списывать задания, которые он дома не делал. И вот он мне подмигнул и сказал:
– Пошли, там наши ребята…
– Где?
– Увидишь…
Мы понеслись вниз по лестнице и вышли во двор. На дворе было темно, еще не холодно (стояла ранняя осень). Обогнули здание гимназии. Из открытых окон второго этажа доносилась музыка, там мелькали кружащиеся пары. За деревьями стояли какие-то ребята. Один был из нашего класса, двое – из восьмого.
– Я давно собираюсь угостить своего приятеля, – сказал Скринска приятелям, показывая на меня. – Налейте.
Кто-то протянул стакан, и сам Скринска, взяв у дружка бутылку, налил мне больше половины стакана какой-то жидкости.
– Пей, а то я вижу, что ты сегодня не в ударе… Потом пойдем плясать…
В своей жизни я никогда не пил, так что заколебался. Но это продолжалось лишь мгновение. Ведь на меня смотрят друзья, даже восьмиклассники! На что я гожусь, если откажусь выпить за компанию? Они же, схватившись за животики, будут смеяться надо мной, желторотым.
И я взял стакан.
– Только у нас без махинаций, – сказал кучерявый гимназист с очками на носу (я видел его лицо в полосе света из окон второго этажа). – У нас пьют до донышка…
Я поднял стакан. Хотел было сунуть его обратно Скринске, а сам удрать в зал, но не посмел. Нет, нет, этого делать нельзя! Надо ценить дружбу и доверие товарищей!
– Я его нарочно позвал, – снова сказал про меня Скринска, закуривая сигарету. – Это парень что надо, вы уж поверьте.
Надо было решиться. И я, зажмурившись, словно погружаясь на дно, приложил к губам теплый стакан. Запрокинув его, я выпил до дна и, уже пустой, отдал Скринске.
– Молодец! – похвалил меня восьмиклассник. – Пьет как воду. Будет из тебя еще пьяница первый помер!
«Нет, нет, никогда я не стану пьяницей», – промелькнуло у меня в голове. Я закашлялся, но здесь, кажется, Скринска отломил и подсунул мне кусок хлеба:
– Закуси.
Восьмиклассник, взяв у Скрински бутылку и наливая водку, наставительно добавил:
– Настоящие пьяницы не закусывают хлебом, а нюхают… Понял?
– Ну как? – поинтересовался Скринска.
– Ничего, – ответил я, еле переводя дыхание, и почувствовал, что глаза у меня полны слез.
– Вот увидишь – сразу настроение исправится… Сейчас пойдем плясать. Когда навеселе, то от барышень спасу нет…
Восьмиклассник выпил, понюхал корку и сказал:
– Лично мне бабы, скажу я вам начистоту, просто осточертели… Поговоришь с ними, как человек, и сразу на шею вешаются…
Огненный поток, обжегший вначале глотку, вроде бы погас. Мне стало веселей. Слезы больше не текли, и я вдруг осмелел. Допив бутылку, приятели швырнули ее куда-то в глубину сада. Мы возвращались наверх. Взбираться по лестнице было до смешного легко, хоть ноги малость заплетались и чуть-чуть кружилась голова. Когда я входил в зал, как раз заиграли вальс, и я, увидев у двери тоненькую, с приветливым личиком Юзе Пакалкайте, с ходу кивнул ей. Она пошла со мной танцевать. Меня распирало желание говорить, и я читал ей сперва Балиса Сруогу, потом перешел на Блока. Она сказала мне, что по-русски не понимает, и я стал декламировать гётевское «Kennst du das Land, wo die Zitronen brauen».[80]
Пакалкайте заметила, что этим ее не удивишь, поскольку ее класс тоже учил эти стихи наизусть. Тогда я рассказал ей анекдот, но она ответила, что анекдот препошлый и она его уже слышала. Я говорил и говорил без конца, и Пакалкайте заявила:
– Вот не думала, что вы такой… Вы всегда вроде немного мрачный, задумчивый, а, оказывается, вы совсем другой.
Но тут все вокруг закружилось. Я с трудом кончил танец и, усадив партнершу на свободный стул, выскочил в коридор. Вращалось все – стены, потолок, гуляющие гимназисты, учителя и лейтенанты. Заботливый Вищюлис подошел ко мне и схватил меня за руку:
– Что с тобой? Ты весь бледный… Ты не заболел?
– А пошел ты… к черту! – взревел я.
Вищюлис ошалело отскочил. Он ни разу меня не видел таким, и никогда я так с ним не разговаривал.
Я задыхался. Сбежав с лестницы, я вышел во двор. Здесь подул ветерок, и стало чуть легче. Я завернул за угол – мне было так худо, что хоть на стену лезь. Но помнил я все до мельчайших подробностей – и как пили, и что говорили, и как я танцевал с Пакалкайте. А теперь вот мне худо. И этот мерзкий вкус во рту!








