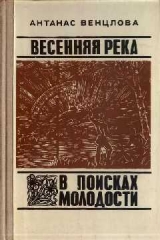
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 43 страниц)
Из-за этого стоило изучать русский язык! И было приятно осознавать, что вдруг рухнуло какое-то препятствие и передо мной распахнулись врата в новую страну.
…Был вечер. На дворе высились пухлые зимние сугробы. А мы, самые смелые, как и каждый день, разделись догола, выбежали во двор и несколько раз перекувырнулись в снегу. Словно нас обжег огонь, мы бросились обратно и, растеревшись полотенцами, юркнули в постель.
А в углу лежал и надсадно кашлял Казис Сенкайтис, накрывшись, как каждую ночь, легким одеяльцем, а поверх него – своей солдатской шинелью. И мы уже знали, что он болен чахоткой. А от чахотки не было спасенья.
Казис Сенкайтис, тишайший, добрейший наш товарищ, умер во время каникул. О его смерти я узнал, вернувшись после каникул в гимназию, мне сказал об этом мой однокашник Казис Катилюс, который единственный из друзей проводил его до могилы…
А с Винцасом Жилёнисом я сходился все теснее. Теперь мы часто гуляли с ним по городскому саду, читая вслух любимых поэтов, вместе ходили купаться к Шешупе. Не раз мы спорили с ним о новом фильме или спектакле Каунасского театра. Винцас – как Казис и я – не мыслил жизни без патетики, без звонких стихов, без новых журналов и книг… Как когда-то я, так теперь он стал учить понемногу русский язык, и я уже был наставником. На каникулах мы часто переписывались.
Однажды летом я обрадовался и удивился, увидев Винцаса в Трямпнняй, в нашем дворе. О, как радостно было нам встретиться не в опостылевшем Доме трезвости, а на холмистых полях нашей деревни теплым летом, которое звало нас то к озеру, то на Часовенную горку!
– Как хорошо, Винцас, что ты ко мне приехал! – радовался я, а мама спешила побаловать нас блинами, вареньями, медом.
Винцас рассказывал маме о Видгиряй, о ее родной деревне. Вспомнив молодость, мама, подсевшая в горнице к столу, за которым мы завтракали, вытирала передником слезы…
Я читал Винцасу новые свои стихи и куплеты «Мариямполиады». Перед его приездом, запершись в горнице, я сочинял некое подобие поэмы, назвав его «Мариямполиадой». На поэму это сочинение смахивало разве тем, что было написано стихами и к каждой его песне присовокуплены были эпиграфы из «Махабхараты». В своей поэме я описывал различные похождения однокашников и учителей. Переписав всю поэму в толстую тетрадь, я теперь читал ее Винцасу. Он смеялся и говорил:
– Знаешь, а из тебя получится поэт!.. Как пить дать.
Он сам читал мне какой-то свой рассказик, который, как и мои стихи, отличался не столько мастерством и знанием жизни, сколько юношеским пылом и наивной патетикой. И его и мои тогдашние писания, скорей всего, порождены были неотвязным желанием излить кому-то свои смутные мечты, в которых реальность переплеталась с фантастикой, неопределенная радость со столь же неясной тоской.
– Правда, Винцас, как было бы здорово, если бы и Казис и мы с тобой на всю жизнь остались верны теперешней нашей мечте – писать, творить. Вот будет интересно, если мы когда-нибудь напишем не стишок, статейку, рассказик, а целую книгу, которую будут читать люди! Ведь это будет просто здорово.
– Да, разумеется, – ответил Винцас. – Это нелегко, но иногда мне кажется, что нет большего счастья в жизни, как написать что-то дельное…
Наши разговоры затягивались за полночь. Уже на гумне, лежа на сене, мы долго делились мыслями и мечтами, пока в щелях меж бревен не загоралась заря…
Жизнь казалась бесконечно долгой, замечательной, манящей. Казалось, мы вечно будем молоды, здоровы, счастливы, вечно будут переполнять нас удивительные замыслы.
ТРЕВОЖНЫЕ МЫСЛИ
Такой дружба бывает, только пока ты молод. Дня не можешь прожить без своего друга. Каждый разговор с ним тебя обогащает. Тебе важно знать его мнение обо всем, в чем ты нетверд. А если твой друг вдобавок тебя старше, он для тебя – главный авторитет, и ты, наперекор мнению других, ждешь, что же скажет он.
Таким авторитетом был для меня Казис. Он учился уже не в гимназии, а в учительской семинарии, которая была основана в 1920 году в недостроенной казарме на юге от города. Учились мы в разных местах, но от этого наша дружба не остыла. Каждый день я бывал на Дворянской улице, в домике, где он жил, а если не мог – он приходил ко мне с новой книгой или журналом, и мы разговаривали час за часом, не замечая, как бежит время и что уже пора идти хлебать вечерний суп.
Мы никогда не спорили о мировоззрении. Мой друг, начитавшись религиозных и моралистских сочинений Льва Толстого, стал своеобразным толстовцем. В костел он ходил изредка и только по принуждению бабушки. Увидев, что мы начитанны и любим литературу больше других гимназистов, атейтининки из старших классов предложили нам редактировать журнальчик творчества гимназистов. Мы получили толстую кипу стихотворений, рассказов и прочего бреда. Стихи были то про восход или закат солнца, то влюбленные вопли, посвященные разным Марите или Оните, то вообще какое-то неясное трепетанье души. Кое-как отобрав, на наш взгляд, лучшее, мы отдали рукописи переписчику, который каллиграфически их переписал, размножил на стеклографе, сделал обложку и таким образом изготовил, кажется, экземпляров десять журнальчика «Голос будущего». Так мы издали два или три номера этого журнала. В одном из них я, помнится, поместил перевод какого-то рассказа Льва Толстого, от которого тогда был без ума. Атейтининки стали выражать недовольство по поводу этого рассказа, но мой друг сказал:
– А ну их к лешему! Не обращай внимания! Все эти местные философы по сравнению с Толстым гроша ломаного не стоят!
Между тем в учительской семинарии творилось неладное. Атейтининки, опекаемые многими учителями, изо дня в день наглели. Капеллан Пиюс Дамбраускас, позднее ставший директором, на своих уроках хулил социализм, который, как ему казалось, проникает из реального училища в семинарию. Однажды Казис мне сказал:
– Тебе, часом, не кажется, что все эти «Голоса будущего» – самое что ни на есть дерьмо?
Я поглядел на своего друга и без колебания ответил:
– Вообще-то кажется…
– Ну и пошлем их к лешему! – сказал Казис.
Я согласился, и наши дела с атейтининками пошли на убыль. Окончательно наши отношения с ними оборвало следующее событие. В Мариямпольскую учительскую семинарию поступил хромой, некрасивый лицом, но приветливый и смелый паренек, сын портного, комсомолец Витаутас Ведринайтис. Он дружил с Казисом, они даже сидели за одной партой. Встречался с ним и я. У Ведринайтиса я впервые увидел книгу Ленина. Кажется, это была «Государство и революция». Мне очень хотелось прочитать эту книгу, но не хватало смелости попросить Ведринайтиса – я знал, что книга нелегальная и что носить ее по городу нельзя.
– Вот кого надо читать! Не читать, а изучать – Ленина! – сказал мне Ведринайтис. – Вот человек, который хорошо понимает, куда движется мир. И вот почему его так ненавидят всюду, где царят реакция и гнет.
– Послушай, а вдруг у тебя найдут такую книгу? – спросил я.
– По головке не погладят, это уже верно, – усмехнулся Ведринайтис. – Но, как бы они ни старались, революцию остановить нельзя. Это только вопрос времени…
Вскоре нашего друга арестовали. Мы слышали, что его и других арестованных, которых увезли в Вилкавишкис, охранка жестоко мучает на допросах – избивает, ломает суставы, пытает электрическим током. Охранники отобрали у него даже «Просветы» Вайжгантаса, которые я ему давал почитать. Методы ксендзовскои охранки и всей черной реакции вызывали у нас не столько возмущение, сколько омерзение. «Что ж, воскресла инквизиция!» – говаривали гимназисты левых убеждений.
Летом 1922 года Казис мне писал:
«Ведринайтиса выпустили. Он весел и радуется, что столкнулся воочию с остатками варварства. В «литовской инквизиции» (церковь ее ведь тоже считает священной, но я – нет!) нахватал оплеух, «выродков», «подлецов» (его обвиняли в коммунизме). Он желает, чтоб и я туда угодил, поскольку, как он говорит, очень уж там много интересных людей!»
После первого ареста Ведринайтис хотя и получил выговор от директора, но еще остался в семинарии. В 1923 году его арестовали снова. Когда он после заключения вернулся в семинарию, капеллан Дамбраускас вошел в класс и закричал:
– Прошу выйти! Врагам церкви и родины не место в нашей школе!
Ведринайтис – взволнованный, бледный – встал со своего места и, с иронией посмотрев на ксендза, покинул класс. Тогда вскочил и его друг Казис. Ударив кулаком по парте, он воскликнул:
– Это клерикализм! Бесправие!
И тут же обратился к ученикам-аушрининкам[68]
(они составляли около половины курса):
– Товарищи, прошу принять меня в свою организацию! Аушрининки единодушно захлопали ему. Это случилось в 1923 году, когда я учился в шестом классе гимназии, а Казис – на третьем курсе учительской семинарии.
Уже тогда у него были широкие творческие замыслы. Он писал мне:
«Своих «Людей» я напишу по-своему, как уже говорил, – философствовать, чушь нести, в подробности вдаваться не буду, – а больше общими штрихами и яркими образами. Ты, вижу, уже хохочешь! Ну его к лешему, твой смех, а я хоть лопну, своих «Людей» напишу так, как хочу. Спросишь, за какой срок. Может, хватит десятка лет, а может, и того меньше, но трудиться буду долго, пока не увижу, что ничего больше ни отнять, ни прибавить нельзя. Эх, приятель – все или ничего! – вот сейчас мой девиз. Хотя сейчас… что сейчас?.. ночь. Надо спать. К черту!»
Как и многие наши замыслы, «Люди» не увидели света. Но неужели из-за этого юношеские мечты потеряли свое очарование?
В другом письме, написанном тем же летом, Казис сообщает, что прочитал ибсеновского «Бранда», и говорит: «Мою уверенность в себе даже Бранд не поколебал». В это время он переводил «Страшную месть» Гоголя, которая так сильно подействовала на меня, когда Марите обучала русскому языку.
Летом 1923 года Казис писал мне:
«…Был в Каунасе. Купил золотые очки (которые, слава богу, уже разбил), но еще купил и книг на немецком языке: «Садовника» Р. Тагора, «Письма с моей мельницы» А. Доде и еще Ницше и Метерлинка, последнего по-русски. Книги, чтоб их леший, дорогие. За Тагора отдал восемь литов, есть еще два тома – драмы по 10 литов.
Книги в Каунасе попадаются, но карманы дрожат из-за цен – не пойти ли, часом, камни дробить, чтоб подработать.
Книг-то у меня теперь даже больше, чем надо. Немецкий язык зубрю, авось что и выйдет. Если выучу за это лето немецкий – на будущее берусь за французский, а потом еще стоит выдолбить польский и латышский. Для чего? Исключительно для литературных надобностей».
В Мариямполе каждый месяц, а иногда и через месяц выходил тоненький журнальчик для учащихся – «Утренняя звезда». Выпускали его аушрининки.
Казис почти в каждом номере «Утренней звезды» печатал свои прозаические зарисовки и стихи. И те и другие были полны мятежной романтики, исканий и бунтарства.
Сальве, мать-земля!
Славлю я тебя, зари звезда.
В море вышел мореход отважно —
Парус выше! – Путь наш в море,
хоть ни зги, хоть волны воют,—
в море вышел мореход отважно.
Пусть корабль швыряют волны,
пусть мы – головой об стену —
не застонем, – ночь темна, но утру быть,
сердцу юному приплыть
к берегам страны рассвета!
Пусть поглотит всех нас море,—
сердце юно – кровь вскипела,
парус выше,—
слово – дело: в море вышли!
Эти более чем прозрачные аллегории подливали масла в наше недовольство жизнью, закованной клерикалами. Наверное, поэтому мы не могли тогда спокойно читать подобные стихи.
Около 1924–1925 годов до нас дошли произведения Владимира Маяковского. Какую-то книгу мы получили из реального училища, через Ведринайтиса. Обычно книги русских классиков и современных писателей, изданные в Берлине Ладыжниковым, «Словом» или Гржебиным, доходили до нас через жену адвоката Андрюса Булоты, подругу и опекуншу Жемайте, большую любительницу литературы. Тогда по рукам у гимназистов ходили ее томики Пушкина, Тургенева, Чехова, Горького, Бунина, Андреева.
Казис переводил «Левый марш» Маяковского и начало его напечатал в «Утренней звезде». «Утреннюю звезду» конфисковали (это случалось довольно часто), но почти весь тираж успели вынести из типографии. Прокурор прислал редакции уведомление, что злопыхатель Маяковский привлечен к судебной ответственности (без сомнения, прокурор решил, что Маяковский живет в Мариямполе). А мы, услышав про это, смеялись, еще и еще читая Маяковского:
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним.
Левой!
Левой!
Левой!
Журнал «Утренняя звезда» привлекал меня и раньше, потому что в нем печатали рассказы Максима Горького, Леонида Андреева, стихи Бутку Юзе[69]
и начинавшего тогда Ляонаса Скабейки.[70]
Мне нравились и многие статьи этого журнала.
Еще в 1919 году, едва начав выходить в нашем городе, журнал предостерегал:
«В наше время черные силы реакции не дремлют. Они стараются пустить свой зловонный яд в каждую душу, особенно в душу юношества, чтобы общественнную жизнь Литвы переделать на свой лад. Они хотят одурачить народ и проложить дорогу в темное свое царство. Они засеивают почву, вспаханную немецкими империалистами.
Но народ просыпается… Он сбрасывает с себя ярмо рабства… Срывает цепи, сковывающие руки.
Наша обязанность – помочь народу. Наша обязанность – преградить путь этим врагам светлого будущего. Наша обязанность – будить молодежь, усыпленную непосильным трудом. Наша обязанность – распространять свободную социалистическую мысль».
Все это было красиво. И, возможно, для начала достаточно было подобных красивых слов. Но чем дальше, тем туманней становился социализм «Утренней звезды». Самое странное, что, высказываясь за социализм, «Утренняя звезда» нагло нападала на Советскую Россию. Журнал много писал о развитии личности, но снова было неясно, как он мыслит развитие этой личности в условиях капиталистического гнета, когда рабочий порабощен и нещадно эксплуатируется. И совсем уж было непонятно, каким представляют себе аушрининки общество будущего – как оно будет управляться, как будут развиваться экономика и культура. Позднее, когда я ознакомился с марксистскими книгами, они дали на этот вопрос ясный и недвусмысленный ответ.
Я встречался с аушрининками. Я чувствовал свою слабость в политических вопросах и не мог вступать в открытый спор, но мне казалось, что вся их идеология неясна и непоследовательна. Правда, меня восхищал протест аушрининков против клерикального режима – а режим этот из года в год пускал корни повсюду.
Ксендзы проникли в гимназии и старались воспитать учеников послушными, преданными им душой и телом. Много ксендзов было и в сейме, и здесь они решали коренные вопросы правления и устройства Литвы. Расплодились охранники, шпики, которые не только на фабриках ловили рабочих и прятали их в тюрьму – они пробирались и в школы. Чем дальше, тем чаще мы слышали о том, что арестованы ученики реального училища и что их пытают в охранных отделениях Мариямполе и Вилкавишкиса. О таких событиях мы что ни день говорили с Казисом и с новым моим знакомым и другом – Витаутасом Монтвилой.[71]
Витаутас Монтвила был старше меня на несколько лет. Он появился в Мариямполе осенью 1921 года, отслужив добровольцем в армии, выходит, уже взрослым человеком. Воевал он где-то в Вильнюсском крае, как говорится, «освобождал Вильнюс», но разговорчивостью не отличался, так что о своих боях ни мне, ни, наверное, другим ничего не рассказывал. Ходил он в потертой солдатской шинели. Года два он проучился в приготовительных классах учительской семинарии и, кажется, только в 1923 году поступил на первый курс. Теснее удалось мне с ним сойтись, насколько помню, лишь в 1924 году, когда он пришел к аушрининкам.
Витаутас Монтвила привлекал меня прежде всего как поэт, стихи которого я читал в «Утренней звезде» и в некоторых газетах американских литовцев. Стихотворение «Пробуждающаяся свобода», напечатанное в «Утренней звезде» осенью 1924 года, видно, чем-то сильно перекликалось с моими тогдашними настроениями, потому что я много раз перечитывал его и знал наизусть:
Костры разгорелись,—
как ленты кровавые,
пламя багровое
тянется – хочет
земли нашей нечисть спалить.
Горит старый мир, он сгорает!
А бури свободы
летят над землею,
чтоб искры возмездья не гасли,
не падали вниз, словно перья
заклеванных коршуном птиц.
Шагаем мы с песней.
С улыбкой восходим
на гору крутую – сражаться
за наши идеи,
за честь и свободу.
Всем жаждущим крови горячей и юной,
всем, нас приковавшим к кресту без пощады,
навечно запомнить бы надо:
дела ваши тяжки – они вас задавят,
в крови ваши руки – они вас задушат.
Войдет в книгу жизни короткая запись:
«Без сердца, с пустой головой они жили…»[72]
Не помню, где мы впервые встретились с Монтвилой. Наверное, произошло это в городском саду или на Варшавской – здесь можно было встретить кого хочешь и кого не хочешь. Меня поразили мрачность и неразговорчивость нового знакомого. Казалось, его давят какие-то заботы и от этого его плечи сгибаются под непосильной ношей. Шагал он спокойно, не торопясь, говорил, словно взвешивая каждое слово. С ним я чувствовал себя не в своей тарелке, как будто он видит насквозь твои недостатки и слабости и презирает тебя за них. Но постепенно эта холодность смягчалась, а очень голубые глаза, глубоко спрятанные под высоким лбом, не теряя своей пронизывающей силы, оттаивали, становились дружелюбнее, хотя слова звучали трагично и сурово, как и раньше:
– Ксендзы и охранники – лучшие друзья. Всей своей тяжестью они навалились на Литву. Прибавь к ним еще фабрикантов – и вот, как говорит учитель истории, настоящий триумвират!
Прочитав какие-то мои стихи, он вернул мне рукопись и сказал:
– Как ты можешь писать о прелестях весны, когда наших товарищей в охранке избивают и пытают электричеством?..
Мне стало стыдно за свои стихи, но я начал объяснять:
– Человек не может жить без красоты природы, без любви…
– Не это нас теперь должно занимать! – говорил Витаутас. – Ты лучше погляди, что творится вокруг… Вот была одна гимназия посвободней – реальное… Единственная на всю Литву… И ее реакция успела придушить. Мерзость… В твоих стихах вдобавок есть что-то от Сруоги, от этих его «Троп богов»… Не такая поэзия нам нужна…
Витаутас говорил очень много – обычно он отделывался коротенькими фразами:
– Надо писать ясно, а твои стихи нельзя понять…
– …Это уже лучше: чувствуется кое-какой протест против подлецов…
Почитав стихи из альманаха «Дайнава», изданного эстетами в Каунасе, Монтвила сказал:
– Сопли…
И не вдавался в объяснения, почему он так считает.
Однажды он повел меня в Дягучяй, предместье Мариямполе, где, кажется, его дядя строил для себя деревянный домишко. На бутовых камнях кое-как держался сруб. По наклонной доске мы забрались в этот домишко, где привольно гулял ветер, сметая со стола рукописи поэта. Витаутас познакомил меня со своей матерью и сестрой – портнихой, которая, как я узнал впоследствии, помогала брату учиться, кормила его и одевала. Кажется, это был единственный раз, когда Витаутас извлек из стола толстую тетрадь в черной обложке и подал ее мне. Я полистал ее.
– О, ты уже много написал!
– Все чушь, – сказал Витаутас, и я даже не успел ничего прочитать, как он забрал у меня тетрадь и сунул в ящик стола. – Писать надо так, чтоб никто не мог читать спокойно. А как это делается – не знаю…
Он не любил почти всех наших поэтов, публиковавших стихи про любовь, природу, смутные мысли и грезы. Нравилась ему лишь поэзия Юлюса Янониса – он с восхищением читал его стихи.
– Надо писать так, как писал Янонис, но я так не умею, – говорил он.
Часто мы встречались втроем – Казис, Витаутас и я. Мы с Казисом разбирали стихи какого-нибудь поэта или говорили о свежем номере журнала, а Витаутас молчал и, кажется, думал свою все ту же сумрачную, тяжелую думу. Потом, подняв красивую голову – темные густые кудри, высокий лоб, пронзительно-синие глаза, страдальчески сжатые губы, – он коротко бросал:
– Все чушь… Не это теперь нужно…
С первого же знакомства Витаутас стал большим авторитетом для меня. Как я уже говорил, он был старше меня. Его стихи часто появлялись в печати, и, главное, они только с виду смахивали на стихи остальных поэтов, а содержание у них было воинственное, беспощадное – молодой поэт отважно выражал свое недовольство существующим строем, духовным насилием, которые он испытал в учительской семинарии, наконец, всей Литвой, управляемой клерикалами, в которой все трудней приходилось тем, кто не плясал под ксендзовскую дудочку. Я тоже попытался было писать так, как писал Витаутас, не понимая, что подражание – еще не творчество и что этот путь бесплоден.
Видно, за Витаутасом неусыпно наблюдало бдительное око капелланов и школьных шпиков. Они ярились из-за того, что его все больше уважают учащиеся, что он на каждом шагу без оглядки высказывает свое мнение и точно характеризует каждого, будь то полицмейстер, начальник уезда, капеллан или даже сам заместитель директора ксендз Пиюс Дамбраускас. В учительской семинарии Витаутас и Казис слыли самыми опасными возмутителями спокойствия, смущающими других учеников.
Совсем взбесились реакционеры, когда эти два семинариста не пошли Первого мая сажать деревца (такой уловкой Пиюс Дамбраускас вместе со своими прихвостнями решил отвлечь учеников от празднования Первомая), а прицепили на грудь красные кокарды, да еще и других отговаривали от участия в ксендзовской затее… И вот Казиса после таким образом отмеченного Первомая исключают из семинарии – как раз перед выпускными экзаменами.
Витаутасу позволяют нормально кончить очередной курс. Но и его дни в семинарии сочтены… В одно августовское воскресенье комсомольцы проводят антивоенную демонстрацию. На шествие, которое от костела направилось к центру города, нападают охранники и полиция. Казис с Ведринайтисом с балкона какого-то дома видят, как полиция случайно (Витаутас не был комсомольцем), считая Монтвилу участником демонстрации, хватает его и уволакивает в участок. Вскоре мы узнаем, что Витаутас приговорен к шести месяцам заключения. Когда он выходит на волю, о возвращении в семинарию не стоит и мечтать – неужто ксендз Дамбраускас, к тому времени ставший директором, и другие клерикалы примут его после тюрьмы? И Витаутас вынужден покинуть Мариямполе. Он переселяется в Каунас и поступает вольнослушателем в университет, но вскоре уезжает в Кедайняй, в учительскую семинарию. И мы встречаемся после длительного перерыва снова в Каунасе.
Казис же, игнорируя ксендза Дамбраускаса, обращается к директору гимназии с просьбой позволить ему сдавать экзамены экстерном. Директор соглашается и предпринимает шаги, чтобы Казису разрешили сдавать экзамены в семинарии. Дамбраускас в конечном счете уступает, но ставит условием, чтобы Казис сдавал не за последний год, как остальные ученики, а за весь курс семинарии. Это – огромная разница, и не в пользу ученика. Но Казис – головастый парень, и Дамбраускас поражен – он гладко сдает все экзамены. Но Дамбраускас не сдается: он отказывается выдать Казису аттестат зрелости.
Летом Казис мне пишет:
«Экзамены сдать-то я сдал, но кто выдаст аттестат, одному лешему известно. Ксендз Дамбраускас говорит, что министр просвещения, а министр скажет – пускай черт знает кто даст. Видишь ли, братец, они только сегодня додумались, что мы, дескать, не имели права сдавать экзамены. Свиньи иезуитские! Чего они тогда не сказали, шут бы им тогда экзамены сдавал, а не я. Что-то мне кажется, они такое наврут, что я кукиш с маслом получу, но… тогда они меня попомнят. Не останется ничего другого, как выйти темной ночью на большую дорогу! Еще время есть!
…Я теперь за соломинку хватаюсь – собираюсь издавать поэтическую тетрадь…»
В приписках к тому же письму:
«До того свинское у меня положение, что теперь я ни буржуазный, ни социалистический писатель. Конгломерат – так что лучше никуда не соваться!
…Еду в Каунас похлопотать об университете, хотя аттестата все нет и я не знаю, когда будет…»
Без аттестата зрелости, представив записочку директора о сдаче экзаменов, Казис осенью 1924 года поступает в университет и переезжает в Каунас… Летом он уговаривает меня в письме тоже держать экстерном за курс гимназии и вместе ехать в университет. Увы, я еще не был к этому готов – надо было отсидеть положенный срок в гимназии…
А мой друг уже вступил в новую, заманчивую, увлекательную студенческую жизнь!
ЛЕТО
Я лежу на своей кровати в клети и вижу, как из чердачного лазка и из щелей в полу сочится утро. Тусклый его свет становится все ярче. Я слышу, как Пиюс у гумна отбивает косу. Мама приоткрывает дверь клети, взбирается за чем-то на чердак и, увидев, что я уже открыл глаза, говорит:
– Поспи, поспи еще… Ведь в городе-то голову утомил…
Я блаженно зажмуриваюсь. И впрямь, сон одолевает меня так, что я просыпаюсь только через час. А может, прошло лишь пять минут.
Я снова вспоминаю маму, и мне хорошо. После смерти отца она делала все, чтобы я мог продолжать учебу. Родня говорила, что меня после четырех классов надо заставить поступить в духовную семинарию, но мне мама об этом ни словом не обмолвилась. Когда Юозас, став хозяином после смерти отца, доказывал, что хватит мне учиться, что я давно свою долю хозяйства проел, что он больше не поедет в Мариямполе и ничего мне не повезет, мама вставала спозаранку, все, что могла, насыпала в мешочки, заворачивала в тряпицы и бумагу, потом будила Юозаса, а если тот не вставал – Забеле и ехала ко мне. Ехала зимой, по заметенным дорогам, привязав к дышлу саней фонарь, дрожала от страха, как бы не перевернулись сани, не лопнула сбруя или еще чего не стряслось. Вчера вечером мама, управившись с работой, пришла ко мне в клеть, села на кровать и сидела такая милая, тихая и родная, что сердце у меня заныло от преданности и любви.
– Ты по дому не тоскуешь там, в городе? – спросила она, словно собираясь начать длинный разговор.
– Сейчас – меньше, – ответил я. – Привык. А раньше ужас до чего тосковал. Казалось, мог бы – птицей бы прилетел…
– Вот и я, когда все дети дома, спокойна и довольна. А выдала замуж Кастанцию – и заснуть не могу: так и грызет меня – вдруг там ее работой мучают, вдруг муж не жалеет, а пожаловаться-то некому… Потом Пиюс в армию ушел… Опять, бывало, даже заплачу, проснувшись ночью, – вдруг он там не поел, замерз, а то раненый или неживой лежит… Кажется, не знаю, что отдала, только бы увидеть… Слава богу, воротился, хоть и сгинуть на этих войнах недолго…
– Сейчас ведь вам не о ком больше заботиться, мама…
– А за тебя, думаешь, не болею? После войны-то, как ты начал учиться, до того уж трудно было, иногда ведь ни крупицы масла дома не видывали… Может, он голоден, – думаю каждый день. Бывало, никому не сказавшись, иду куда-нибудь занимать, только бы было чего повезти. Или вот с этой платой за учебу. То тебя освобождают, а то получим от тебя весточку или сам придешь – и хоть из-под земли достань эти деньги! Отец умер, а я все его слова помню: «Ребенка надо выучить… Лучше сами потерпим, а ребенок должен науки пройти… Ведь как его Бутаускас хвалил… Говорит, ясно же как день – сынок способный, добьется большего, чем мы могли…» Так он твоему ученью радовался….
– Я знаю, мама… Если бы папа сам мог…
– Да, он-то весь свой век к книгам тянулся… Хоть образования не получил, но голова-то у него была светлая… – И мама, вспомнив отца, вытирает невидимую в темноте, понятную только по голосу, слезу.
Я держу в руке мамину руку – небольшую, жесткую, огрубелую от тяжелых многолетних трудов. Каждый божий, день мама бегала, носила, таскала, чистила, варила, пряла, ткала, стирала, сгребала сено… Несметны дела ее рук, неизбывно тепло ее сердца…
– А с верой-то как, сыночек? – неожиданно спрашивает она. Вопрос для меня очень тяжелый. Нет, я не могу солгать, не могу сказать, что я тот, что был… Жизнь, друзья, книги сильно изменили меня. И я осторожно, не сразу, обиняками, объясняю маме, что в мире много людей и много мнений, и не все то, что мы считаем правдой, – правда… Но нет, она хочет прямого ответа на свой вопрос, а я знаю, что своим ответом я пораню ее сердце, заставлю мучиться, может быть, даже маяться ночами без сна… И я говорю:
– Да, мама, я о многом думаю иначе… Но я был и останусь таким, каким вы меня вырастили, – ни воровать, ни лгать не стану, понимаете?..
Не знаю, удовлетворяет ли маму такой ответ. Ее огрубелая рука прикасается к моему лбу и ерошит волосы. И мне хочется целовать любимую руку, пахнущую укропом, тмином, солнечными хлебами полей.
Наконец, утомленное бесконечным летним днем, мое тело погружается в сон – долгий, здоровый, легкий юношеский сон, который несет отдых и прилив сил. И сквозь сон я, кажется, все еще чувствую прикосновение материнской руки к своему лбу, и мне спокойно и хорошо…
А лето идет… Пиюс открывает дверь.
– Кажись, ты сегодня со мной на сено собирался?..
– Подожди! Я сейчас! – отвечаю я и выскакиваю из кровати. Голова еще хмельная со сна, глаза слипаются, но я выбегаю во двор и ступаю босыми ногами по сырой от росы траве.
Солнце уже поднялось над хлевом, но от изб и всех построек на запад тянутся долговязые тени. Из садика разом – словно прорвало – ударяет неслышимый в клети птичий гомон: все наперебой, весело и бойко воркуют, чирикают, свистят.
Я умываюсь во дворе. Воду я только что зачерпнул из колодца, она приятно прохладная. Я обливаюсь, вода рассыпается звонкими брызгами. Полотенце шершавое, его выткала мама и вынула для меня из сундука в клети. Меня здесь балуют.
Разумеется, все уже позавтракали – я встал позднее всех. Пранас с Казисом давно угнали скотину в Концы. Аготеле идет через горку, несет им завтрак. Тети нет, она не возвращалась от родных, у которых гостит с последнего престольного праздника… Юозас хлопочет на гумне, а Забеле помогает маме на кухне. Я вхожу в избу. На столе дымится свекольник, а мама уже несет из кухни самые любимые с детства картофельные оладьи.
После завтрака мы с Пиюсом через садовую калитку выходим на луг, который называется «У камня». Название показалось бы странным, если бы я не помнил, что здесь, у дорожки, которая спускается с горки к дому, еще несколько лет назад торчал огромный камень. Отец решил его раздробить и использовать для погреба, который он строил на пригорке за хлевом. Я помню, как сам отец, а потом и Пиюс с Юозасом в этом камне стальным долотом долбили лунки. Долбили долго – камень был очень твердый! Потом в выдолбленную лунку насыпали порох, заделывали ее так, что оставалась только крохотная дырочка, совали фитиль, поджигали, и все мы удирали кто куда. Отбежим порядочно, и тут взлетает столб дыма, осколки, и мы слышим глухой звук взрыва. Подбежав поближе, видим – откололся здоровый кусок, но сам камень все еще сидит в земле.








