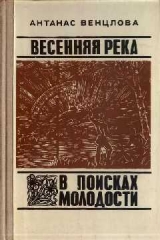
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 43 страниц)
– Нет у людей сердца… Сказала я, для чего прошу, а Жукайтис мне и говорит: «Не могу жаловаться, денежки у меня водятся. И ежели бы твой сын в ксендзы пошел, чтоб мне умереть на этом месте – бери и неси. И другая родня бы сложилась. Можно сказать, в молоке бы купался. А он, слыхал я, с безбожниками водиться стал… Ежели я тебе деньги дам, что ведь получится? Грех на свою совесть приму!» Вот что он мне сказал.
– И не дал? – спросил я.
– Даст он! Ни гроша не дал… А ведь отцовская родня! Эх, что и говорить – отец умер, вот и родни больше не родня…
Нет, мне надо в Каунас. Хоть лопни, а я на своем настою! Я уже не маленький. И я говорю:
– Ничего, мама. У меня в Каунасе знакомые, друзья есть. Не пропаду…
И на следующее утро я беру несколько самых любимых книг (у меня уже целая библиотечка – в ней книг пятнадцать, а то и двадцать) и заворачиваю их в бумагу. Надеваю костюм, что покупал в прошлом году. Надо возвращаться в Мариямполе. Там я что-нибудь придумаю… До Мариямполе-то я доберусь. Сегодня в Калварии базарный день, кто-нибудь меня немножко подвезет, а там уже и Мариямполе близко.
Да, восемь литов у меня есть. На них я каких-нибудь три дня проживу, а если буду питаться раз в день – то и дольше. Правда, в Мариямполе один врач должен мне за обучение ребенка двенадцать литов. Я деньги не взял только потому, что врач был в отъезде. Будем надеяться, он уже вернулся… Нет, конечно же унывать не стоит… На эти деньги я как-нибудь доберусь до Каунаса. А там поживем – увидим…
Узнав, что я собрался в такую дальнюю дорогу, меня провожают почти все. У гумна стоит мама и плачет – она босая, маленькая, и мне почему-то больше всего жалко ее. Я оборачиваюсь и вижу, что Пиюс машет мне фуражкой. Вот замахали и младшие – Пранас, Казис, Аготеле. Забеле побежала в клеть за своими сбережениями – там у нее три лита, но я уже не жду – нет, отсюда я больше ничего не возьму! Юозас (его что-то не видно) верно говорит, что все, что мне из дому причиталось, я давно забрал и прожил…
Идя через Полой, еще раз оборачиваюсь. К горлу подкатывает твердый комок, но я стараюсь думать о другом. Перед глазами у меня огромный город. Да, это Каунас! Я вижу Неман и Нерис, их берега, железнодорожный вокзал, Лайсвес-аллею. Я знаю, что я во что бы то ни стало должен жить в этом городе. В моей жизни что-то кончилось, переломилось. Но я не могу сдержаться и оборачиваюсь еще раз. Увидев, что я обернулся, родные еще раз машут мне. Пиюс что-то кричит, но его голос до меня не доходит. Прислушавшись, я слышу:
– Пиши из Каунаса…
– Напишу! – кричу я в ответ и чувствую, что мои узы с людьми, с которыми я рос и которых так любил, не порвались и, видно, никогда не порвутся.
А весенняя река текла. И уносила меня вдаль.
Примечания1
Перевод стихотворений В. Чепайтиса.
(обратно
)
2
Скиландис – копченый свиной желудок, начиненный грубо рубленным окороком.
(обратно
)
3
«Сим победиши» (лат.).
(обратно
)
4
«Аникщяйский бор» А. Баранаускаса. Перевод Н. Тихонова.
(обратно
)
5
Иди, Антек, принеси рыбы, будет для меня лекарство! (польск.)
(обратно
)
6
Гира Людас (1884–1946) – народный поэт Литовской ССР.
(обратно
)
7
Ну, дети, идите ко мне! (нем.)
(обратно
)
8
Кушать, кушать (нем.).
(обратно
)
9
«С нами бог» (нем.).
(обратно
)
10
Нет, нет… (нем.)
(обратно
)
11
Нет, нет, мать… (нем.)
(обратно
)
12
Нет, мать, нет… (нем.)
(обратно
)
13
О, да, да, большое спасибо! (нем.)
(обратно
)
14
«Яйца», «масло», «сыр», «молоко», «сало» (нем.).
(обратно
)
15
Командир (нем.).
(обратно
)
16
День рождения (нем.).
(обратно
)
17
Праздник (нем.).
(обратно
)
18
Весьма (нем.).
(обратно
)
19
Слава, слава, слава, победа! (лат.)
(обратно
)
20
Ура, ура, ура! (нем.)
(обратно
)
21
Да здравствует! (лат.)
(обратно
)
22
На, пей! (нем.)
(обратно
)
23
Пей, пей, малыш! (нем.)
(обратно
)
24
Казаки! (нем.)
(обратно
)
25
Мать, воды! (нем.)
(обратно
)
26
Проклятье! (нем.)
(обратно
)
27
Вон, вон! Быстрее! (нем.)
(обратно
)
28
Да, да!.. (нем.)
(обратно
)
29
Шутить не любят (нем.).
(обратно
)
30
Мать, вода, яйца, хлеб (нем.).
(обратно
)
31
Я читаю. Я пишу (нем.).
(обратно
)
32
Майронис (Йонас Мачюлис) (1862–1932) – крупнейший поэт периода национально-освободительного движения в Литве (сборник «Голоса весны», поэма «Молодая Литва» и др.).
(обратно
)
33
Тумас-Вайжгантас Юозас (1869–1933) – крупнейший прозаик эпохи национально-освободительного движения (эпопея «Просветы», повести «Дяди и тети», «Немой» и др.).
(обратно
)
34
Жемайте (Жимантене Юлия) (1845–1921) – народная писательница, прозаик и драматург, классик литовской литературы.
(обратно
)
35
Лаздину Пеледа – псевдоним сестер-писательниц Софии Пшибиляускене (1867–1926) и Марии Ластаускене (1872–1957).
(обратно
)
36
Шатрийос Рагана (Печкаускайте Мария) (1877–1930) – писательница («В старом поместье», «Иркина трагедия» и др.).
(обратно
)
37
Баранаускас Антанас (1835–1902) – поэт, классик литовской литературы (поэма «Аникгцяйский бор»).
(обратно
)
38
Венуолис (Жукаускас) Антанас (1882–1935) – народный писатель Литовской ССР, классик литовской прозы (роман «Усадьба Пуоджюнасов», сборник «Кавказские легенды» и др.).
(обратно
)
39
Арминас Пятрас (псевдоним Трупинелис) (1853–1885) – поэт, переводчик, народный просветитель.
(обратно
)
40
Атейтининки – члены католической молодежной организации «Будущее» («Атейтис»).
(обратно
)
41
Гловацкас Пиюс (1902–1941) – участник революционного движения, в 1940–1941 гг. председатель Госплана Литовской ССР.
(обратно
)
42
Лис, верни гуся сейчас же,
Что у нас украл!
Иль тебя убьют, несчастный,
Пулей наповал! (нем.)
(обратно
)
43
К черту! Эта собака могла всех взорвать! (нем.)
(обратно
)
44
Большое спасибо! (франц.)
(обратно
)
45
Так-сяк… (франц.)
(обратно
)
46
Правосудие – основа правления (лат.).
(обратно
)
47
«От начала», «Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют», «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», «о, святая простота», «городу и миру» (лат.), «свобода, равенство, братство», «поживем – увидим», «правовернее папы» (франц.).
(обратно
)
48
Младолитовцы – молодежная организация националистической партии.
(обратно
)
49
Лучше меньше, да лучше (лат.).
(обратно
)
50
Суткус Антанас (1892–1968) – режиссер, основатель Каунасского драмтеатра.
(обратно
)
51
Сухарики, выпекаемые на сочельник.
(обратно
)
52
Креве-Мицкявичюс Винцас (1882–1954) – виднейший прозаик и драматург (рассказы «Под соломенной стрехой», повесть «Колдун», драмы «Шарунас» и «Скиргайла»), умер в США.
(обратно
)
53
Юодасис Адомас (Ластас) (1887–1961) – поэт.
(обратно
)
54
Перевод В. А. Жуковского.
(обратно
)
55
Миколайтис-Путинас Винцас (1893–1967) – народный писатель Литовской ССР, поэт, прозаик, драматург, литературовед (роман «В тени алтарей», сборник «Дар бытия» и др.).
(обратно
)
56
Сруога Балис (1896–1947) – поэт, драматург, литературовед, во время фашистской оккупации узник концлагеря в Штутгофе (исторические драмы, репортаж о концлагере «Лес богов» и др.).
(обратно
)
57
Вайчайтис Пранас (1876–1901) – поэт, деятель эпохи национально-освободительного движения.
(обратно
)
58
Янонис Юлюс (1896–1917) – пролетарский поэт.
(обратно
)
59
Перевод А. Кочеткова.
(обратно
)
60
Борута Казис (1905–1965) – советский поэт и прозаик (роман «Деревянные чудеса», повесть «Мельница Балтарагиса» и др.).
(обратно
)
61
Кряучюнас Пятрас (1850–1916) – педагог, деятель культуры.
(обратно
)
62
Булота Андрюс (1872–1941) – адвокат, общественный деятель.
(обратно
)
63
Мужики (польск.).
(обратно
)
64
Жиленис Винцас (1905–1964) – советский прозаик (роман «Школа в Будвечяй»).
(обратно
)
65
Группа предлогов, требующих винительного падежа (лат.).
(обратно
)
66
Говорите ли вы на эсперанто? (эсп.)
(обратно
)
67
Я говорю на эсперанто! (эсп.)
(обратно
)
68
Аушрининки – ученическая организация социалистического толка.
(обратно
)
69
Бутку Юзе (1893–1947) – поэт-антифашист.
(обратно
)
70
Скабейка Ляонас (1903–1936) – поэт-символист, антифашист.
(обратно
)
71
Монтвила Витаутас (1902–1941) – один из основоположников литовской советской поэзии, расстрелянный гитлеровскими оккупантами.
(обратно
)
72
Перевод Л. Озерова.
(обратно
)
73
Да, конечно, иду (англ.).
(обратно
)
74
Очень хорошо (англ.).
(обратно
)
75
Иди к черту! (англ.).
(обратно
)
76
Черт (англ.).
(обратно
)
77
Поцелуй (англ.).
(обратно
)
78
Яблонскис Йонас (1860–1930) – языковед, педагог, публицист, переводчик, общественный деятель эпохи национально-освободительного движения.
(обратно
)
79
Буга Казимерас (1879–1924) – крупнейший литовский лингвист.
(обратно
)
80
Ты знаешь край, где зреет померанец (нем.).
(обратно
)
81
Кудирка Винцас (1858–1899) – писатель и крупный общественный деятель эпохи национально-освободительного движения.
(обратно
)
82
Стиклюс Костас (1880–1962) – прогрессивный журналист.
(обратно
)
83
Пяткявичайте-Бите Габриеле (1861–1943) – писательница, общественная деятельница.
(обратно
)
84
Шлюпас Йонас (1861–1944) – либеральный общественный деятель, публицист.
(обратно
)
85
Маргалис (Шнапштис Юозас) (1877–1921) – незначительный поэт.
(обратно
)
Антанас Венцлова
В поисках молодости
(перевод с литовского В. Чепайтиса)
ОТ АВТОРА
Бежит время. С каждым годом его остается все меньше. А когда посмотришь назад – дорога идет через годы, события и исчезает за далеким горизонтом детства. Эта дорога началась от порога родной избы и поначалу вела в близлежащее село, потом – в большие города, чужие страны, к незнакомым людям. Жизнь не скупилась на тяжелые часы, но наделила прекрасными друзьями, дала минуты счастья. Я немало работал, мечтал, искал. Времена выдались тяжелые, подчас даже трагичные, – времена опасностей, бурь и переворотов. Но человеческая память, к счастью, не любит хранить неприятности, куда ярче сохраняет она солнечное и радостное. Может быть, поэтому в моей книге тоже больше таких минут…
Шли дни и годы, и мне все больше хотелось вернуться в прошлое, найти молодость – свою и своих друзей, которые, как хотелось бы мне, с улыбкой и хорошими чувствами прочитают эту книгу.
Мое поколение редеет с каждым годом. Нет в живых ближайших друзей – Пятраса Цвирки,[1]
Саломеи Нерис,[2]
Йонаса Марцинкявичюса,[3]
Казиса Боруты, Винцаса Жилёниса, Йонаса Шимкуса.[4]
Некоторые из них собирались описать путь своего поколения, но не успели. Другие умерли молодыми – им и в голову не приходило писать мемуары. Я тоже долго откладывал эту книгу. Но, тяжело захворав несколько лет назад, я впервые понял – ничья жизнь не вечна. И вот я отложил в сторону другие работы и описал то, что увидел за свою жизнь.
Мемуары должны быть правдивыми. Но, по моему глубочайшему убеждению, они могут и должны быть субъективными. Я не собирался писать ни истории Литвы, ни хроники общественных движений. Я хотел написать только о себе, о своих друзьях и знакомых. А вместе с тем в той или иной степени всплывет и эпоха, в которой мы жили. Личная жизнь – моя и моих друзей – здесь не заняла много места только потому, что немало действующих лиц или их близких живы. А это требует от мемуариста не только такта, но иногда и просто молчания.
Не все описанные мною люди, да и я сам, во всем безупречны. Я рисовал их такими, какими знал, – без искусственных украшений и ненужной «героизации». Я думаю, они не рассердятся на меня за это, как не должны бы рассердиться и их почитатели. Я старался быть точным в каждой подробности, и лучше недосказать (если говорить это, по моему мнению, рано), чем сказать неправду.
Полагаю, читатель поймет, что в книге такого характера нельзя искать оценки жизни и деятельности того или другого писателя. Различные люди здесь затронуты лишь настолько, насколько сталкивался с ними автор.
Эта книга – продолжение «Весенней реки». Если первая книга написана как повесть и основана часто на памяти автора, то сам материал этой, новой, диктовал иную форму – документальную, а местами и публицистическую. И ту и другую книгу я писал, стараясь смотреть на события и людей прошлого глазами тех лет (кроме некоторых замечаний в скобках). Пускай читатель не удивляется, когда и я и изображенные мною люди многого не знают и не понимают того, что мы так хорошо понимаем сейчас.
И «Весенняя река» и эта книга должны были показать путь моего поколения из деревенской темноты к культуре, свету, творчеству, который вел нас к изменению общественного строя, к социалистической революции. Путь был долгий, извилистый и трудный. Если читатель почувствует повороты и трудность этого пути, я буду считать, что добился своей цели.
А. Венцлова
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Если есть на свете счастливые люди, то один из них – я! И правда, мне невероятно повезло. Кто мог подумать, что, уехав из деревни неделю назад с восемью литами в кармане, я буду уже чиновником и окажусь в Каунасе, на втором этаже здания Министерства сельского хозяйства! Я сижу и скучаю. Но скука скоро кончится, начнется работа! Так утверждал референт Гасюнас, энергично расхаживая по двум небольшим пустым комнатам, в одной из которых стояли наши столы. Он искал места для шкафа с делами, для других столов, за которые сядут столь же счастливые юноши, как я, – канцеляристы департамента земельной реформы!
Расхаживая по комнатам, референт время от времени оказывался у своего стола, садился и от скуки принимался листать какое-нибудь дело или комплект «Правительственных ведомостей». Он удивился, увидев, что я пишу стихи, и попросил прочитать ему что-нибудь. Немного смущаясь, я продекламировал что-то о сумеречных переулках, и он меня похвалил:
– Ничего… Но, знаешь, надо бы про родину или про бога вставить. Майрониса читал?
Майрониса-то я читал, но спорить не решился и что-то буркнул себе под нос.
– Я тоже иногда пописываю в газеты. В «Утро». Раньше работал в Кретинге и посылал заметки, а теперь пишу статьи о земельной реформе. Хочешь почитать?
Он вынул из портфеля статью – странички в полторы.
– Ну как? – спросил Гасюнас, когда я кончил читать. – Нравится?
– Ничего, – ответил я, – но я бы исправил немного стиль.
Референт не обиделся – мои замечания ему даже понравились. После этого я каждую неделю правил его статьи. Мой авторитет в глазах референта сильно возрос. Он начал меня величать «знатоком языка».
В один прекрасный день из типографии начали свозить пакеты и сгружать в наших пустых комнатах. Развязав один из них, референт извлек несколько «Актов о передаче земли», напечатанных на плотной голубой бумаге. Это были бланки, которые придется заполнять нам, канцеляристам. Потом они отправятся к нотариусу или в ипотеку, их зарегистрируют в книгах и выдадут новоселам, которые получили землю после раздела поместий.
– Это тоже моя работа. Посмотри, – подал мне бланк референт.
Я с первого же взгляда заметил, что бумага кишит странными, неправильными фразами, словно какой-то невежда перевел их с иностранного языка. Я вежливо высказал эту мысль референту. Он попросил меня по своему усмотрению исправить документ. Прокорпев полдня (фразы были запутанные и непонятные), я кое-как выправил бумагу. Сев за свой стол, референт серьезно вникал в мои поправки, почесывал плешивую макушку, ходил с бланками в другие комнаты, кому-то показывал, с кем-то советовался. Несколько дней он был задумчив, а из кабинета директора департамента земельной реформы вернулся даже в полном унынии.
– Эх, черт возьми, – сказал он. – И не мог ты раньше приехать, тогда бы мы вдвоем…
Я не совсем понял, что бы мы вдвоем сделали, но было ясно, что бланки никуда не годятся. Полкомнаты было завалено ими, а из типографии все еще везли и везли.
Однажды утром я пришел на службу, и увидел, что в обеих комнатах топятся печи. Стояло лето, а печи гудели, в них бушевало пламя. Референт уничтожал неудачные документы…
А наши пустые комнаты заставили новыми столами и стульями. Вскоре за ними уселись молодые люди – свежеиспеченные чиновники, принятые в новый отдел «Документов о земельной собственности». Земельная реформа подходила к концу.
Некоторое время спустя напечатали новые бланки документов о собственности. Мы научились заполнять, их. Дело было несложное: взять дело соответствующего поместья (в министерстве имелось дело на каждое разделенное поместье) и написать каждому новому владельцу земли все необходимые данные – где находится участок, когда выделен, каков размер, какая почва, где проходят межи.
Новые мои сослуживцы оказались такими же первокурсниками, как и я. Кто собирался изучать право, кто медицину, а кто, вроде меня, гуманитарные науки. Скоро начало учебного года, и все мы с нетерпением ждали его, как начала новой своей жизни, ни минуты не сомневаясь (во всяком случае, я не сомневался), что нас ждет что-то необыкновенное.
Наконец-то настал день, которого мы так ждали. Отпросившись с работы, мы побежали в здание университета, что на улице Мицкевича. Увы, мы опоздали: просторный актовый зал был битком набит студентами. Лишь встав на цыпочки, я увидел впереди, на возвышении, профессоров, сидящих за длинным столом. Но меня тут же оттеснили от двери, и до меня доносились лишь отдельные слова. Кажется, говорил ректор:
– …Наша альма-матер… Свет науки, и только свет науки… Взять крепость науки… Я приветствую всех, кто жаждет…
Чем дальше, тем трудней удавалось уловить слова ректора. Несколько раз прогремели аплодисменты, потом говорил еще кто-то. По слухам, ректор сегодня пожимает руку каждому новому студенту, иначе говоря – фуксу. Было бы недурно, чтобы он и мне пожал! Увы, не только я остался за дверью, не только меня обошли рукопожатием.
Ладно, не попал в аудиторию, и дело с концом. Все равно теперь начнутся невероятные дни – новые друзья, лекции профессоров, полные мудрости, споры студентов и идейные сражения! И я вспомнил письма Казиса Боруты, которые он, студент уже с прошлого года, писал мне зимой из Каунаса. Одно из этих писем накрепко засело у меня в памяти.
«Я вступаю в сражение, – писал мне Казис, – между рабством и свободой. Правда, здесь мы сталкиваемся с вопросом насилия: всех вести к социалистическому порядку, как ксендз ведет души в рай. Не будь насилия в мире буржуазного рабства, я бы, может быть, колебался, что делать, но теперь – нет! С другой стороны, тут еще и дело прогресса. Останавливать или толкать вперед. Я требую – вперед, особенно потому, что этот прогресс вперед должен вести к освобожденному Человеку и Труду. Если не так – к черту прогресс… Но люди сами делают историю, если люди так хотят, то так – будет».
Правда, не все мне было понятно в письмах моего друга, но нельзя же сомневаться, что эти письма – отражение нового мышления, студенческих дискуссий, поисков неспокойного ума. Теперь и я окунусь в эту атмосферу исканий и переоценки ценностей!
Приехав в Каунас и обосновавшись в комнатке на Короткой улице, я начал читать стихи Эмиля Верхарна о городах, капитале, восстаниях, деревне в бреду. Тогда в мои руки попал томик его стихов, переведенный на русский язык Брюсовым. Я читал и романтические «Мистерии» Кнута Гамсуна, и «Ингеборг» Бернгарда Келлермана – эти книги утоляли жажду мечты, тягу к новому и неизвестному… (Роман Келлермана «Девятое ноября» я еще в гимназии начал переводить на литовский язык.) Интересовался я и Ильей Эренбургом, полным скепсиса и едкой иронии над буржуазией, над опустошенной войной и все еще не очнувшейся Европой, томящейся под духовным гнетом. После книги Эренбурга «А все-таки она вертится», где автор предрекал, что роман будущего может иметь не больше шестидесяти страниц, восхищался красотой машин и зданиями Корбюзье, я читал изданные в Советском Союзе книжицы об экспрессионизме, футуризме, Маяковском и вольном стихе.
Я жил в полном одиночестве у старой польки, которая приносила мне по утрам горячий чай, а деньги требовала вперед. Не получив жалованья, недели две питался одним хлебом, потому что не было денег. Одолжить было не у кого – летом в Каунасе не оказалось никого из знакомых…
Заметив, что я сильно истощал, референт Гасюнас спросил однажды:
– Ты, часом, не заболел ли? Тебе, братец, следовало бы знать, что для студента чахотка – прямой путь в могилу. Не выкарабкаешься!
Я стеснялся сказать ему истинную причину своей худобы, надеясь как-нибудь дотянуть до первой получки.
Я гулял по городу, который мне казался настоящим великаном. Да, Каунас пришелся мне по душе! Одна Лайсвес-аллея чего стоит! Идешь, идешь, и все конца не видно. А какой вид с Зеленой горы или с горы Витаутаса! Площадь Ратуши, Алексотас, Неман, Нерис – может ли быть что-нибудь прекраснее! Вечером я забирался на холм, глядел на город, где робко вспыхивали первые лампы позднего вечера, и мне хотелось говорить строками Верхарна, полными шума, гула, движения, романтики… и я писал стихи, до одури декламировал их сам себе, посылал своему старому другу Костасу Стиклюсу в Мариямполе, в «Волны Шешупе», которые он издавал…
Но Каунас только с виду был прекрасен, величествен, необычен. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что через весь город тянется конка; на углах стоят извозчики с обшарпанными пролетками; по улицам снуют разряженные в пух и прах чиновники и спекулянты; на каждом шагу к тебе протягивают руки сморщенные, сгорбленные старушки, пожилые люди, жалующиеся на безработицу; по вечерам не только в укромных улочках старой части города, по которым я возвращался в свою комнатку, но даже посередине главного бульвара тебя останавливали юные девушки, невероятно размалеванные, нахально предлагая свои услуги. До поздней ночи в городе гудят рестораны и кабаки. Из их дверей то и дело на улицу вываливаются пьяницы. Кажется, что людей этого сорта здесь тьма-тьмущая.
«В городе, где разжиревшие буржуа носятся на автомобилях, много народу дохнет с голоду в подвалах», – писал я в одном из писем своему другу учителю Винцасу Жилёнису, и эту фразу я, без сомнения, не выдумал. Куда отчетливей, чем в городе моего детства Мариямполе, на каждом шагу бросались здесь в глаза контрасты богатства и нищеты, роскоши и бедности.
Многие из моих сотрудников оказались атейтининками. Принимая в министерство новых чиновников, их порядком просеивали. По правде говоря, я сюда угодил по недоразумению и оказался белой вороной. Дело обстояло так. Выбравшись в Каунас, попрощавшись с родными и приехав в Мариямполе, я случайно встретил перед гимназией своего бывшего директора. Это был мрачный, неразговорчивый, но прямой и даже добрый человек. Когда я однажды написал для него, преподавателя литературы, домашнюю работу о значении христианства, в которой как следует прошелся по инквизиции и прочим гнусностям, директор не возвратил мне этой работы, хотя в классном журнале и поставил пятерку. Лишь позднее я понял, как чутко он тогда отнесся ко мне. И вот сейчас, встретив меня на улице, он спросил, почему я не на летних учительских курсах. Я ответил, что собираюсь в университет, только не знаю, как и что… Он повел меня к себе домой и черкнул записку в Каунас – начальнику управления земельной реформы, своему брату. Видно предчувствуя, что мои взгляды не совсем сходятся со взглядами правящей партии христианских демократов, он посоветовал мне на прощанье:
– Только не лезь в политику… В политику, говорю, не лезь…
По-видимому, он куда лучше меня понимал, что за штука политика и почему она не к лицу молодому студенту, добивающемуся места.
Как я уже говорил, большинство моих сослуживцев в министерстве оказались атейтининками. Увидев мои стихи, они покачивали головами, а один прямо сказал:
– Какие-то левые, не наши… Откуда ты их взял? Кто тебе их дал?
Такое неверие в мой талант меня оскорбило:
– Как это – кто дал? Я сам их написал! И не понимаю, почему они левые…
– Знаешь, такими стихами лучше не бахвалиться, – сказал атейтининк. – Разве можно так про бога?
Я сунул свои стихи в карман и решил больше их дуракам не показывать. Несколько стихотворений послал Костасу Стиклюсу, а другие – в оппозиционные газеты Каунаса.
Оказалось, что мои сочинения каунасские газеты берут и печатают без особых трудностей. Совсем недавно в оппозиционной газете я напечатал длинную статью о журнале «Борозда». Этот журнал издавали старые писатели, и он мне не нравился. Вот я и выложил откровенно все, что думал как о самом журнале, так и о некоторых уважаемых его авторах. «Восьмой номер «Борозды», если сравнить его с первым, сделал большой шаг… назад, – писал я. – Больно это говорить, но это неоспоримый факт. То же литературное убожество, как и в прежних номерах, если не больше. Содержание – сплошь сочинения «пенсионеров» (по выражению Ю. А. Гербачяускаса[5]
)…»
Дальше я принялся за Майрониса:
«В этом номере на видном месте дебютирует Майронис своими стихами «На холме Пуне». Раньше лирику Майрониса мы читали с превеликим удовольствием и душевным подъемом. Увы, нельзя этого сказать о его последних сочинениях. Майронис – романтик. Ему и теперь трудно забыть свой романтизм, хотя… устарел и Майронис и идеи майронасовских времен. Современная жизнь требует от писателя иного, чем несколько десятков лет тому назад… И в новых его произведениях уже нет того огня, они выцветшие, туманные и больше не соответствуют требованиям жизни и искусства наших дней».
В этом, пожалуй, не было ничего нового, о Майронисе тогда было модно так писать. Гораздо хуже, что под статьей я подписался собственной фамилией и для вящей торжественности прицепил к ней словечко «студ», то есть студент.
Майронис, старый заслуженный поэт, которого читали целые поколения, которого читал и любил я сам, почувствовал себя задетым моей статьей и ответил на нее в журнале.
«…Обычно я не люблю отвечать на критику, – писал он, – потому что знаю: она не может ни прибавить, ни отнять достоинства автора… Лучший ценитель произведений – время.
Но на этот раз мне слишком больно. О заслуженном профессоре с тридцатилетним стажем студент отзывается свысока, менторским топом. Пускай! Это дело воспитания. В наше демократическое время это не в диковинку, не стоит принимать близко к сердцу.
…Я ведь романтик, для которого Мицкевич, Пушкин, Гёте остаются образцами даже в отношении формы. Но нынешних требований жизни и искусства (или нашего критика) этим не удовлетворишь…»
Стоит ли объяснять, что впоследствии, набравшись ума-разума и почувствовав, что необдуманное слово может не только ранить, но и убить человека, я от души сожалел о несерьезных, грубых, даже наглых своих словах, которые так задели старого поэта. К сожалению, при жизни поэта я не смог исправить свою ошибку. Думаю, что сделать это никогда не поздно, и потому пишу эти строки.
В те годы в Каунасе очень популярным был Юозапас Альбинас Гербачяускас, приехавший из Кракова и преподававший в университете польский язык и литературу. Тогда в литературной прессе появились его странные сочинения, которые кое-кому поначалу показались даже революционными. По этой же рецензии видно, как я расценивал статьи Гербачяускаса.
«Гербачяускас – чудной человек, – писал я. – Может быть, он и оказался бы значительным художником, если б смог справиться со своим стилем. Но пока этого не видно. Его писания – окрошка из слов и мыслей, в которой трудно разобраться. Когда Гербачяускас садится писать, он… думает мало, а пишет, что на язык подвернется… Ю. А. Гербачяускас идет по «нашей литературной республике», заранее предупредив всех: «Женщины по пути не изнасилую, а вот с нищим на кладбище переночую. Убийце велю убить черта, а блуднику суну за пазуху змею. Птицам и зверям скажу проповедь, а людям повелю плясать на кладбище… Женюсь на цыганке и буду жить ворожбой… Я буду бродягой в нашей литературной республике… А будучи бродягой, я все увижу, все узнаю – стану лучшим критиком». По словам Гербачяускаса, в Литве «один хочет быть автомобильным гудком, другой – велосипедом, третий – паровой лошадью (Пегас надоел), четвертый – полицейской дубинкой, пятый – трубой фабрики Тильманса, шестой – асфальтом тротуара и т. д. и т. п.».
С Гербачяускасом, как и со многими другими тогдашними знаменитостями, я познакомился позднее…
А теперь вернемся в министерство, куда я спешил каждое утро, как раньше в гимназию. В полутемных коридорах, не видевших света дня, уже слонялись чиновники. Потом они сидели за столами и писали, писали, писали, лишь изредка выходя в коридор покурить и поделиться событиями своей монотонной жизни.
С раннего утра в коридорах толпились крестьяне. Они сидели на скамьях, жевали твердый сыр или крутые яйца, курили вонючие трубки, громко вздыхали. Большинство приехало сюда за правдой – то их обошли при разделе поместья, то участок оказался маленьким, с плохой землей или вообще неудобный, то вначале дали, а потом сосед донес, что он не ходит в костел, и участок передали другому. Крестьяне ходили из отдела в отдел, рассказывали о своих бедах, просили исправить непорядки. Некоторые приехали на последние гроши из дальних мест поездом, другие на лошадях и входили в министерство с кнутом под мышкой. Некоторые пытались давать взятки чиновникам, чтобы быстрее решилось дело. Взятки были скудные – несколько литов или ком масла, сыр; что ж еще может дать бедняк новосел? Такие взятки брал тоже бедный чиновный люд – сторожа, канцеляристы. Неужто возьмет два лита референт или директор департамента, который пропивает или проигрывает в карты за, вечер целую сотню?
Листая дела разделенных поместий, я обнаруживал самые любопытнейшие документы. Прежде всего мне бросалось в глаза, что ко многим крестьянским прошениям прилагались справки от ксендзов, органистов или ризничих, удостоверяющие, что такой-то крестьянин – добрый католик и заслуживает получения земли.
А какие там бывали истории! Поджоги и убийства из-за земли, из-за денег, тяжбы из-за наследства, жадность, зависть, доносы на ближайших родственников, обвинения в том, что они враги ксендзов и коммунисты, у которых надо отобрать землю. Самые интересные просьбы и жалобы я переписывал для себя, надеясь использовать их в какой-нибудь повести. Позднее я даже начал такую повесть, озаглавив ее «Земельная реформа». Но материала все было мало, да и другие причины помешали завершить труд.
В наш отдел валом валили крестьяне, желавшие побыстрее получить документы о земельном наделе. Одни надеялись заложить свои участки в Земельном банке и получить ссуду, без которой не жизнь, а горе и слезы. Другие, едва получив документы, продавали участок помещику, генералу или крупному хозяину и со всей семьей уезжали в Бразилию. Я часто видел толпы уезжающих на вокзале. Много контор занималось вопросами эмиграции и вербовки на плантации Южной Америки. Торговля людьми шла, как говорится, полным ходом. Поговаривали даже о том, что в Каунасе и других городах набирают девушек из бедных семей в публичные дома Южной Америки, – агенты находили способ, чтобы переправить их из Литвы.








