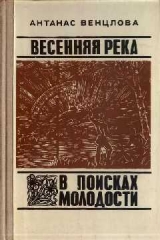
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 43 страниц)
– Ради интереса. Чтоб не все знали.
– А почему другим нельзя знать?
– Это уж их дело. Не хотят, и баста, – ответил друг.
…В тусклой нашей жизни бывали и светлые часы. Одним из таких просветов оказалась «Одиссея», в то время впервые изданная на литовском языке. Эта книга меня, да, кажется, и моего друга, привязала к себе на целые недели. Поэма была издана на плохой бумаге, нечетким шрифтом, в бумажной обложке, которая тут же отклеилась, но уже первые ее строки просто ошеломляли своим великолепием, красотой, просторным ритмом:
Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который.
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
Многих людей города посетил и обычаи видел,
Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь
Жизни своей и возврате в отчизну…[54]
К этому времени мы в классе уже прошли «Восток и мифы», имели понятие о Древней Греции, богах Эллады и их обычаях, о Троянской войне. И все сухие скучные сведения учебника ожили здесь в поразительных, волнующих картинах. О, как чудесно описан дворец Алкиноя! Какой ужас охватывает, когда читаешь о Сцилле и Харибде, мимо которых пришлось плыть хитроумному Одиссею! Как невероятно Одиссей попал к нимфе Калипсо, какая это интересная и даже страшная история, а еще страшнее – про одноглазого великана циклопа Полифема и его жуткую пещеру, когда Одиссей спасся от самой страшной беды, что угрожала ему и его товарищам! Да, это книга! Ее читаешь и читаешь без конца. А ночью тебе снится возвращение Одиссея на родную Итаку, беседы со свинопасом Евмеем, избиение женихов и наконец сцена, в которой верная Пенелопа узнает его. Это не книга, а чудо, самое настоящее чудо! Не забыть этих звонких и живописных страниц…
Большое влияние оказали на нас и изданные тогда произведения Путинаса[55]
– два тонких томика с длиннохвостыми птицами на обложке. В первом были стихи, которые хотелось читать не переставая и учить наизусть. Уж очень они были мелодичные, ясные, красивые.
Тихую долину
Застилают тени —
Голубой равниной
Тучки пролетели,—
декламировал я, гуляя в городском саду. Снова и снова я читал слова, от которых становилось тревожно и тоскливо на душе:
За синим морем, за океаном,
За темным бором и за холмами,
За черным мраком, за ветром лютым,
Что землю снегом одел колючим,—
Теплынь и светлый полдень мая,
Цветут покосы, росой сверкая.
Пою тебя лишь я всей душою,
И на чужбине я все с тобою,
Моя родная страна отцов.
Эти книги можно было читать, откладывать и перечитывать снова – стихи незнакомого поэта, который жил неизвестно где, были так близки нашим тогдашним настроениям, что они словно лились из наших сердец.
Был еще один поэт – Балис Сруога.[56]
Мы читали, хоть понимали и не все, его тоненькую книжицу – «Богиня озера». Потом нам попалась книга в желтой, странной обложке, отпечатанная крупными буквами, – «Солнце и пески». Здесь стихи были совершенно не похожи на те, что мы уже знали. Книга начиналась с торжественных, почти непонятных строф. Мы декламировали их громко, возвышенно, дивясь величественному звучанию:
И трепетная весть пришла по небу —
То Солнца голос.
Трепещут стяги, и доносит ветер
Пустыни голос…
На башне замка запылало пламя —
Сказал я слово…
Тропу во мрак, протоптанную нами,
Залило слово…
А дальше уж и не разберешь:
Иду, земным презреньем припорошен,
Помазан Солнцем…
Несу, как бога, вековую ношу – Корону Солнца.
Да, Балис Сруога – своеобразный поэт, совсем не похожий на тех, что мы уже знаем, – на Пранаса Вайчайтиса,[57]
Майрониса, да и на Путинаса, наконец! Моему другу Сруога нравится, и он говорит:
– Видишь ли, поэзия должна прокладывать новые пути! Надо писать так, как никто еще не писал…
Мы уже были друзьями, когда в Каунасе начал выходить литературный журнал «Чтения». Редактировал его писатель, которого мы просто почитали, – Винцас Креве-Мицкявичюс. О, как ждали мы каждую новую книжку журнала в мягкой зеленой или розовой обложке! Журнал хоть на несколько дней утолял наш читательский голод. Правда, далеко не все нам приходилось по вкусу. Попадались стихи и рассказы скучные, толкующие о непонятных и неинтересных материях. Но бывали там и замечательные. Мы впервые прочитали в журнале несколько новых рассказов В. Креве, повесть «Дяди и тети» Вайжгантаса, из него мы узнали о Рабиндранате Тагоре, о Ромене Роллане. Затаив дыхание, следили мы за литературными спорами. Особенно интересно было, когда критики говорили о уже известных нам книгах. Мы понимали не все, но все занимало и привлекало нас.
Мой друг читал «Тропы богов» Балиса Сруоги, напечатанные в этом журнале, и говорил:
– Умело, образно пишет! И звучит просто, как песня… Посмотри, тут про любовь. А вот – картина природы:
Луна внезапно
Лучами липу
Посеребрила.
Там запах мяты,
Укропа, тмина,
Рябины тяжесть.
Я как верба, что с рассвета
Солнца ждет, а солнца нету.
Кличу в поле – нет ответа…
И брожу в полях один,
Одинокий властелин.
Звезды падают вдали…
Примерно тогда нам в руки попала на редкость занимательная книга – поэтическая антология «Первые венки». В ней были поэты знакомые и такие, о которых мы почти и не слышали. Были и портреты всех этих поэтов. Прекрасно! Стихи, ясное дело, разные – одни запоминаются, другие тут же забываешь. Особенно нравились мне тогда, помню, Казис Бинкис и Юлюс Янонис.[58]
По правде говоря, книги обоих поэтов и раньше попадали к нам, но все равно и теперь я читал с радостной улыбкой «Шелковистые тучки», «Травы из сена». А стихотворения Юлюса Янониса потрясали трагизмом и сочувствием к беднякам. Мы перечитывали сурового и отважного «Кузнеца»:
Видишь сам, – я кую. Так ступай себе прочь!
Недосуг мне с тобой толковать.
Кошелек твой набит – можешь вдоволь зевать,
Ну, а я, – мне невмочь нищету перемочь,
Хоть кую – день и ночь, день и ночь!
………………………………………………………
Да, он рад! Хо-хо-хо! Будет рад он вдвойне,
Когда ярость охватит людей,
Когда вырвемся мы из когтей богачей…
С ним в тот день потолкуем о нынешнем дне!
Хо-хо-хо! Будет рад он вдвойне.[59]
Мой друг еще с Москвы знал подробности о жизни Юлюса Янониса и обстоятельства его трагической преждевременной кончины. Может быть, поэтому до слез трогало нас стихотворение, которое иногда пели на мариямпольском кладбище, на похоронах революционеров:
Не плачьте над прахом друзей боевых,
Героев, служивших народу.
Мы скажем сурово за нас и за них:
Мы счастливы пасть за свободу!
………………………………………………………
Мы живы борьбою – о гибели нам
Ни думать, ни петь не пристало.
Воздвигнем же памятник павшим борцам —
Свершение их идеала!
Да, это удивительный поэт, и он так отличается от других! Все поэты показывают в своих стихах мир красочным, ласковым, без горя и забот, мир, в котором нет борьбы, только любовь, песни, грезы. А Янонис пишет о нищете, горе, и просто удивительно, как все эти невзгоды жизни человеческой не надломят его – он верит в победу и заражает этой верой читателей.
Может быть, мы и не точно этими словами оценивали тогда поэтов, но они нам нравились. Мы то и дело повторяли полюбившиеся строфы – они выражали состояние нашей души, тоску по прекрасному, наше неуемное желание расти, мужать, бороться против несправедливости.
Каждую неделю мы с нетерпением ждали небольшое, в четыре листочка желтой бумаги, приложение к газете, хоть сама газета нас и не интересовала. Приложение называлось «День седьмой». В нем попадались короткие рассказы и фельетоны, критические статейки, переводы.
Но особенно привлекала нас диковинная поэма «Шапшарарап», печатавшаяся из номера в номер. Нас поражал не только заголовок, но, пожалуй, еще больше – содержание и форма этого сочинения. Возьмем хотя бы такую «Идиллию»:
В полночь
Клювобородый дармоед
Прибашмачился, ошапкился,
В сени выперся
И завопил:
– Кис-кис-кис-кис! —
Кошка пятки выхвостила,
Усы выпучила.
Мышку костеня,
Отрычала:
– Ням-ням-ням-ням…
………………………………………………………
Башмакошапкоклювый выязычил:
– Жри и мри,
Мышей я сам очертеню. —
Сто минут
Дармоед кискисил, кошка нямнямила.
Тишь звуками искрилась.
Нервы словами бухли.
Лишь когда петухи кукарекали,
А луна зенит меряла,
Дармоед и кошка —
Кто насловев,
Кто намышившись —
В соннолежбище вернулись.
Или, скажем, там был напечатан такой «Жирносум»:
Округлый жирносум
Отрубкил зубы,
Губами дым позигзагивает
И клювотростью
Ящерохвостой
Брильянтинит тротуар…
– Это – футуризм, – сказал мне мой друг. – Новые слова, новые образы… Это, скажу я тебе, братец, не Майронис…
Потом возник «Предвестник четырех ветров», а позднее появились и «Четыре ветра». Они призывали творить новое искусство, и многие произведения в этих изданиях своей вычурностью, диковинными словами и чудовищными образами сильно смахивали на «Шапшарарап». Нравилось ли нам это? И да, и нет. Нравилось потому, что было ни на что не похоже (а все, что внове, всегда нравится молодым людям). Не нравилось потому, что многого мы не понимали и – главное – не знали, в чем смысл всей этой затеи. Казалось, будто поэты и прозаики хотят просто поиздеваться над своими читателями.
Между тем мой друг сам давно уже писал стихи и прозу. Мне он показывал не все, но я знал, что он пишет и что его стихи напоминают Балиса Сруогу, а проза – «Предания Дайнавского края». И вот как-то, получив один из каунасских журналов, я открываю первую страницу, а на ней – стихотворение Казиса Боруты,[60]
напечатанное довольно-таки крупными буквами! Сейчас я уже не помню содержания, знаю только, что там была строка: «Прощай, – ответил князь». Вообще-то стихи были патриотические, чем-то связанные со сражениями под Сейнами, которым все не было конца. Под ними значились слова «Действующая армия». Когда я спросил своего друга, при чем тут «Действующая армия», он мне ответил:
– Видишь ли, теперь многие делают такую приписку! Отчего бы и мне не написать?
– Но ты же не в армии…
– Неважно… Пойми, это важно не мне, а читателям.
Ясно, мой друг лишний раз возвысился в моих глазах. Он был больше начитан, хорошо владел русским, долго жил в Москве, а теперь вот уже и напечатался!
Неудача со стихами, которые я так торжественно читал своему другу на берегу Шешупе, надолго отбила у меня охоту что-либо писать. Но все, что мы читали, чем бредили, пример друга, наконец, заставляли снова браться за перо.
К тому времени я уже переехал в мезонин на улочке Пятраса Кряучюпаса. В этом доме когда-то жили писатели Пятрас Арминас и Пятрас Кряучюнас.[61]
Мое окно заслоняла кровля соседнего домика, и даже днем в ней стояли сумерки – солнце никогда не заглядывало ко мне.
Улучив свободную минуту, я снова садился за тетрадь и писал, писал, писал… Что же я все-таки писал? Без сомнения, на меня влияли многие поэты, так что мои стихи были похожи то на Майронпса, то на Сруогу, то, наконец, на «Шапшарарап».
Но боже ты мой, до чего они были тусклые по сравнению со стихами известных поэтов, какие громоздкие фразы рождались из-под моего пера, до чего неуклюжие рифмы вертелись в голове и лезли на бумагу! Иногда полдня прошагаешь по городскому саду или вдоль реки и вроде что-то выдумал, а вернешься домой, сядешь за тетрадь, и такие строфы поползут, что самому стыдно. И уже видишь, что в них нет ни крупицы оригинального, – сплошь чужие мысли, да и форма оставляет желать лучшего. И иногда такая тоска берет, что хоть под землю лезь. Кажешься себе дураком без малейших способностей, знаешь, что все это не для тебя, а ведь все равно тебя стихи засасывают. А изредка, гляди, у тебя получается даже некое подобие стихотворения, ты читаешь его себе великое множество раз, и вот уже кажется, что ты не без способностей, что еще сможешь написать что-то самостоятельное. А потом снова мученья и уныние…
И вот однажды под вечер в мой темный мезонин, в котором стоят моя и тетина кровати, маленький столик и печурка, на которой тетя по утрам печет мне картофельные оладьи (этот год я живу в одной комнатке с тетей Анастазией), влетает мой друг. В руке он держит какой-то каунасский еженедельник и уже с порога кричит:
– Видел?
– Что там? – спрашиваю я, в ожидании какой-то пакости.
– Смотри, твои стихи. И, знаешь ли, недурственные. Нет, совсем недурственные… Поздравляю.
Я хватаю газету, гляжу на страницу и вижу, да, мой друг говорит правду! Наверху стоит моя фамилия, а дальше – то самое стихотворение, что я послал в газету недели три назад и уже не надеялся увидеть. Я чувствую, что весь заливаюсь румянцем, как и тогда, на берегу Шешупе.
Теперь мне вроде бы нечего стыдиться, а ведь все равно стыдно, – наверное, с непривычки. Раз эти стихи разглядел мой друг, то наверняка их прочитают и гимназисты, и учителя, и – страшно подумать! – неизвестно сколько народу во всех городах Литвы! И еще у меня внутри заговорила гордость, та самая, что я испытывал на похоронах Забелюке, когда я пел вместе со взрослыми. Правда, теперь меня никто еще не похвалил, если не считать друга, но мне казалось, что увидеть свои стихи в печати – не только великое счастье, но и великая честь…
Как только друг ушел, я схватил со стола еженедельник и уставился в него, не видя ничего, кроме собственных стихов. Они показались мне интересными, свежими, – словом, стихи были как надо. Но через минуту я уже думал, что поторопился послать их в редакцию, – ведь надо было поправить одну строфу. Да и здесь неудачный эпитет (я уже знал, что это слово значит), а там – метафора, которую я уже не раз видел в стихах других поэтов. Было воскресенье. Я читал свои стихи, пока не вернулась из костела после длиннющей мессы моя богобоязненная тетушка и не принялась готовить обед. Я ведь порядочно проголодался.
– Смотрите, тетя, мои стихи в газете, напечатали! – сказал я, подсунув тете еженедельник.
– Эх, сыночек, – отмахнулась тетя, даже не взглянув на него. – Читаешь всякую белиберду.
– Я не читаю, тетя, я сам пишу…
– Пишу, пишу! – недовольно ворчала тетя. – Коли уж пишешь, то написал бы священный гимн, чтоб люди пели… Такой ведь был богобоязненный ребенок. А теперь, видать, угодил в лапы безбожников…
После обеда я не выдержал и отправился на Варшавскую.
Интересно, многие уже успели прочитать мои стихи? Но люди шли мимо, даже не взглянув на меня, как каждый день. Встретил несколько гимназистов из своего класса. Они спрашивали, как я думаю, какую классную работу даст завтра учитель литовского, рассказывали, что ходили в кино, а про мой великий успех совсем, ну совсем ничего не слышали…
СМЕРТЬ ЖЕМАЙТЕ
В Мариямполе не было человека, увлекающегося литературой, который бы не знал, что в нашем городе, после возвращения из Америки, обосновалась Жемайте. Эго ведь одно из известнейших и любимейших нами имен – отрывки из сочинений Жемайте мы изучали на уроках, а первый том ее сочинений, изданный еще в Вильнюсе, каждый из нас читал просто с наслаждением. Но увидеть Жемайте было нелегко. В маленьком городе все сразу становится известным. И мы уже знали, что Жемайте прихварывает, что она почти не покидает деревянный дом адвоката Булоты[62]
на Дворянской улице.
А увидеть Жемайте мне очень хотелось. Видевшие ее рассказывали, что с виду она – обыкновенная деревенская женщина. Но мы еще гимназистиками отлично понимали, что Жемайте – большой человек, невероятно нужный нашей маленькой Литве. Она любила учеников: гимназисты рассказывали, что в реальном училище она читала отрывки из своей автобиографии, которую опубликовали только после ее смерти.
Седьмого декабря 1921 года под вечер в Мариямполе разлетелось ошеломившее всех нас известие – великая наша писательница скончалась. Тщетно пытались мы на следующий день пробраться в дом Булоты, где был выставлен гроб: во дворе домика и в сенях толпилось много людей – не только жителей Мариямполе, но и приезжих из Каунаса и других городов, и нам, ребятам, нечего было надеяться протиснуться сквозь толпу в дом и постоять у гроба любимой писательницы, взглянуть на ее лицо.
Улицы Мариямполе заполнила тысячная толпа. Народ из мастерских, с мельницы и лесопилки и мы, гимназисты, выстроившись, побрели к кладбищу. Передавали, что Жемайте, как неверующая, не хотела, чтобы ее хоронили ксендзы, чтобы ее несли в костел. Богомолки шепотом сулили писательнице вечные мученья. Сразу за гробом шагала небольшая группа, в которой узнавали приехавших из Каунаса писателей Вайжгантаса и Венуолиса. Мы видели здесь и нам известного Адомаса Юодасиса и опекуна Жемайте адвоката Андрюса Булоту, похожего на усатого крестьянина. Войдя на кладбище и кое-как пробравшись поближе к могиле, мы увидели множество белых и красных венков. На лентах были надписи:
«Твое имя мы пронесем в веках»,
«Той, что прокладывала тропу в будущее»,
«Певцу горестей и радостей народных»,
«Другу рабочего класса Жемайте»,
«Той, что искала свет во мраке жизни».
У могилы встал Вайжгантас. К тому времени я уже читал его «Просветы», хоть понимал и не все. Вайжгантас был в сутане и стихаре, но говорил он не как ксендз, а как писатель. Над толпой виднелось его румяное, пышущее здоровьем лицо, седая голова. Он просто светился молодостью, энергией, вдохновением. Вайжгантас говорил о Жемайте как о защитнице угнетенных, заступнице бесправной женщины.
– Надо сказать, она никого не щадила, – говорил Вайжгантас высоким звонким голосом, – барин не барин, ксендз не ксендз – всем от нее попадало. Частенько попадало ксендзам за их делишки. Она была великим апостолом нашей свободы, ясным светочем для широких толп бедствующего люда… Поэтому, когда она вернулась из Америки, – продолжал он, – и нашла Литву уже независимой, она не особенно обрадовалась, поскольку мечтала об ином, более совершенном обществе, о других порядках… Она написала несколько томов сочинений, но весь свой век мыкала горе и не оставила никакого имущества… В ее время были иные деятели, не то что сейчас – охотники за теплыми местечками, для которых личные делишки выше дел народа. Литва невероятно скупо вознаградила славную старуху за ее неутомимый и талантливый труд в литературе и общественной жизни. И если бы не помощь добрых людей, приютивших ее, она бы не дожила до этого часа, – так говорил Вайжгантас.
У могилы выступали какие-то незнакомые люди. Но они так глубоко врезались в память, что и сейчас стоят перед глазами словно живые. Душевно, угловатыми фразами говорил Андрюс Булота. Он описал характер писательницы, ее жизнь в его семье, потом рассказал о последних днях ее жизни:
– В бреду она говорила о расстрелах. Особенно тяжело подействовала на нее печальная новость, которой ее встретила Литва: расстрел Смальстиса, ее близкого знакомого. В бреду она повторяла: «Ежели меня не расстреляют, то еще поживу и много чего сделаю».
Адомас Юодаснс, закутавшись в темную пелерину, держал перед собой белый лист и читал:
Взлетает топор, глухо падает – чах!
До ночи рассыплется прах!
То сумрачный стон из холодной земли.
Могильщики руки воздели вдали.
А в конце стихотворения прозвучали торжественные загадочные строки:
– О мама, куда ты от прялки летишь?
– Туда, где железо разрушило тишь!
Где пламенно-храбрым и смерть не страшна —
Туда! – отвечает из гроба она.
Было холодно. Декабрьский ветер качал голые сучья деревьев. Меня пробирала дрожь. В толпе я разглядел друга, который пришел вместе со своим классом. Казис Борута стоял мрачный – в эту минуту им владели те же чувства, что и мною и сотнями людей, столпившихся у могилы…
Гроб опустили в могилу, комья застучали по крышке гроба. Стало тоскливо, как на похоронах родного, дорогого человека.
Позже мы часто приходили на кладбище. И каждый раз останавливались у могилы. На месте многочисленных венков, которые были возложены здесь в день похорон, появился памятник – раскрытая книга.
Так на мариямпольском кладбище осталась писательница, уроженка деревни в другой части Литвы, прожившая долгие годы в Вильнюсе, ездившая по заморским странам, – осталась здесь на вечные времена, окруженная любовью и почитанием новых поколений.
КРОВЬ
Годы бегут, и пыль времени заволакивает события. Мало кто из людей нашей округи помнит трагедию, которая случилась давно, еще в 1920 году. Хотя она меня непосредственно и не касалась, но, насколько помню, волновался я тогда без конца. Вот почему я решил обо всем этом рассказать.
В то время в наших местах было очень неспокойно. Еще в сентябре 1919 года части Польской армии, которые пригласили и содержали местные помещики, заняли почти всю нашу волость. По деревням, где мало кто говорил по-польски, разве что знал фразу-другую, теперь ходили польские солдаты. В наш дом забредали то вооруженные поляки, то литовцы. Часто на нашем или соседском поле хлопали винтовки, а то и тарахтел пулемет.
Никто не знал, какого государства мы подданные, хотя население понимало, что польские солдаты держатся у нас только по милости местных помещиков, и просило бога, чтобы поскорее кончилось такое положение, когда ежеминутно тебе угрожает пуля в лоб. Помню, как я приехал на каникулы из гимназии и ко мне еще затемно пришел кузнец Юозас Бабяцкас с двумя деревенскими парнями. Запершись со мной в избе, чтобы никто не услышал, они втолковывали мне, что во всей этой заварушке виноват владелец трямпиняйского поместья Аушлякас. Он – самый рьяный сторонник польской оккупации, так как боится, что литовские хлопы[63]
разделят его поместье.
– Надо его постращать! – сказал Юозас Бабяцкас, уставившись на меня черными как уголь глазами, сверкающими на смуглом большом лице. – Напиши записочки, чтобы он отсюда убирался, а то… – И Бабяцкас стиснул свой огромный, черный от работы в кузне кулак: – Понятно?
– Понятно… Но записочки писать не стану, – ответил я.
Кто-то все ж написал такие записки, разбросал их вокруг поместья и расклеил на деревьях. Без сомнения, они попали в руки помещику Аушлякасу. Видать, наш барин был не из храброго десятка, потому что несколько дней спустя удрал из наших мест и, как мы слышали, объявился в Сувалках.
Польские солдаты покинули нашу округу летом 1920 года. К этому времени Красная Армия отразила нападение панской Польши и, вышвырнув ее войска с Украины, шагала к Варшаве. Очевидно, Польша нуждалась в солдатах для защиты собственных земель, и оккупанты сами оставили наш край.
Примерно в это время в Любавас вернулся из Америки Йонас Раманаускас, считавший себя поляком, хоть он говорил и по-литовски. Он горделиво расхаживал по местечку, посматривая, как бы не ступить в лужу и не запачкать свои сверкающие ботинки. Курил он душистые сигары, носил шляпу из соломки или велюровую – смотря по времени года. Глядел он смело, даже нагло, всегда был аккуратно выбрит, а на пальцах сверкали золотые перстни с большими камнями. Толковали, что Раманаускас невероятно богат и собирается обзавестись крупным хозяйством или купить дом в Калварии.
Моя сестра Забеле стала уже взрослой девушкой. Она была даже красивей Кастанции, что недавно вышла замуж, так что на нее заглядывались все деревенские парни. Девушка она была веселая, любила петь и танцевать. После войны трудно стало с нарядами – денег не хватало, да и в лавках ничего приличного не было, но моей сестре шло все, что бы она ни надела, и сидело на ней ладно, как бы сшитое по мерке. Пригожее румяное лицо, голубые глаза, стройная высокая фигурка, – казалось, не для нее тяжелые деревенские работы.
И вот однажды она выходила из костела в Любавасе, и ее заметил Раманаускас. Он был старше моей сестры лет на десять. Не знаю, как они познакомились, о чем беседовали, – достаточно того, что с той поры моя сестра не знала покоя.
– Прихожу я, – рассказывала она, – в Любавас по дороге через Скайсчяй, а на краю местечка меня поджидает Раманаускас и уже не отпускает целый день, даже домой провожает. На следующее воскресенье, чтобы его не встретить, иду другой дорогой – через Паграужяй, а он все равно стоит на улице у последних домов местечка с тросточкой, в соломенной шляпе и ждет. И нигде от него не укроешься. Если я не покажусь в местечке, глянь, он верхом прискакал к нам в Трямпиняй. Сразу на стол бутылку дорогого вина, кучу конфет, даже апельсины выложит, а ведь они невесть сколько стоят. Да и продаются только в Мариямполе. Но Раманаускас ни с чем не считается…
В это же время в Любавасе появился служащий литовской пограничной полиции Юлюс Мешлюс, молодой энергичный парень. Полиция эта следила, чтобы через польско-литовскую границу не шла контрабанда, чтобы из Польши в Литву помещикам не переправляли оружие. Свои обязанности Мешлюс выполнил усердно.
Вскоре он познакомился с моей сестрой и, видно, тоже в нее влюбился. И тут между соперниками вспыхнула ревность и ненависть. Иногда в местечке они оба гуляли с Забеле – один справа, другой слева. Мешлюс получал небольшое жалованье, и ему трудно было тягаться в подарках с поляком.
Моя сестра, которой тогда было примерно восемнадцать лет, познакомившись с Мешлюсом, стала избегать Раманаускаса, но тот и не думал отвязываться. Он говорил ей о любви, старался купить ее благосклонность платками и бусами. Сестра отказывалась от подарков. Довольно долго продолжалось это неопределенное положение. Часто в нашей избе сидели за одним столом двое смертельно ненавидящих друг друга. Казалось, только бы искра, и разгорится пожар.
Но обстоятельства сложились совершенно неожиданным образом. Однажды Мешлюс тайком сказал моей сестре, что он получил приказ арестовать Раманаускаса и доставить его в Мариямполе. Оказалось, что тот один или с сообщниками ограбил в Америке какой-то банк и сбежал в Литву. Американские власти установили виновников и в конце концов напали на след Раманаускаса.
И вот Раманаускас арестован. Дня два он сидел в любавасской кутузке, а потом его переправили в Мариямполе и там упрятали в тюрьму.
Любавас и вся округа, разумеется, терялись в догадках, почему арестован Раманаускас. Многим казалось, что Мешлюс, используя свою власть, засадил его в тюрьму, чтобы убрать с дороги. Прошла неделя, а то и две, и вот мой брат Юозас встречает в Мариямполе на рынке Раманаускаса, разгуливающего на свободе. Раманаускас говорит, что Мешлюс его арестовал беззаконно – мол, тот ненавидит его как поляка, а вдобавок и как своего соперника. Раманаускас ведет моего брата в лавку и, несмотря на его протесты, покупает ему добротную шляпу, а сам берет ящик апельсинов, несколько бутылок вина, дорогих папирос для себя, и брат везет его домой.
Раманаускас снова является к нам и, усевшись за столом в горнице, потчует всех, а Забеле шепчет на ухо, что перейдет демаркационную линию и поселится в Польше, а потом и ее переправит к себе, и тогда они поженятся и заживут барами.
Моя сестра еще раз чистосердечно говорит ему, что его не любит и за него не пойдет. Но Раманаускас не может себе представить, чтобы он и его деньги не соблазнили девушку. Он прощается и, не показавшись в Любавасе, исчезает из наших мест.
Вскоре выяснилось, что в мариямпольской тюрьме Раманаускас виделся с братом и сестрой, жившими в Любавасе. Неизвестно, то ли он имел деньги при себе, то ли их доставила из дому родня, – во всяком случае, он подкупил надзирателей, а то и самого начальника тюрьмы, и тот его выпустил на волю. В те времена, когда после военной разрухи еще не устоялся порядок, не трудно было проделать такую штуку.
В Любавас снова пришла бумага о том, что разыскивается преступник Раманаускас, но того и след простыл. Дознались только, что он перешел демаркационную линию и живет где-то на той стороне, тем более что у него там была куча родных.
Границу тогда переходили без труда, так что какое-то время спустя Мешлюс, оказавшись по делу в деревне Палюбаве, увидел, что в Шешупе, у нашего берега, купается Раманаускас. Мешлюс был не один, и он легко задержал своего соперника и доставил его в Любавас.
Здесь повторилась прежняя история – Раманаускас угодил в ту самую кутузку, в которой сидел перед мариямпольской тюрьмой.
Обрадовавшись, что так удачно поймал разыскиваемого преступника и вдобавок своего врага (Мешлюс по-прежнему встречался с моей сестрой и видел, что девушка все больше благосклонна к нему), пограничник сообщил о случившемся и получил приказ доставить Раманаускаса в Калварию.
В одно прекрасное летнее утро он сел в подводу, посадил рядом Раманаускаса, на всякий случай крепко связав ему сзади руки, и отправился в Калварию. Когда от каменного дома волостной канцелярии они повернули в Кладбищенскую улочку, возница сказал, что хочет остановиться у своего луга и взять на дорогу свежей травы, которой накосил еще затемно, собираясь в дорогу. Подвода остановилась у кладбищенских ворот. Возница, обкрутив вожжи вокруг стойки, выскочил из телеги. Видно, это был условный знак. Из ржи высунул голову брат Раманаускаса. Мешлюс и опомниться не успел, как его оглушили каким-то твердым предметом и повалили на повозку. Брат развязал руки арестанта. Заметив, что Мешлюс еще жив и пытается сесть, Раманаускас вытащил револьвер из его кобуры и несколько раз выстрелил ему в голову. Говорят, на все это издали смотрела сестра Раманаускаса, хотя сама и не помогала убивать.
После этого убийства Раманаускасам пришлось как можно скорее удирать в Польшу. Раманаускас знал все тропы, ведущие на ту сторону, и его никто не задержал. Не остановили и его родных.
Убийство Мешлюса потрясло всю округу. Многие знали покойного и уважали его за обходительность, за то, что он, хоть и мог, не грабил людей. А Раманаускасы давно пользовались дурной славой. Люди они были корыстные и слишком возомнили о себе самих. Они вечно цапались с соседями из-за огородов, из-за пастбища для коровы и прочих мелочей, из которых складывается житье-бытье маленького местечка.
Смерть Мешлюса переполошила и наш дом. Все косились на Забеле, словно она была всему причиной. Забеле плакала – ведь она любила Мешлюса и собиралась за него замуж. А теперь все кончено, только пересудам и всяким нелепым слухам не было конца…
Между тем трагедия, начавшаяся у любавасского кладбища, еще не окончилась. Пограничники решили отомстить за смерть своего начальника. И вот однажды летней ночью пятеро или шестеро солдат, установив через лазутчиков и осведомителей место жительства Раманаускасов, ползком пересекают демаркационную линию. Они спокойно проходят одну, потом другую деревню. Все спят, даже пес не залает, – по правде говоря, собак почти не осталось после войны, ведь и на польской стороне побывали немцы…
Уже светало, когда они подошли к цели своего путешествия и нашли нужную усадьбу. Встреченный лазутчик сообщил, что Раманаускасов еще нет – была ночь с субботы на воскресенье, и братья с сестрой еще не вернулись с деревенской вечеринки. Солдаты легли в поле ржи у сада, а несколько из них спрятались в самом саду. Посреди сада стояла деревянная будка, в которой летом спали оба Раманаускаса. Сестра ночевала в клети у крестьянина.








