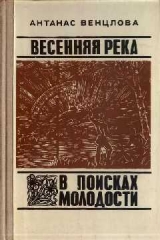
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 43 страниц)
А теперь я как большой иду в школу. Школа устроена в уцелевшем доме органиста Грудзинскаса, в двух комнатах. Сюда уже приволокли откуда-то школьные парты, доску. Когда я впервые открыл дверь, меня встретили взгляды десятка детей. У окна стоял высокий, красивый учитель. Он громко спросил меня:
– Новый ученик? В школу пришел?
– Да, господин учитель, – смело ответил я.
– Что-нибудь умеешь?
– Умею читать.
Учитель подал книгу для чтения и, не глядя, открыл:
– Читай!
Я читал про странного человека, которого называют сутужником. Этот человек ходит по дворам и кричит: «Горшки сутужить! Горшки сутужить!»
Никогда я не видел такого странного человека и не понимаю, что это такое – сутужничанье.
– Хватит, – сказал вдруг учитель, едва я только вошел во вкус. – Читаешь хорошо, только тихо. Ори так, чтоб весь класс слышал… А писать?
– И писать немножко умею…
Он махнул в сторону доски. Я смело взял кусочек мела.
– Напиши: «Я хочу хорошо учиться». Я написал.
– Еще напиши: «Единственная корова еще не доена». Оказывается, я сделал несколько ошибок. Подойдя к доске, учитель поправил меня.
– Пустяк, – сказал он, явно довольный. – Почему тут надо писать иначе, узнаешь потом. А теперь иди и садись за ту парту, к Жилинскасу. Будешь учеником второго класса.
Я был страшно доволен, что сразу стал учеником второго класса и буду сидеть с таким большим парнем, на голову выше меня. Учитель дал мне книгу для чтения, две тетради, грифельную доску, вставленную в некрашеную деревянную рамку. Никогда я еще такой доски не видел, она мне очень понравилась. К доске полагался грифель с заостренным концом. На рамке дырочка, через нее протянута красная нитка, на нитке болтается крохотная подушечка.
– Для чего это? – тихо спросил я Жилинскаса.
– Стереть, если плохо написал.
Мы тотчас переписали на свои доски то, что учитель написал на классной. Он проверил ошибки. Затем мы стерли написанное. На следующем уроке считали, сколько будет два и десять, два и двенадцать, сколько будет, если от восемнадцати отнять семь. Все это казалось мне легким и понятным.
Потом урок немецкого языка. Я уже знал такие слова, как Mutter, Wasser, Eier, Brot[30]
и другие. Нам надо было выводить немецкие буквы. Это не так-то просто: буквы у немцев с острыми углами, а некоторые еще со странными завитушками. Мы все писали и писали немецкие А и В, а они все какие-то кривые, некрасивые.
Потом читали из «Фибеля»:
– Ich lese. Ich schreibe…[31]
…Надо ли говорить, что теперь я самый счастливый человек на свете? Я снова ученик, каждый день я становлюсь все умнее, все ученее. Бывает, просыпаюсь ночью и кричу из чулана:
– Мама! Мама!
– Спи, спи, чего тут? – сонно откликается с кровати мама. – Недавно ведь еще заснули.
– Вставать не пора? Я в школу опоздаю.
– С ума сходит этот ребенок… Ночь еще, самый сон…
Я вроде засыпаю, но вскоре опять:
– Мама! Мама!
– Опять этот ребенок не спит, – вздыхает мама. – Ночь еще, темень кромешная…
А мне все чудится, что я опоздал, вхожу в школу, а все уже после молитвы и пишут или читают. Учитель взглянет на меня с удивлением и злостью, выбранит, а то и домой прогонит, велит явиться родителям, как он поступает с лодырями и теми, кто пропускает уроки.
– Мама! Мама!
Мама наконец встает.
– Истинное горе, что нету часов… – говорит она. – А вроде еще рано. – Мама подходит к окну. – На востоке-то едва брезжит.
Я уже встал. Мне холодно. Я дрожу, пока не натяну одежонку из домотканой пестряди. Ничего потеплее мама не сумела мне сшить. Мама растапливает печь, говорит мне, чтоб еще не умывался, а подождал, пока она воду согреет. Но в школе нам сказали, что настоящий ученик не должен бояться холодной воды. На табуретке стоит большой эмалированный таз. Зачерпнув из стоящего в углу ведра, наливаю в этот таз две большие кружки воды и сую туда пальцы. Вода обжигает руки и лицо, но мне все нипочем. Фыркаю, как делает папа, когда моется, обтираю руками заспанные глаза и нос. Хоть учитель велит мыть и уши и шею, это откладываю на другой день: вода и впрямь слишком холодная…
– Просто ума не приложу, что с этим ребенком делать, – говорит мама тете Анастазии, которая тоже встала. – Ничего не ест, хоть ты его живьем в землю зарывай… Слава богу, масла льняного получила бутылочку от Кярялявичене да картошки полмешка, хоть оладьи картофельные могу испечь…
Быстро съедаю несколько оладий и кусок черствого, невкусного хлеба.
– Ешь, ешь, проголодаешься ведь! – уговаривает мама, она принесла из кухни целую сковородку горячих оладий.
– Некогда, – говорю. – Съем на ходу.
Натягиваю пальтишко, на спину надеваю ранец с книгами.
– Подожди, платком уши обвяжу, еще отморозишь, – идет ко мне тетя со своим платком.
– Будто я баба?! – защищаюсь я от тети. – На кого я буду похож?
– Ты не смотри, на кого ты будешь похож, а смотри, чтоб не замерзнуть… – снова уговаривает мама.
Но я уже не слушаю. Взяв в руки миску с оладьями, иду в дверь. Во дворе съедаю еще несколько штук, а остальные вместе с миской сую под куст в саду. «По дороге из школы занесу миску в избу», – думаю я.
Все это повторяется каждое утро. На самом деле странно, что мне так не хочется есть. А возвращаюсь уже под вечер, иногда даже в сумерках, дни-то ведь все короче и короче. Да и вернувшись, съем ложки две вареного гороха с капустой, и все – больше не могу, ничего не хочется…
– Не знаю, сколько ребенок так выдюжит. Ведь от такой еды ноги заплетаются. Чем он жив, ума не приложу, – не раз приговаривала мама.
В нашем чулане лежал больной отец. Это повторялось каждую зиму. У него страшно болела нога – на голени была небольшая ранка. От боли отец стонал так, что, по словам мамы, слышать было жалко. Иногда эта ранка почти затягивалась, а иногда из нее сочился гной с кровью. Отец корчился от боли, неделями но вставал, ничего не мог делать. Лечил он свою ногу мазью, смешанной из воска, сосновой смолы и еще каких-то снадобий. Когда пришли немцы, он ходил, опираясь на палку. Мы сами не знали, оттого ли, что нога разболелась, или он боялся, чтобы немцы не угнали его на работы, как мужиков из Будвечяй и других деревень.
Теперь он снова лежал в кровати, накрывшись латаным одеялом, и до того жалобно стонал, что я, уходя в школу или вернувшись, едва сдерживал слезы. Он подзывал меня к себе, расспрашивал про ученье. И был доволен, когда я показывал ему тетради, книги, рассказывал, что объяснял нам учитель, что задал.
– Хороший учитель Юлюс Бутаускас, – говорил отец. – Не заносчивый, и голова у него светлая. Он меня уже донимал, чтоб я пустил тебя в гимназию, говорит, в Мариямполе скоро откроется.
Я не знал, что такое гимназия, но если наш учитель говорит, значит, это дело стоящее… И я очень просил отца послать меня в гимназию.
– Послать-то послать, – рассуждал отец. – Но на какие шиши? И раньше ведь не по-барски жили. А германец нас совсем обобрал. Слава богу, еще дом цел, не надо, как другим, в землю зарываться… В гимназии и одежа нужна получше, и квартиру надо снимать, и за ученье платить, опять же еда…
– Ах, все ведь говорят, что ребенок к ученью способный… Да и сами видим, не слепые же, – прерывала отца тетя Анастазия. – Всем бы честь была да перед богом заступничество, коли бы в ксендзы вышел… Да вот, нашего ли разума дело, Тамошелис…
Отец задумывался, но ничего не отвечал тете. Мама тоже сомневалась в моем будущем:
– Блюджюсам из Скардупяй не диво детей в ученье отпускать, – говорила она. – И город под боком, и живут побогаче… А где уж нам!
А я учился все старательней… Я не знал, как там, в Мариямполе, что это за гимназия, но она манила меня, как земля обетованная…
И я каждый день шагал в школу. Выходил обычно еще затемно. Только у тополей трямпиняйского поместья, у дремлющей в снегах, потрескивающей голыми сучьями деревьев Часовенной горки, на востоке обычно занималась холодная сиреневая заря.
Иногда день рассветал без солнца, словно застланный серым молочным туманом, набухавшим меж кустов и деревьев в трямпиняйском овраге. Ручей внизу замерз. В этом овраге очень страшно. В памяти оживают рассказы о разбойниках. Я плетусь через него, кажется, даже не дыша, обливаясь холодным потом. А вдруг натолкнусь здесь на волка или на целую стаю… Где-то я читал, что зимой волки бегают прямо полчищами, голодные, хватают все, что подвернется.
Однажды, когда я вышел из дому, поднялась метель. До поместья я еще кое-как добрался, а дальше началось такое, что исчезли и небо и земля… Шел я в эту метель все дальше и дальше, сперва дорогой, а потом напрямик по полям. Снег с горок сдуло ветром, и ноги только скользили. Зато в лощинах клумпы с верхом черпали снег. Пройдешь несколько шагов, остановишься, вытряхнешь, а через минуту снова полны. Студеный ветер проникал в каждую щелку худой одежонки и огнем обжигал руки, лицо, ноги. Потом я чуточку отогрелся, воюя со снегом, оттирая щеки, уши и нос, вспомнив советы нашего учителя, как поступать в подобных случаях.
Казалось, не было конца белым заснеженным полям, утонувшим в белой вьюге. Куда я иду? Где дорога? Мне стало страшно жалко себя. Вдруг никогда не выбраться из этих полей… Никогда меня больше не увидят ни мама, ни братья, и я их…
Спотыкаясь, я брел по какому-то туманному лугу, на краю которого я разглядел в снежном вихре серые прутья вербы. Зашел за незнакомый дом, где метель вроде была потише. Через двор подошел к избе, и в окне сверкнул огонек…
– Откуда же ты, сынок? – встретила меня в избе едва вставшая, заспанная, закутанная в платок женщина. – Неужто из дому выгнали? Пес и тот по такой метели не пойдет…
– В школу, в Любавас… – с трудом пролепетал я.
В избе было холодно. На припечке мерцала тусклая керосиновая лампочка. Женщина совала в печь хворост, и вскоре занялся жаркий огонь.
– Пододвигайся, сынок, поближе к огню, промерз ведь до костей! – ласково говорила женщина. – Ну и родители же у тебя, скажу я, просто сердца нет у них… Выпустить ребенка из дому в такую метель…
– Это не родители, – попытался оправдать я отца и маму. – Мои родители хорошие… Я сам… Меня пускать не хотели…
– Ах, что и говорить!.. И все этого ученья мало… А что из него получается? Германец-то ученее русского, а, гляди, сынок, какой зверь… Ни взрослых, ни детей не жалеет – сколько народу погубил, подумать страшно… И теперь все с голоду из-за германца пухнем…
Я грелся перед огнем, но по-прежнему зяб. Страшно заныли голени, с которых при ходьбе сползли онучи. Согрев ноги у огня, я переобулся и крепко обкрутил онучи оборами.
Когда я пришел в местечко, школа еще была на запоре. Вставший недавно сторож тащил охапку дров, собираясь топить печь.
НОВЫЙ МИР
До весны в школе набралось немало учеников – мы едва умещались в двух комнатах дома органиста. Ученье мне давалось легко. Читал я, как все говорили, словно орехи щелкал, писал и считал тоже неплохо. Лучше всех в классе мог продекламировать «Взгляни, прохожий, в долине – Вильнюс». Почему-то всякий раз, когда я начинал читать эти стихи Майрониса,[32]
сердце у меня билось сильнее – так мне нравились торжественные, звонкие, столь красиво сплетенные слова.
И отец, и тетя Анастазия когда-то побывали в Вильнюсе. Из наших мест тянулись паломники в знаменитые вильнюсские Калварии – часовни с изображением крестного пути Христа. Хоть отец был не из рьяных в делах веры и лишь после постоянных маминых понуканий с трудом собирался раз в год к пасхальной исповеди, он, надо думать, когда-то пристал к толпе богомольцев и таким образом добрался до Вильнюса. Это было большое событие по тем временам.
Тетя, вернувшись, долго распространялась про часовенки Калварий и образы, перед которыми она тысячи раз сотворила молитву и спела сотни псалмов, зато отец рассказывал совсем о другом. Теперь я мало что помню из его рассказов, не забыл только, что он где-то слышал выступление писателя Юозаса Тумаса[33]
и что его повели в какую-то редакцию или типографию, «где делают газеты». Все это он часто вспоминал; видно, эти события были значительными в его жизни.
Весной, перед уроками, а иногда и во время уроков, учитель выводил нас во двор. Там мы делали гимнастику. Это было новое для нас дело, о гимнастике раньше не слышали ни в одной школе.
Потом он отвел нас на участок бывшей школы, где мы, как кто умел, заступами и лопатками копали землю, делали грядки, сеяли и сажали на них овощи. Тут же черпали воду из уцелевшего школьного колодца и поливали рассаду. Потом рассаду пересаживали более просторно и снова поливали.
Было радостно видеть, как тянутся вверх наши капуста, салат и свекла, как вокруг воткнутых в землю жердочек вьется фасоль и хмель. На краю огорода поднимались крупные подсолнухи, невиданные в наших краях. Мы не могли дождаться, когда снова пойдем в школьный огород полоть и поливать овощи. Сам учитель работал вместе с нами и говорил нам, чтобы мы и дома завели каждый по грядке и ухаживали за ней, пока овощи не созреют. Многие из нас последовали этому совету.
Зная, что мой отец – завзятый пасечник, учитель стал захаживать к нам в Трямпиняй. Для нашего дома была большая честь, что такой человек, как учитель, бывает у нас. Но женщины страшно боялись, как бы он нечаянно не застал захламленную избу, засиженный курами стол, раскиданную по двору солому, а женщин и нас, детей, немытых и оборванных. Посещение учителя, как и приезд ксендза с колядой, заставляло всех подтянуться, прибраться.
Учитель битые часы толковал с отцом о том, как делать новомодные ульи, как усовершенствовать центрифугу. Разговаривали они и о другом – о том, что в России свергли царя, что там будет другой порядок, что войне скоро конец. Немного я из этих разговоров слышал, мало понимал, но мне было ясно, что на всем свете творятся новые, интересные, даже необычайные дела.
Учитель каждый раз, встретив отца в местечке или явившись к нам, заводил разговор все о том же, что меня так волновало.
– Не дает он мне покою, и все, – говорил и отец, посасывая трубку, из которой шел невероятно вонючий дым, – как и наши соседи, отец курил теперь сушеные вишневые листья и мох, вытащенный из щелей меж бревен. – Говорит, надо этого ребенка в Мариямполе пускать, и дело с концом. Слыхали, уж Янушявичюсов Антанас из Эпидямяй в городе, в гимназии учится. Говорят, ему наш ксендз помогает…
– Как не помочь! – откликнулась тетя. – Святое дитя этот Антанас. Сколько раз видела, как ксендзу у алтаря прислуживает! Как затрезвонит перед алтарем колокольчиками, ну, просто сердце тает…
– Что ж, пускать так пускать, – снова рассуждал отец. – Жеребенка завели, подрастет, как-нибудь поле продерем. И телка, слава богу, есть, скоро молоко свое будет. Никто даром ничего не даст. А гимназия – страшное разоренье. Тут и с сумой пойти не долго…
– Пустите, пустите, папенька, я очень прошу… – снова упрашивал я отца. – Янушявичюсы ведь беднее нас, а Антанас… Я так буду учиться, так буду учиться, вот увидите…
– Верно, Тамошюс, жалко на ребенка смотреть, – откликалась мама. – Просто дрожит, до того в эту гимназию хочет… Может, опять разживемся, дети будут побольше – не весь же век горе мыкать…
Так, бывало, судят да рядят чуть не каждый вечер. И наконец учитель, оставив меня после уроков, сказал:
– В школу больше не пойдешь. Будешь приходить прямо ко мне на дом, знаешь, где я живу, после уроков. Буду тебя готовить в гимназию, понял?
– Спасибо, господин учитель, – едва не заплакал я от радости и поцеловал ему руку.
– А ты запомни такую вещь: руку надо целовать только женщинам – своей матери и другим, пожилым. Мужчинам руку целовать не пристало! Ну, отцу еще можно, а другим – фу! – сказал учитель и рассмеялся, но, заметив, что я покраснел, произнес: – Это чепуха, конечно! Главное, что твои родители дали согласие. Теперь, парень, берись за науку еще горячее…
На следующий день, перед полуднем, хоть мне и было велено явиться лишь после обеда, я уже сидел в единственном уцелевшем каменном доме местечка. На одной его половине находилось волостное правление и жил немецкий жандарм, а на другой – учитель с семьей. Дверь мне открыла миловидная молодая женщина, жена учителя.
– А, это новый ученик? – сказала женщина и улыбнулась своим полным лицом. – Слышала, слышала. Вот, посиди тут, пока учитель не придет. Смотри не шуми – наша Дануте хворает, только что заснула…
Я долго сидел у письменного стола, на котором стопками были сложены ученические тетради. Тут же стояли пузырьки красных и черных чернил, в высоком стаканчике – острые карандаши. В конце стола высилась кипа книг, совершенно новых, еще не читанных никем. В углу на столико стоял глобус. Вообще от этой комнаты веяло чистотой, какой-то добротой и спокойствием.
Теперь я выходил из дому гораздо позже. Была весна, все зеленело, цвело. Щебетали птицы на помещичьих тополях, на Часовенной горке, в трямпиняйском овраге. Мир заполнила красота. Мне казалось, что война, свист снарядов, раненые и мертвые, пожарища, озаряющие ночью далекое небо, – все это осталось где-то далеко, а может быть, и не было вовсе. В Любавасе, правда, еще живет немецкий жандарм, но и он как-то изменился. Хоть и ездит иногда верхом по деревням, люди его больше не боятся – все видят, что его власти скоро конец, что он, как осенняя муха, доживает последние дни.
А меня обуял пыл ученья. Я зубрил теперь арифметику и географию, учил немецкий язык, писал диктанты и пересказы. Задания учителя я старался выполнить как можно лучше. Видя, что я легко справляюсь с уроками, учитель позволил мне брать домой книги из той кипы на его столе. Очень любил я листать толстую, изданную в Америке «Географию», где были изображения белых и чернокожих, дикарей с перьями на голове и с лошадиными хвостами, ледяных гор, плавающих в море, курящихся вулканов… Эта книга, сохранившаяся у меня дома, настолько зачитана, что ее засаленные, почерневшие страницы еле держатся, вся она распухла.
Найдя где-то руководство по переплетному делу, Пиюс смастерил какой-то пресс, наварил из муки клейстеру и пробовал переплетать книги. Увы, книги из-под пресса выходили косые, страницы, кое-где перепутанные, с трудом раскрывались, а клейстер не держал.
Однажды я получил от учителя «Хижину дяди Тома». Это была не толстая, но большая книга с замечательными картинками. Стоит ли говорить, что дома, когда я ее читал, плакали все, жалея бедного черного Тома. Мне так она понравилась, что я начал ее переписывать и в конце концов всю переписал.
Теперь я снова читал те книжки, что когда-то слушал у отца: «Сноху», «Пятраса Курмялиса», «Ксендзово добро чертям впрок шло» Жемайте,[34]
книги Лаздину Пеледы,[35]
Шатрийос Раганы[36]
и волшебный «Аникщяйский бор» Баранаускаса.[37]
Все эти книжки я брал в руки как что-то святое. Читал я их чаще всего, шагая домой по дорогам и полям – через скайсчяйское поместье, через Деревню Эпидямяй и через знакомые сызмальства поля трямпиняйского поместья и нашей деревни.
Все, что было в этих книжках, все, что я нашел в книге «Чтений», изданной в Вильнюсе, словно превращало меня в другого человека. Сотни новых картин, о которых я раньше не имел понятия, волновали меня, снились по ночам. Я постоянно возвращался мыслями к «Проклятым монахам» Венуолиса,[38]
к несчастной Веронике, которую так жестоко оттолкнули и погубили злые люди… Охваченный непонятной радостью, повторял стихи Май-Рониса, полные невыразимого очарования:
Сентябрь на исходе. И не торопясь
Без ветра летит паутина.
По небу осеннему, к югу стремясь,
Проносится клин журавлиный…
А солнце уже улыбается так,
Как будто прощается с нами…
Рядом с миром настоящим вырастал, окружал меня иной, удивительный мир, уложенный в книги неизвестными чародеями…
Я заболел какой-то нетяжелой болезнью и несколько дней не ходил к учителю. Эти дни я не забуду никогда. Перед тем я взял у учителя толстую книгу о Робинзоне. Уже первые страницы книги так увлекли меня, что я, лежа в кровати, отказывался от еды и питья. Помню, несколько дней я читал эту книгу и отрывался от нее, лишь когда темнело и ничего нельзя было разобрать.
Лежа в темноте, я заново переживал прочитанное за день. Я воочию видел море и остров, на котором жил этот необыкновенный Робинзон, видел и его – отважного, ловкого.
Мне казалось, что и я раньше или позже попаду на такой остров и буду жить под высокими пальмами в маленькой хижине, слушать неумолкающий гул прибоя, кормиться кокосовыми орехами, козьим молоком, земляникой, малиной и другими ягодами, которых летом полно в наших оврагах и кустах… Потом, сидя на высоком утесе, я издали увижу корабль. Он подплывет к острову и привезет меня домой, в нашу избу… А здесь меня с нетерпением будут ждать и отец, и мама, и тетя Анастазия, и Кастанция, и Забеле, и братья, не только старшие, но и Пранукас, и маленький Казукас, даже самая маленькая Аготеле, которую качает Пранас, но покачать которую, когда есть время, не отказываюсь и я…
Это были удивительные дни. И я уже тогда понял, что самое большое счастье – радоваться миру: тому, что нас окружает, и тому, который заколдован в книгах. И чем больше я жил, тем яснее становилось, что этот второй мир, мир книг (к нему позднее добавились картины и музыка), не меньше настоящего, что он поразительно многолик и красочен, что в нем, как и в мире настоящем, люди смеются и плачут, радуются и страдают, любят и ревнуют, мечтают и стремятся к счастью. Я не знал тогда, что такое счастье и можно ли его достичь, но уже ждал его. Казалось, непременно случится что-то радостное, очень важное, что определит всю мою жизнь. Днем и ночью я жил этой надеждой…
Семь летЭКЗАМЕНЫ
Первая ночь вдали от дома была беспокойной. С вечера я долго ворочался на жестком диванчике, прислушиваясь к посвистыванию и похрапыванию моей хозяйки барышни Морты. Морта – мамина подруга юности. Вот почему она приютила меня у себя в маленькой чердачной комнатке на несколько дней, пока я буду держать экзамены.
Проснувшись, я увидел комод, на нем стояли гипсовый кот и будильник. Будильник давно уже не ходил. В чердачное окошко глядело теплое летнее солнце.
– Проснулся, значит, сынок, – сказала барышня Морта. – А я в костел уже успела сбегать…
Сообразив, что мне надо встать и одеться, богомолка скромно вышла за дверь. В комнатке оказался таз с водой, на спинке стула висело чистое полотенце, а около таза лежал кусочек мыла.
Вскоре я сел завтракать. На тарелке был нарезанный тонкими ломтиками сыр, что дала мне в дорогу мама, в неглубокой масленке – масло.
– Ты чайку попей, – сказала Морта, по-матерински глядя на меня. – Чаек у меня целебный – из ромашки. Сама ромашку в то лето собирала, как на родину ездила, в Видгиряй, где мы с твоей мамой вместе в девках ходили. А вот и цакарину малость осталось, – она положила передо мной несколько крохотных таблеток сахарина.
И во сне и наяву я ни на минуту не забывал, что сегодня самый важный для меня день. Об этом дне говорил учитель Бутаускас, провожая в город. Как сейчас вижу, он – высокий, серьезный подал мне, как равному, руку и сказал:
– Главное – спокойствие, не волнуйся, а перед тем, как ответить, сперва подумай! Хладнокровие на экзаменах, братец, – половина успеха…
Он похлопал меня по плечу, и я отправился домой, все время раздумывая, как бы сохранить на экзаменах это пресловутое хладнокровие.
Всю ночь снились тревожные сны – незнакомые места и люди, дома, из которых я никак не мог выйти, заколдованные комнаты, вроде калварийских лавок, опустевших за войну.
Намного раньше, чем нужно, я вышел из комнатки барышни Морты, прогремел вниз по невероятно крутой лестнице и выбежал на улицу. Улочка узкая. По обеим сторонам выстроились чистые одноэтажные деревянные домики с мезонинами. Меж домов разрослась сирень, акация, попадались вишни и даже яблони. Мне даже показалось, что я в родной деревне.
Всего лишь вчера отец привез меня в город. Дорогу в гимназию я уже знал – мы ходили туда, когда отец носил в канцелярию прошение, чтоб меня допустили к экзаменам.
Я шагал по знакомой улице, озираясь по сторонам, держа в руке свернутые в трубочку листы бумаги, перо и пузырек с чернилами. Слева, залитые утренним солнцем, высились высоченные белые башни костела. Через несколько шагов меня остановила большая витрина фотографа. Такой я не видывал ни в Любавасе, ни в Калварии.
Каких только фотографий там не было! Молодые парни и девушки сидят в лодках и гребут. Другие взобрались в нарисованный автомобиль и держатся за руль. Третьи отважно скачут на нарисованных конях.
Но одна фотография показалась мне особенно занимательной. Молодой парень стоит на коленях, подняв руки, а другой с веселой улыбкой приставил к его груди револьвер. На земле, перед стоящим на коленях парнем видна табличка, на ней написано мелом: «Если знаешь наверняка, что я виноват, – убей!» Трудно было поверить, что это на самом деле: мне сразу же показалось, что парни лишь шутят так жестоко друг над другом…
Лавки были еще закрыты. Над ними – немецкие вывески. На Варшавской улице слонялись немецкие солдаты. Странное дело – ведь люди говорят, да и «Летувос айдас» пишет, что Литва с весны независимое государство. Но вот идут и два литовских милиционера. Такие точно милиционеры вчера на мосту остановили нашу телегу и стали шомполами тыкать в солому. Отец сердился – чего они лезут, куда не надо, но боялся слово сказать, наверное, чтоб не арестовали, а то и чего хуже не сделали. Милиционеры были в штатском, только с винтовками через плечо. Они говорили, что у нас и в других телегах ищут первач. Так называли водку, которую гнали дома.
– Будто не видите? – в сердцах говорил отец. – Ребенка в гимназию везу! Какой тут вам первач!
– Замолчи! – прикрикнул милиционер в фуражке набекрень, видать выпивший. – Не только первач нынче возят!.. Вчера большевистского начальника из Калварии, спрятанного в соломе, сюда переправили…
– Ну и как, поймали его? – спросил отец.
– Поздно дознались… Теперь ищи-свищи… – уже любезнее стал рассказывать милиционер.
Ни солдат, ни милиционеров я теперь совсем не боялся. По правде сказать, и они мною не интересовались.
Над городом плыло теплое утреннее солнце. По улице грохотали тяжелые немецкие повозки, запряженные сильными лошадьми. Отец называл таких лошадей бельгийскими.
Подойдя к зеленой, но уже полинявшей ограде, я увидел за ней в глубине просторного двора знакомый длинный двухэтажный белый дом. В открытую калитку я снова вошел в этот двор. Дом казался мне торжественным и прекрасным. Я уже читал где-то, что здесь учились Йонас Басанавичюс и Винцас Кудирка. Неужели и на мою долю выпадет такое счастье – учиться здесь, в этом самом доме?
Дверь гимназии уже открыта. Но лишь через полчаса в нее толпой повалили экзаменующиеся. Высокий рябой рыжий паренек подошел ко мне во дворе, подал, как большому, руку и представился:
– Стадальникас. А ты?
Я назвал ему свою фамилию. Видно, здесь так заведено.
– Экзамены держать?
– Да, экзамены.
– В какой класс?
– Во второй.
– Я тоже во второй. Знаешь что, давай сядем за одной партой на письменном.
– А письменный будет?
– Дурак! Сам ведь несешь чернила и бумагу! Зачем спрашиваешь? На дверях учительской вывешено расписание. Не видал? Там все экзамены перечислены. Пошли!
Схватив меня за руку, он потащил к двери. Да, верно. Все написано, когда какой экзамен и в каком классе.
В вестибюле гимназии потолок подперт белыми столбами. Длинные коридоры, по обеим сторонам двери со стеклом, в коридорах галдят ученики. Некоторые пришли с родителями. В коридорах жарко, душно, пол не высох после мытья и пахнет дешевым мылом.
Тренькает колокольчик. Мы с новым другом входим в класс. Здесь похоже на нашу школу в Любавасе, только комната куда выше и больше. Хочу занять переднюю, еще свободную парту, но Стадальникас хватает меня за руку и тащит дальше.
– Не будь дураком! – говорит он. – У учителя на виду ничего не спишешь. Я уже в прошлом году сдавал – все знаю, меня не проведешь.
Мы занимаем места за последней партой, хоть я и не понимаю, что и как мы будем списывать. В класс входит молодой строгий учитель и вызывает нас по списку. Я даже вздрогнул, услышав свою фамилию. Учитель велит нам написать наверху листа имя и фамилию, а чуть ниже «Диктовка». Когда мы с этим справляемся, учитель, обойдя парты и проверив, все ли мы написали, принимается диктовать. Диктует он как-то странно, растягивает краткие гласные, коротко произносит долгие – как будто нарочно хочет запутать.
Мне-то ясно, как надо писать. Не зря, словно зная, что именно понадобится мне на экзаменах, учитель Бутаускас еще в Любавасе заставил меня вызубрить правила правописания. Хотя теперь учитель и произносит все слова по-другому, я, не колеблясь, пишу все как полагается. Стадальникас пихает меня локтем:
– Осел! Что ты пишешь? В мою тетрадь смотри!
Я знаю: так поступать дурно, но все равно украдкой кошусь вправо и вижу, что Стадальникас уже сделал две ошибки.
– Исправь! – тихо говорю я ему. – Ты две ошибки сделал…
– Сопляк! – бросает мне Стадальникас.
А учитель диктует дальше. И тут я четко знаю, как пишутся эти слова. Через минуту Стадальникас снова пихает меня:
– Как ты пишешь, теленок несчастный?! Ничего не смыслишь! Кол схватишь!
Я снова кошусь на тетрадь Стадальникаса и снова вижу – целых три ошибки сразу.
– Нехорошо, – говорю я ему.
– Что нехорошо? – шепчет он мне.
– Опять у тебя ошибки.
– Осел! – возмущается Стадальникас. – Нечего меня путать. Я-то знаю, как писать…
Диктовка кончается. Учитель собирает наши листки и выходит. Стадальникас показывает на меня и вопит:
– Такого барана в жизни не видел. Кол схлопочет, чтоб меня мешком по голове ударили!
На диктовке по немецкому Стадальникас сидит уже за другой партой. Я спрашиваю, почему он пересел, и он грубо отрезает:
– Знаешь, братец, с баранами лучше не связываться…
Он показывает на меня своему новому товарищу по парте и хихикает, пока в класс не входит учитель немецкого языка.
Потом мы решаем на доске арифметические задачи, показываем на карте, где Европа, Африка и Германия. Вопросы вообще-то не трудные. И я все думаю, что главное – сохранять хладнокровие, как советовал учитель Бутаускас.
Кажется, недурно удалось мне ответить и по литовскому языку. Вершиной всего оказалась декламация. Читал же я давно полюбившееся мне стихотворение Майрониса «Взгляни, прохожий, в долине – Вильнюс…». Вспомнив слова своего учителя, что декламировать надо внятно и громко, я вопил во всю глотку. С явным удовольствием слушали меня учитель, что давал нам диктовку, и какая-то красивая барышня учительница. Оба они почти сразу закричали: «Хватит, хватит!», и я вдруг остановился, прочитав, кажется, всего две строфы. Как на грех, еще в школе меня вечно прерывали, едва я только входил во вкус.








