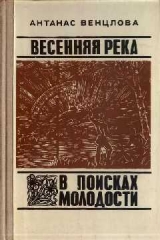
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 43 страниц)
В это время мимо прошли два гимназиста. Хорошо, что во дворе было совсем темно, и они меня не узнали.
– Только подумай! – сказал один из них. – Надираются и еще икают! Знаешь что, пошли скажем дежурному учителю, ведь всю гимназию такие позорят…
И они побежали по цементной дорожке к открытой двери гимназии.
Нет, настолько я еще мог соображать – не оставаться же здесь! Я даже малость протрезвел. «Домой, домой!» – подумал я и, все еще пошатываясь, побрел по улице. Теперь заболела голова. Не прошло и получаса, как я уже лежал в кровати. Часа через два с вечеринки вернулись товарищи и от души удивились:
– Ты дома? А мы-то думали – в реальное или в семинарию ушел… Там ведь тоже сегодня танцуют…
– А ну их всех к черту! – ответил я и закрыл глаза, твердо решив уснуть.
…Уже в восьмом классе я завел трость и купил трубку. Трость была можжевеловая, сучковатая, ее сделал деревенский мастер. Стоила она недорого. Мой товарищ по комнате (тогда я снимал комнату на двоих около учительской семинарии) удивился, но сказал, что трость мне идет, и я, опираясь на нее, отправился на Варшавскую.
Вспомнив фотографию Маяковского с бритой головой, я вошел в парикмахерскую и потребовал постричь меня под «нуль».
Встретив меня, знакомые дивились, а кое-кто просил дать потрогать трость. Я прошелся по городскому саду, и мне казалось, что я сразу вырос и похож на фатоватого студента, приехавшего из Каунаса, на поэта или вообще на артиста. Ведь многие актеры, когда приезжают в Мариямполе, непременно ходят с тростями. У одного из них я как-то видел точно такую трость, как у меня. На следующий день учитель математики, наш классный наставник, вызвал меня к доске и, как я замечал, с трудом удерживался от смеха – словно его щекотали под мышками. Наконец он прыснул и сказал:
– Иду я вчера по городу и вижу – да вот (он назвал меня), идет себе, на палку опирается… Как по-вашему, – продолжал он, как обычно, тонким модулированным голосом. – Ну ка-а-ак по-ва-а-ашему, подобает ученику государственной гимназии имени Йонаса Яблонскиса ходить с палкой?
– У меня нога болела, – мрачно соврал я.
– Нога болела! – пел учитель. – Нога-а-а… Ежели нога, то к врачу надо… А тут – фило-о-ософ не фило-о-ософ, артист не артист, но уж не наш ученик.
– Господин наставник, у него на самом деле болела нога! – заступился за меня Вищюлис.
Класс катался со смеху. Наверное, смешон был я и уморительны завывания учителя. Трость пришлось временно отложить.
Зато я гордился новым своим приобретением – трубкой. Это была совсем крохотная трубочка. Стоила она гроши. Покупая ее, я взял пачку табака. И вот однажды вечером, выйдя в городской сад, когда там гуляли гимназисты и гимназистки – парами, поодиночке и группками – или сидели под цветущей и благоухающей сиренью, я вынул из кармана свою трубочку, набил ее табаком и закурил. Я шел по садовой дорожке, пуская дым, и мне казалось, что все глядят на меня и думают: «Все-таки он – настоящий мужчина! Вот покуривает, как какой-нибудь адвокат, и хоть бы что! И до чего же храбр: учителей и то не боится! Да, это настоящий мужчина, а не мальчишка какой-то, как мы думали!» А я шагал как ни в чем не бывало, снисходительно кивал знакомым и, выкурив трубку, снова набил ее табаком и закурил…
Увы, докурить вторую трубку мне так и не удалось. Вдруг мне стало худо – еще хуже, чем от водки осенью. Я торопливо завернул за куст сирени. Голова кружилась, тошнота подкатывала к горлу, и я стоял за кустом согнувшись, приложив руку к груди… Ох, до чего же было мерзко…
Так я промучался добрых полчаса. Хорошо еще, что никто меня не заметил в таком жалком виде. Когда все было кончено, я вытащил из кармана свою прекрасную трубку, табак, спички и швырнул их в кусты.
…Настоящим праздником для нас была маевка. Ее обычно назначали на погожий весенний день. Прихватив кульки с провизией, которую нам давали хозяйки, мы собирались в гимназии и оттуда через мост и дальше по шоссе и пыльным проселкам толпой валили в Шуйский лес. Какая жалость, что мы так редко выбирались туда! Я навсегда запомнил лес, когда вместе с отцом под конец войны попал в Пашешупис. Никогда не забыть мне огромных, подпирающих небо сосен, елей с темными разлапистыми ветвями. Долго мерещились мне таинственные чащи, гудел в ушах стоголосый птичий хор. Стволы деревьев были в зарубках, под которыми висели жестяные лоточки – из раненых деревьев сочилась, капала смола, густая как мед. Отец сказал, что немцы собирают живицу для каких-то лекарств.
– А деревья не засохнут? – спросил я.
– Может, и засохнут, – ответил отец. – Но им-то что? Они все подчистую вырубают и везут в, Германию…
Был конец войны. Я вспомнил все это, потому что мы снова вступили в лес. В погожий весенний день он встретил нас улыбкой стволов и шишек, солнечными, усыпанными цветами лужайками, далеким кукованьем кукушки. И было радостно, как и каждой весной, и грудь расправлялась, ловила чистый, густой воздух, пахнущий живицей, и становилось весело, хорошо на душе!
Учителя уже выбрали просторную ровную поляну, со всех сторон окруженную высокими елями. На одном краю ее остановилась полевая кухня, которую притащила из казармы пара лошадей, – на ней будут варить для нас кофе.
Гимназистки старших классов, любящие стряпню, громыхают кофейными кружками, привезенными вместе с кухней. Но уже играют трубы немногочисленного военного оркестра. Они отдаются далеко по лесу, и сразу приходит на ум старина, войны с крестоносцами и боевые трубы. Но войны и в помине нет, только кружатся на лужайке пары. Это учитель географии, чернявый лысеющий толстячок, старый холостяк (мы называем его «бычком» за толстую шею и общее сходство с этой скотиной), пригласил восьмиклассницу Даукшюте, дочку богатых родителей. За ними следуют другие, и вот на лугу рассыпались десятки пар. Но малыши танцевать не умеют, и учительница французского, когда стихает вальс, выходит на середину луга, хлопает в ладоши и восклицает:
– А теперь – хоровод! Просим всех в круг!
Нас становится все больше. Вот на дороге, по которой мы пришли, видны новые толпы. Это валит учительская семинария. Мы криками приветствуем друг друга. Этот день отведен радости.
Но мы знаем, что он короток и завтра нам снова сидеть в душных классах, в которых весной куда трудней вытерпеть, трудней учиться, трудней дышать.
Мы разбредаемся по лесу. Ходить бы и ходить по зеленым тропинкам, слушать далекое кукование, лежать на теплой траве, смотреть в небо – синее небо, по которому изредка проплывает легкое шелковистое облачко. И думать о том, что бывает и чего не бывает на свете, – о дружбе и любви, о дальних дорогах и волшебных городах…
Тебя что-то зовет, что-то несет на крыльях, и ты летишь над корабельными соснами, прямыми, медными, благоухающими, над светло-зелеными кустами рябины и белыми стволами берез, которые заблудились среди хвойного леса. А издали доносятся звуки труб и возгласы веселящихся друзей.
Встать бы и пойти по тропе, что ведет в неведомые дали, и не одному, а с подругой, еще тебе неизвестной, наговорить ей удивительные слова, самые редкие, какие найдешь в душе… Идти, обняв ее, шептать ей те волшебные слова, которые ты сейчас торопливо вносишь в записную книжку.
Укладываясь в строки и строфы, они звенят в тебе весь день, куда бы ты ни шел, а сосны шумят под дуновением высокого летящего ветра, как твоя душа, переполненная ожиданием счастья, которое если не сегодня, то завтра, но непременно придет…
Возвращаешься на поляну, где у полевой кухни уже стоят твои друзья с кружками в руках, а гимназистка в переднике и косынке черпаком разливает им черный кофе…
А лес ревет, гудит, шумит и вторит юным радостным голосам. Лес ведь живой, как и наша душа. Я открываю книжку и записываю в ней новую строфу.
ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР
Направляясь по улице Пятраса Кряучюнаса в городской сад, я всегда проходил мимо одноэтажного кирпичного здания, которое неизменно занимало меня. В нем находилась типография. В теплые дни я видел в открытые окна простоволосых людей у наборных касс, в передниках, с засученными рукавами. Они проворно выбирают из отделений буквы и складывают их в строчки. У них необычайно интересная и таинственная работа. Ведь здесь рождается книга!
В другой комнате стояли машины. Лишь встав на цыпочки, увидишь с улицы, как эти машины хватают с большой кипы бумаги пустой лист, а выходит этот лист уже испещренный знаками. Да, интересно бы зайти в типографию и посмотреть, каким образом страничка, исписанная от руки, превращается в напечатанную, на которой все выглядит так аккуратно и красиво! А самое главное, что одна страничка здесь превращается в тысячи страниц, и эти страницы читают несколько сотен или даже тысяч человек сразу. Да, волшебное место, волшебные машины, да и работают здесь волшебники!
Но никак не подвертывался случай, чтобы попасть в типографию. А она все работала – день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И приятно бывало взять в руки книгу – «Сочинения» Жемайте, «Тоннель» Келлермана, «Тартарена из Тараскона» Доде или сокращенного «Дон Кихота» Сервантеса – и найти на ней надпись, что она напечатана как раз здесь, на улице Пятраса Кряучюнаса, в нашем городе!
А вот совсем недавно в Мариямполе появилась собственная небольшая газетка, названная «Волны Шешупе». Газета выходит раз в неделю. Особенно интересна она тем, что пишет обо всем, что происходит в нашем городе. Потом на первой странице первого ее номера были портрет и биография Винцаса Кудирки,[81]
второго – Пятраса Арминаса, затем – Жемайте, Вайчайтиса, Мачиса-Кекштаса… Газета смело разоблачала реакцию, засилье ксендзов, всякие неурядицы нашей жизни.
Написав заметку из жизни нашей гимназии, я долго ходил у каменного здания, окна которого на сей раз были закрыты (стояла еще зима), наконец открыл дверь и, увидев женщину с черными сатиновыми нарукавниками поверх платья спросил:
– Где мне найти редактора «Волн Шешупе»?
– А, Кастаса Стиклюса![82]
– нисколько не удивившись, посмотрела на меня женщина. – В корректорской. Прямо! – еще добавила она.
Я постучался в указанную дверь, но ответа не было. Наконец я отворил ее и увидел за столом, заваленным кипами рукописей и уже набранного текста, человека лет сорока пяти с серыми глазами на сером, бледном лице, с ежиком серых же волос. Он поднял голову от бумаг, снял очки, взглянул на меня, указал на свободный стул, а сам снова принялся читать и править красными чернилами большой, пахнущий краской лист. Меня занимало, что это за лист, но я терпеливо сидел и ждал, пока он закончит. Из соседней комнаты вышел человек с закатанными рукавами и в фартуке. Кастас Стиклюс сказал ему:
– Набор – будто курица ногой карябала… Смотрите, на что полоса похожа…
– Ученик набирал… – оправдывался рабочий.
– Дело ваше, – сказал Стиклюс. – Но весь текст придется, можно сказать, заново… И шрифты переврал – смотрите, в одном слове и корпус и курсив… Черт те что…
– Ничего, научится! – снисходительно усмехнулся рабочий. – Не святые горшки обжигают.
Рабочий унес страницу, вдоль и поперек исчерканную красными чернилами. Теперь сидевший за столом человек снова снял очки и вопросительно уставился на меня.
– Для «Волн Шешупе» принес… Вот, – сказал я, вручая исписанную страничку. – Вы, кажется, редактор?
– Редактор. А ты кто будешь?
– Ученик. В этом году кончаю гимназию…
– Ну, тогда нам стоит познакомиться, – сказал Стиклюс, кончив читать, и подал мне крупную волосатую руку. – В газеты уже писал?
– Немножко, – краснея, ответил я.
– А знаешь, ты неплохо пишешь, коротко, ясно… И сразу видно, чего хочешь. Ладно, оставь, поместим!
– Я еще стихи… – добавил я, все пуще краснея, и, вынув из другого кармана, вручил редактору еще один скомканный листочек.
Он снова надел очки, быстро пробежал глазами и это мое творение.
– Оказывается, ты еще и поэт!.. Ну что ж, пока молоды, все мы поэты, – добавил он, и я не понял, ругает он меня или хвалит.
Выйдя из типографии, я радовался, что познакомился с редактором, и придумывал, о чем бы еще написать в его газету. Вернувшись домой, я взял копию оставленного в газете стихотворения и сразу же увидел, что зря поторопился – одна строфа явно лишняя, а в другой никуда не годится метафора. Что делать? Ведь если стихи напечатают в таком виде, самому стыдно будет! Два дня я не решался заходить в редакцию. Что подумает обо мне редактор, увидев, что я подсунул ему незаконченное произведение? Но на третий день я не выдержал – снова открыл дверь редактора.
– А, наш поэт! – весело сказал Стиклюс. – Хорошо, что зашел. Можешь посмотреть свою корректуру…
В ворохе бумаг он нашел мою заметку и стихи. Они уже были набраны и вместе с какими-то статьями отпечатаны на длинной полосе бумаги. О, как интересны были для меня эти полосы!.. Они пахли краской и, кажется, керосином, и от этого были еще привлекательней. Я видел, как рождается газета, – то, что недавно было у меня в голове, теперь уже напечатано, хотя еще и не окончательно… Я тут же увидел ошибки в набранном тексте.
– Корректуру держать умеешь? – спросил редактор.
– Нет, – ответил я.
– Тогда смотри, – сказал он. – Вот здесь не на месте буква «б». Мы ее вычеркиваем и пишем нужную нам «м». Здесь два слова набраны не в том порядке, их мы меняем местами – вот так…
Довольно скоро я постиг все хитрости и, взяв перо, красными чернилами выправил свои корректуры.
– А стихи я бы хотел поправить по существу, – сказал я наконец, глядя с отвращением на неудачную строфу и метафору. – Вот здесь и здесь…
– Эге, братец, это плохая привычка! – сказал мне редактор. – Очень даже плохая привычка… Я – старый корректор, может, целую библиотеку книг и газет за свой век выправил… Запомни – что написано пером, того не вырубишь топором… Ну, здесь-то еще можно, но помни, что твои буквы набирал рабочий. Теперь он будет исправлять не только свои, но и твои ошибки, должен будет шилом выковыривать каждую букву и заново набирать все, что тебе сейчас взбрело в голову… Надо уважать труд человека, понял?
Если б я знал, что это так трудно, ни за что бы не выправлял, хоть эта строфа на самом деле никуда не годится, да и метафора! Но редактор, увидев мое смущение, наверное, пожалел меня и сказал:
– Что ж, исправим, но запомни на будущее. Рукопись приноси только тогда, когда ничего в ней не можешь исправить… Это не раз я слышал от Йонаса Яблонскиса.
– Вы знаете Яблонскиса? – удивился я.
– Разумеется! Мы когда-то работали с ним в одной газете, в Вильнюсе. Он всегда правил рукописи Жемайте, конечно, вместе с ней и с ее согласия, но в печать давал уже такую рукопись, что ни единой запятой в корректуре исправлять не приходилось…
– А Шемайте? Вы видели когда-нибудь Жемайте?
– Отчего ж, – усмехнулся редактор. – И Жемайте, и Лаздину Пеледу… Все они в Вильнюсе бывали, часто видывал.
– Как интересно! – не выдержал я. – А какая она была, Жемайте? Я вот только на ее похоронах был…
– Жемайте? Совсем, знаешь ли, простой человек. Демократ, понятно? Всяких там господ да ксендзов, как говорится, не переваривала… Когда наши Сметоны и Вольдемарасы начали титуловать друг друга превосходительствами, она, бывало, поморщится и скажет: «Восходительства, ишь восходительства… Дерьмо вы, а не восходительства!..» Вернувшись из Америки, она жила у меня в Каунасе. Как сейчас помню, вернулась как-то из города и говорит: «Встретила сегодня Бите-Пяткявичайте.[83]
Это моя старинная и лучшая подруга. Обнимались, целовались мы с ней и… плакали, что столько кругом несправедливостей… Будьте осторожны, говорит, берегите себя и свое здоровье на старости лет… Не боюсь! За правду ничего не боюсь! Пускай арестовывают, пускай казнят! Молчать не буду, все опишу!» Такая была, светлая ей память… А ты, как вижу, всем интересуешься, не то что нынешние сонные молодые люди…
– Да, мне многое интересно, по я не все понимаю… – откровенно признался я. – И лицемерие, чванство ненавижу, – добавил я. – А у нас в гимназии не все правду любят…
– Я думаю! – сказал редактор. – Правда, она глаза колет.
– Ох как колет, – ответил я. – Вот прошлой осенью доктор Шлюпас приезжал и в зале реального училища читал лекцию об атеизме. Собрались чуть ли не все мариямпольские ксендзы и уселись на первых скамьях Мы, ученики, конечно, подальше. И как задал им Шлюпас!..[84]
Мы хлопаем, кричим «браво!», а ксендзы знай краснеют и бледнеют. А Шлюпас и про библейские несуразицы, и про инквизицию, и про нынешних ксендзов, как они обделывают дела, людям голову морочат, в сейм пролезли – словом, сели на шею народу.
– А ты, знаешь, сознательней, чем я думал!.. – с теплотой улыбнулся редактор. – О таких лекциях надо в газету писать, пусть все прочитают… А как ксендзы – так и слушали Шлюпаса до конца?
– Нет, – ответил я. – Смотрим, один за другим встают со скамей и улепетывают из зала. До конца лекции ни один не выдержал…
– Ха-ха-ха, – от души рассмеялся редактор. – Говоришь, ни один? Эх, везде бы так…
…Мы встречались довольно часто, почти для каждого номера газеты я приносил то заметку, то стихи, то наконец первую прозаическую картинку. Очень уж слабы были эти мои «творения».
Господи, до чего детские были писания, как наивно смотрел я на жизнь!
Но некоторые строки даже теперь удивляют меня. В зале летнего театра выступал знаменитый тогда сатирический театр «Вилколакис». Этот каунасский театр показывал острые, злободневные пьесы – «Политику» – «трехактную комедию из высших сфер», «Вне законов» – «крик в одном действии», «Миллионы» – «шеевертку в трех актах», как писали в афишах театра. В спектаклях была хорошая сатира на бюрократизм, чванство, расхищение казны и на другие пороки «независимости». За последние центы мы пробивались на галерку летнего зала и хлопали каждой острой реплике до боли в ладонях. Теперь меня удивляет, как связно я описывал в газете эти спектакли.
«Театр «Вилколакис» подарил Мариямполе, – писал я, – здоровый смех, доброе настроение и представил случай взглянуть на жизнь Литвы с другой стороны, чем обычно».
Посмотрев спектакль «Вилколакиса» «Западня», я писал:
«Когда наука служит не высокому своему призванию – дать человечеству благосостояние, а вынуждена служить узкоутилитарным целям, она перестает быть наукой. Когда наукой по своему усмотрению управляет полиция, ученый, ощущая на своей шее жесткую лапу насильника, должен погибнуть, должен сойти с ума!
То же можно сказать и о печати. Тяжка жизнь печати, когда газетчик вынужден каждый день думать о том, как поймут и оценят его слова власти, а не сами люди. И мы вместе с «Вилко-лакисом» кричим: «Дайте нам свободу! Свобода – необходимое условие прогресса мысли!»
Может быть, в этом нет ничего особенного, но это характерно для моих тогдашних настроений.
Кастас Стиклюс стал моим другом, хотя у нас и была такая разница в возрасте и жизненном опыте. Он участвовал в революции 1905 года, написал множество книжек, популярных в народе. Меня поражало, что он знал многих знаменитых писателей и деятелей, о которых мы слышали в гимназии и читали в книгах. Этот благородный человек, который любил простой люд и ненавидел угнетателей, мне, никому не известному гимназисту, одним из первых протянул дружескую руку в самом начале пути, – и за это я всегда испытываю к нему глубокую признательность и любовь…
По сей день, получив корректуру новой своей книги, когда в комнате стоит устойчивый запах типографской краски, я непременно вспоминаю первые корректуры, которые я правил, красными чернилами в мариямпольской типографии, на столе Кастаса Стиклюса. Я вспоминаю его подбадривающий взгляд, дружескую улыбку, которая, кажется, говорит мне и поныне:
– Учись, работай, гляди, что творится вокруг тебя. И помни, что ты работаешь для простого трудового человека. Он, этот человек, – основа жизни! На нем держится все!
ВЕСЕННЯЯ РЕКА
Жизнь человека разве не похожа на реку? Текут часы, дни и месяцы, течет радость и горе, и ничто не возвращается вспять. Детство и юность – разве не похожи на весеннюю реку, когда она, стремительная и солнечная, а порою мутная, несется вперед, а на берегах уже цветут луга и в волне отражается высокое небо?
Семь моих лет прошло в этом городе. Когда-то он казался мне чужим и негостеприимным. Теперь, когда я знаю, что через месяц-другой покину его, чтобы не вернуться никогда, он добр для меня. Я забываю и холодные зимы, и голодные дни, и те жестокие события, которым здесь был свидетелем…
Я приехал в этот город деревенским мальчиком, для которого все было интересным, хоть и непривычным, неприютным, а подчас даже страшным.
Насколько я изменился за эти годы? Что нового появилось во мне?
Во-первых, я вырос. Когда я гляжу на свое отражение в окне лавки или в зеркале парикмахерской, я вижу, что я невероятно вытянулся. Я слишком долговязый и тощий. Я даже сам себе кажусь смешным. Стесняюсь девушек, – ведь не могу же я им нравиться такой, какой я есть, да еще с несоразмерно длинными руками. Мне даже странно, что, когда я заговорю с девушкой, она отвечает мне серьезно, как учителю. Мне, конечно, нравится, что они надо мной не смеются, но ведь было бы куда лучше, если бы они не вели себя со мной так чинно.
Без сомнения, за эти годы я кое-чему научился. Прежде всего, я стал лучше писать. Теперь для меня сущий пустяк написать сочинение, и я заранее знаю, что получу пятерку. Мои писания принимают некоторые газеты, и это, конечно, тоже показывает, что в голове у меня завелись кое-какие мысли и я научился излагать их на бумаге.
Когда я попал в этот город, я был знаком со случайными книгами, которые читал без всякого порядка и системы. Книги давно манили меня, но я еще не понимал, какая из них лучше, какая хуже и почему. Теперь нет ни одной серьезной литовской книги, которую я бы не прочитал. Я уже вижу разницу – поначалу я ее не ощущал – между рассказом Жемайте и зарисовкой какого-нибудь начинающего писателя. Я понял, что есть разница между стихами Майрониса и Маргалиса.[85]
Я неплохо научился русскому языку. Правда, говорить по-русски было не с кем, да я и стеснялся своего произношения. Но я уже довольно свободно читал русских классиков и видел, что понимать их не одинаково легко. Тургенев казался мне куда легче Достоевского, а тем более Лескова. Я уже имел кое-какое понятие о Толстом – я читал «Войну и мир» и «Воскресение». Постепенно я проникался не только красотой «Капитанской дочки», но и очарованием «Евгения Онегина», которое поначалу было мне недоступно – я слабо знал русский. Я любил Гоголя, особенно его фантастические повести. Читал рассказы Чехова и чувствовал их грусть и нежность. Мне попадались рассказы Горького. Читал я Александра Блока и Сергея Есенина. Пытался читать в подлиннике Маяковского, хоть с трудом вникал в его сложные метафоры.
Русский язык открыл передо мной новый, величественный мир мысли и красоты. Этот мир безудержно влек меня! Мне хотелось узнать его много полнее и глубже. Каждая книга великих русских писателей ставила передо мной уйму вопросов, на которые не сразу находился ответ. Книги будоражили мысль, заставляли читать снова и думать, искать. Они вызывали желание больше знать, жить более осмысленно, чем я жил до сих пор. И я знал, что с этим так недавно открывшимся мне миром мои связи не порвутся до тех пор, пока я жив.
Гимназия дала мне знания из различных областей. Эти знания были довольно поверхностными. Все ж приятно было знать хотя бы основное об античной Греции и Риме, об эпохе Возрождения и о великих ее представителях, о наполеоновских войнах, которые я по-детски представлял себе, прочитав когда-то дома старый календарь… Увы, история казалась нам собранием событий без ладу и складу. Эти события вызывали отдельные личности, такие, как Цезарь, Витаутас, Наполеон. Но почему в различных государствах история сложилась так, а не иначе – мы не понимали. Мы думали, что миром управляет чистая случайность.
Знания физики и химии были отрывочные и не объясняли, как возник видимый нами мир – Земля и планеты, как возникла жизнь, как она развивалась, что возвысило человека среди других тварей. Зато о лошади и кроте я знал много и твердо – подними меня среди ночи, и я сразу скажу, сколько зубов у крота и сколько ребер у лошади. Много делалось для того, чтобы в наши головы не ворвались теории, идущие вразрез с разглагольствованиями капеллана, основанными на библейских легендах. И лишь случайные книжонки, тайно попавшие в наши руки, пытались дать материалистическое толкование мира.
Немало времени мы уделяли изучению иностранных языков. Закончив гимназию, мы без труда понимали несложные книги на немецком или французском языках. Особенно усердно учили мы латынь.
Уроки латинского языка позволили мне почувствовать ясность, строгость и простоту античной литературы, ту спокойную красоту, которой наполнена римская проза и поэзия. На всю жизнь остался у меня интерес к античной древности. Возможно, что уроки латыни позволили мне лучше понять многих западных писателей, особенно тех, в чьих книгах, как, скажем, у Анатоля Франса, – глубока античная традиция, много реалий и литературных реминисценций, античности.
А остальное… Математика всегда мало интересовала меня. Если, особенно в старших классах, она все-таки неплохо мне давалась, то лишь потому, что преподаватель умел добиваться от нас знания своего предмета. Но она никогда не вызывала у меня новых мыслей и не служила толчком ни для интеллектуальных, ни для эстетических переживаний.
Всю жизнь я был обижен на гимназию за то, что очень мало получил музыкальных сведений и почти никаких – из теории и истории искусства. Позднее я с трудом познакомился с живописью, а в музыке, увы, на всю жизнь остался дилетантом, для которого то или иное произведение только «нравится» или «не нравится», а вот почему – не знаю по сей день.
Годы в городе очень сильно изменили мое детское мироощущение. Случилось это, разумеется, никоим образом не по вине учителей. В этой книге я вообще мало говорю о своих учителях. Это, конечно, не значит, что я не благодарен им за время и энергию, которые они теряли, обучая нас.
Я сознательно не говорю – «воспитывая», поскольку воспитание наше было более чем поверхностным. Следили за дисциплиной в классе, за тем, чтобы на улицах ученики не курили, не появлялись в пьяном виде, чтобы вежливо здоровались с учителями. На этом воспитание и кончалось. Поинтересоваться, чем мы живем после уроков, что читаем, что нас волнует, чем мы мучаемся, есть ли у нас еда и одежда, – все это, кажется, и не приходило в голову нашим наставникам.
Когда я думаю, кто же из учителей оказал на меня самое большое моральное влияние, кто произвел на меня самое глубокое впечатление своими словами или поведением, увы, не могу вспомнить ни одного. Все они старались вложить в наши головы столько знаний, сколько требовала программа, и больше ничего. Если мы интересовались и другим, если мы росли и развивались наперекор программам, за это мы должны быть благодарны не учителям, а времени, друзьям, книгам.
Весенняя река… В городском саду, на кладбище, в садиках вдоль реки уже цвела черемуха и качались лиловые гроздья сирени. Встав спозаранку, я приходил в сад готовиться к экзаменам. Утреннее солнце, зелень и птичьи голоса рассеивали сосредоточенность, и мысль невольно убегала вдаль – в неведомое будущее.
Многие мои друзья, сдав экзамены, собирались поступать на Учительские курсы. Закончив их за лето, они осенью разъедутся по деревням – уже учителями. Меня такая перспектива не привлекала. Я рвался в Каунас, в университет, где, казалось мне, собрались все умы и таланты Литвы. Я знал, что в Каунасе живут такие люди, как Винцас Креве и Людас Гира, как Майронис и Вайжгантас, как Йонас Яблонские, Винцас Миколайтис-Путинас, Балис Сруога – многие из тех, чьи стихи и рассказы заполняли страницы газет и журналов. Как жаль, что среди них уже нет Казимераса Буги! Если я попаду в Каунас и поступлю в университет, я каждый день буду видеть этих людей, слушать их лекции, набираться ума… Главное – попасть туда.
Наконец экзамены позади. Я вернулся в деревню. Из Вейверяй, с учительских курсов, приехал Пиюс. Мы снова работали вместе, но меня все больше тревожил Каунас. «Если я уеду туда осенью, когда все уже соберутся, мне будет трудно найти комнату и куда-нибудь пристроиться, – думал я. – Надо ехать уже сейчас, подать в университет документы и заняться поисками работы. Работать я буду, – рассуждал я, – где придется – в учреждении, в конторе, да и черным трудом не погнушаюсь, если только найду…»
Для поездки в Каунас нужны были деньги. Ведь понадобится комната, надо будет как-то питаться. Придется купить кое-что из одежды. А в этом году, как нарочно, готовясь к экзаменам, я почти не давал уроков. Мои сбережения подходили к концу – из всех карманов я с трудом наскреб восемь литов.
Юозас сказал, что все мне причитавшееся я уже давно из дому получил и что он не видит никакого смысла снова мне помогать, ущемляя себя и других. Пиюс мне сочувствовал, но он-то ведь тоже еще учился и помочь не мог. И вот однажды вечером мама, как и каждое лето, пришла в клеть и тихо села на край моей кровати.
– Не спится? – спросила она.
– Нет, мама, – ответил я. – Не берет меня сон…
– Наверное, все об учении думаешь?
– Да, мама. Надо уже ехать в Каунас. Да вот не знаю, как я туда доберусь.
– А может, хватит голову забивать? Был бы учителем, как другие, получал бы жалованье, зажил бы неплохо…
– Нет, мама. Я серьезно решил. И Пиюс думает, что так будет лучше… Мне надо учиться дальше…
– Но на что, сыночек? Слыхал ведь, что Юозас говорит… И его ведь правда. Отец умер, а кто хозяйство на своем горбу тащил? Пиюс в армии служил, теперь учится, а ему ведь тоже нужен хлеб, да еще с маслом, и лита лишнего у него нет.
– Я понимаю, мама. Но меня никто не переубедит. Я лучше голодать буду, в лохмотьях буду ходить, а все равно пойду в университет, буду учиться, работать.
– Только хворь схватишь, сыночек… Мало ли народу умерло от чахотки? Все по бедности…
– Нет, мама. Я ни за что не откажусь… Мне непременно надо в Каунас!
– Знаешь что, – сказала мама. – Вот, долго не думая, иду завтра в Граяускай к старику Жукайтису. У него двух сыновей в войну убило, теперь ему за них из Америки деньги присылают. Поклонюсь в ноги, попрошу – авось даст хоть сотню. Вернем ведь, когда сможем. Человек Жукайтис не злой. Говорят, за те деньги, что получает, теперь костелам алтари покупает, часовенки у дорог ставит…
И мама ушла. Ушла она, никому не сказавшись. Вернулась на следующий день в сумерках. И когда я снова лежал в клети, она подсела ко мне и сказала тихо печальным голосом:








