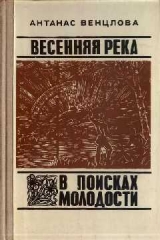
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 43 страниц)
Сидя в каком-то ресторане, слово за слово мы поссорились со своим руководителем. Сруога вдруг обиделся, поднялся из-за стола и выбежал в дверь. Поняв, что мы плохо поступили, мы с Райлой тоже погнались за ним. Шел сильный дождь; разбрызгивая воду, летели автомобили; на углах улиц возвышались полицейские. Сруоги не было видно. Мы разбежались в стороны, и вскоре кто-то из нас увидел высокую мужскую фигуру. Да, это был Сруога! Он шагал по тротуару, расстегнув плащ, без шапки. Мы погнались за ним, но он так быстро переставлял свои длинные ноги, что мы никак не могли его догнать.
Увидев идущую навстречу женщину, Сруога расставлял руки и пытался ее поймать. Женщины с воплем разбегались. А мы все бежали за поэтом (да, профессор снова почувствовал себя поэтом!) по нескончаемым улицам Мюнхена, пока наконец не заблудились и не забыли, в какой стороне наша гостиница. Дождь перестал. Мы встретили каких-то немцев и спросили у них, куда нам идти. Они подробно объяснили дорогу и спросили, откуда мы. Узнав, что мы из Литвы, они сказали:
– Ja, ja, Litauen… Voldemaras… Ein tьchtiger Mensch…[57]
– Черт подери! – выругался Райла. – И тут эту бестию знают, да еще считают приличным человеком…
На следующий день болела голова, а нам пришлось осматривать самое интересное в этой стране – еще не совсем оконченный в те годы так называемый Большой Немецкий музей. Под землей устроены угольные и соляные копи в натуральную величину. В огромных залах показано, например, развитие транспорта от примитивных носилок и повозок до новейших автомобилей, автобусов и трамваев – все в натуральную величину. Нажмешь кнопку, и трамвай едет по залу. В таких же залах показано развитие авиации от крыльев Икара до новейших самолетов, потом залы, посвященные музыке, книгам и многому другому. Не то восемь, не то пятнадцать километров надо пройти по всем залам музея. Удивительная панорама развития цивилизации. Такой мне больше нигде не довелось видеть!
Потом мы поехали к большому баварскому озеру – Штарнбергерзе. Сойдя на маленькой станции, мы увидели не первой молодости лысого человека. Он стоял выпятив грудь, расставив кривые ноги в зеленых обмотках. Подойдя к нам, он спросил, откуда мы. Потом отвернул лацкан своей полувоенной куртки и показал довольно редкий в то время знак, который потом, несколько лет спустя, завоевал такую зловещую популярность. Это была свастика. Человек заявил, что настанет время, когда Германия разгромит Францию и поставит на место евреев. О наших краях он не упоминал, – видно, что Литва и славянский мир были слишком далеки от него, баварца.
– Это сторонник Гитлера, национал-социалист, – сказал Сруога, когда кривоногий субъект отошел от нас. – В Мюнхене у них штаб. Видели вчера на улице парней в коричневых рубашках? Это все гитлеровцы…
И никому из нас не пришло тогда в голову, что пройдет несколько лет и эти парни в коричневых рубашках будут ходить в кованых сапогах по улицам всей Германии, а еще несколько лет спустя разрушат, сожгут Европу… Они заставят эмигрировать Оскара Марию Графа, посадят в концлагерь Сруогу, развяжут войну, во время которой будет уничтожен Берлин и сильно разрушен Мюнхен…
Приехав в удивительно прекрасный городок Берхтесгаден, утопающий в цветах, мы и не подозревали, что в этих горах, у волшебных Кенигзе и Оберзе, в которых так поэтично отражаются снежные вершины Вацмана и семерых его детей, будет устроено так называемое «Орлиное гнездо» Гитлера, вторая резиденция немецкого диктатора; здесь он будет составлять планы своих кровавых преступлений. Мы плавали на моторной лодке по Королевскому озеру, глядели на голубые волны, на воду, окруженную темно-зелеными высоченными елями, на серебристые нити далеких водопадов, на застывшие вдалеке сверкающие в огнях заката вершины Альп. Мир казался невероятно прекрасным и богатым. Путешествие ежеминутно показывало нам красоту, созданную умом и руками человека и самой природой. Хотелось все запомнить, чтобы не стерлась ни одна черточка нового города или творения природы, чтобы она вечно светила нам. Воспоминание может потускнеть и кануть в прошлое, но оно то и дело дает душе новую радость…
Потом Вена, Дунай, Пратер, Ринг… Удивительные архитектурные ансамбли, королевский дворец в городе и в Шенбрунне, музеи искусства и естествознания. Собранные за столетия горные кристаллы и картины Брейгеля, улыбки чудесных статуй и золотое небо итальянских пейзажей. Все казалось сказкой для человека, который лишь несколько лет назад покинул родную деревню и теперь впервые в жизни прикоснулся к великому, вечному искусству и красоте, которую раньше он не мог представить даже во сне, к людям, которые жили в другом окружении, в других условиях и каждый день дышали воздухом этих городов, парков, музеев. И эти люди казались нам счастливее нас.
Когда мы заглянули в ресторан выпить пива, к нам очень долго не подходил кельнер, или, как его называют по-немецки, обер. Балис Сруога сказал, что официантов лучше подзывать не «Herr Ober», а кричать по-русски: «Корова». Звучит похоже, зато слово «корова» больше действует. Не выдержав, Сруога крикнул:
– Эй, корова!
Тут же к столу подбежал обер, поклонился в пояс и по-русски сказал:
– Что прикажете, господа?
Оказывается, это был эмигрант. Сруога страшно смутился и начал извиняться перед обером. Но тот печально улыбнулся и ответил:
– Ничего! Мы тут ко всему привычные.
В Вене в эти дни проходил всемирный конгресс социал-демократической молодежи. По улицам шли колонны с красными знаменами, а полицейские отдавали честь проходящим. Это было удивительно для нас, приехавших из Литвы, где красный цвет вызывал ярость у правящей клики, где за красный флаг угрожала тюрьма. Да, Австрия была буржуазной страной, но у нас не было даже такой свободы.
Уже который день я гулял по Вене со своим другом Казисом Борутой. Когда я перед отъездом из Каунаса зашел в участок отметиться, начальник полиции сказал мне:
– Вот как, едете в Западную Европу? Хорошо, хорошо… И в Италии будете? – улыбнулся он. – Хорошо, отлично… Посмотрите. Там они умеют управляться… Муссолини…
И начальник полиции сказал, что больше могу не приходить отмечаться. Он был уверен: фашистская Италия настолько ошеломит меня, что я перестану быть опасным…
Сруога сказал нам с Райлой: в Каунасе охранка предупредила его перед отъездом, чтобы он уберег нас в Вене от встречи с Борутой. Но Борута появился так внезапно, что мы не успели даже оглядеться. Сруога увидел, что этот юноша, столь ненавистный каунасским фашистам, ничем не выделяется из других здешних студентов – он вежлив, корректен, даже молчалив. А мы, гуляя по Вене с ним – то вместе со всеми, то отдельно, – говорили и говорили. Казису хотелось знать, как поживают его друзья Монтвила и Якубенас, что мы пишем и думаем, какие условия для издания в Литве прогрессивного литературного журнала, для основания издательства. В этом большом и прекрасном городе он чувствовал себя чужаком, тосковал по Литве и мучился, что для него закрыт путь в родную страну. Он повез меня куда-то далеко, на окраину, в узкий переулок, где находилась его комната. Здесь мы снова говорили о литературе, о своей работе, и Казис в который раз возвращался к мысли об издании журнала. Он старался вспомнить всех молодых писателей, которые жили в Каунасе, Шяуляй и других городах, были на воле и сидели в тюрьмах, – по мнению Казиса, всех надо было сплотить в крепкую группу, которая смогла бы устоять перед фашистами и клерикалами.
Из Вены, срезав угол Югославии, мы отправились к Адриатическому морю. По правде говоря, по плану нам не надо было ехать через Югославию. В это государство мы попали, сев не на тот поезд, и югославские власти порядочно содрали с нас за железнодорожные билеты и разрешение проехать по своей территории. Ругаясь, мы вступили в Италию.
Жарким, душным вечером мы сошли на вокзале в Триесте. Город был пыльный, серый, без зелени. По привокзальной площади бегали носильщики. Море, словно парилка в бане, излучало жар. Извозчики на всех языках мира звали пассажиров. Мы удивились, услышав, как крупный старик с бородой, славянского вида, сидящий на «троне» пролетки, кричал:
– Кому хорошая гостиница? Кому хорошая гостиница?
Крик извозчика показался нам знакомым и близким. Мы тут же сфотографировали старика и его двух товарищей. Они долго везли нас то вниз, то вверх по гористым улицам Триеста, где на каждом углу стояло по два полицейских в черном. Наконец извозчики выгрузили наши чемоданы у дверей какой-то траттории и, содрав с нас неимоверную цену, снова отправились на вокзал.
Комнаты в гостинице были пыльные, грязные, из углов воняло крысами и гнилыми апельсинами. Переодевшись, мы пошли в ресторан. На столах уже стояли бутылки без этикеток с дешевым вином. Тут же появились и дымящиеся макароны.
В ресторане сидела разношерстная публика. Кто-то бренчал на гитаре, несколько пар танцевало. Что это за танец, никто из нас не понимал. За большим столом в углу спорили какие-то люди, несколько из них встало и бросилось в дверь, а другие, крича страшными голосами, погнались за ними через площадь. В дверях траттории появились полицейские в черном. Они постояли на пороге и снова исчезли. Входя, под лестницей мы увидели дверь с надписью: «Il medico».[58]
Кто-то объяснил, что пьяные матросы и прочие граждане здесь часто берутся за ножи, и тогда нужен врач, чтобы залатать проткнутый живот.
В комнатах было жарко и душно. Никак не удавалось заснуть, тем более что по телу ползали насекомые.
На следующий день мы, обливаясь потом, ходили по скучному городу и удивлялись, зачем мы сюда приехали. Отбивая такт каблуками и барабанами, по улице ходили толпы детей и подростков. Они собирались на площади, где какой-то субъект в черной рубашке выступал перед ними с речью, то и дело поминая дуче.
Не радовало нас и море, невероятно спокойное, словно еще не остывший жир, налитый в широкую миску. Мы искупались в непривычно теплой воде, которая билась о замшелые камни. После обеда мы уехали в Венецию.
Дорога шла по северному берегу Адриатики. Изредка вдалеке мерцало море, то слева, то справа от поезда мелькал старинный замок или дворец. С холмов спускались виноградники, ветер благоухал теплой землей.
Зато Венеция… Такой город может только присниться! По Большому каналу летели сказочные гондолы. Мимо проносились мраморные дворцы с легкими колоннами, с лестницами, выходящими прямо из позеленевшей воды. Степы были увиты плющом. С утра город был наполнен прозрачной мглой, которая серебристой сетью опутала дома, церкви, узенькие улочки. Выйдя на берег неподалеку от Дворца дожей, мы гуляли по площади св. Марка, куда еще издали манили фасад знаменитого собора, высокая башня и ряд белых колонн библиотеки.
В Адриатическом море, которое простиралось тут же, у стен площади, дымили исполинские пароходы и крохотные суденышки. Один из таких маленьких пароходиков перевез нас через пролив на курорт Лидо. Роскошные виллы расположились у моря. Была середина лета, и вода манила нас. Решив искупаться, мы купили множество билетов, пока не прошли всех контролеров и не оказались на пляже. Здесь снова каждый должен был покупать билеты в кабины, платить за полотенца и прочие услуги. Кто-то подсчитал, что до тех пор, пока мы вошли в воду, каждый из нас приобрел по восемнадцать билетов. Что уж говорить, лучше купаться в нашей Паланге!
Вернувшись в город, мы гуляли по узким улочкам. Перед глазами возникла совсем другая картина, чем на площади св. Марка. Улочки грязные, дома не ремонтированы целыми столетиями. Два человека не могут разминуться в этой тесноте. Бродят худые, голодные кошки, бегают замызганные, оборванные детишки, слоняются иссохшие, словно скелеты, старухи с корзинами на головах, а в корзинах – белье, овощи, угольная крошка или несколько хворостинок. Тут же, на улице, местные жители, не стесняясь, справляют нужду. Вечером толпами ходят проститутки, из открытых таверн вместе с кухонными ароматами вылетает дешевая музыка граммофонов, и за пыльными окнами кружатся пары. Кажется, что это совсем другой город, забытый и богом и людьми. Это вторая сторона Италии, которую не всегда замечают туристы.
Перед нашими глазами сразу же открылась удивительная красота и нищета Италии, великолепие ее искусства и серость жизни. На каждом шагу виднелись напыщенные чиновники, отряды чернорубашечников, на каждой стене висела фотография Муссолини, поднявшего руку для присяги… Мы быстро покинули эту прекрасную и несчастную страну.
Миновав ночью горы, мы снова оказались в Австрии. Мы были в Инсбруке, в древнем и прекрасном городе у подножия Альп, у стремительной голубой реки Ин. По тихим улицам города ходили мужчины и женщины, одетые почти одинаково – в зеленых жилетах или брезентовых куртках, в длинных чулках, в больших подкованных ботинках, с ледорубами в руках. Здесь был центр альпийского туризма, и нам надо было подготовиться к самой ответственной части путешествия.
Город оказался уютным. Небольшая гостиница, в которой мы остановились, поражала чистотой, комнаты обставлены на старинный лад, с пуховыми перинами, с фарфоровыми умывальниками, в которые надо было наливать воду из белых кувшинов. В усыпанном песком садике стояли столики и легкие стулья. Здесь мы отдыхали, пили легкое дешевое тирольское вино, играли в шахматы. Сруога, которому Италия не нравилась и из которой он рвался в свою стихию – в Альпы, теперь стал разговорчивее. Он охотно садился за шахматную доску, чтобы сразиться с тем или иным экскурсантом, договорившись, что проигравший ставит всем вино. Увы, Сруога выигрывал не часто, и странно было видеть, как он нервничает и сердится от проигрыша. Он болезненно раздражался, становился угрюмым, замолкал, сжимал губы и посасывал трубку. Проиграв, Сруога расхаживал вокруг, враждебно поглядывая на противника. Потом некоторое время наблюдал, как играет другая пара. Снова садился к столу и внимательно следил за игрой и наконец сам брал у кого-нибудь черные или белые и начинал играть, тихо, задумчиво, не поднимая глаз от доски.
В Инсбруке мы позаботились обо всем необходимом для альпиниста. Когда мы надели брезентовые куртки, подкованные большими гвоздями ботинки, взвалили на спину тяжелые рюкзаки (в них мы переложили взятые еще из Каунаса колбасы и сало), прицепили к ним котелки, взяли в руки ледорубы, – мы ничем не отличались от сотен других туристов, которые толпами валили по всем улицам.
Сев на поезд, мы сошли на полустанке Штейнах. Перед нами, сколько видел глаз, возвышались горы, далеко уходя в небо в легком утреннем тумане, уже пронизанном лучами солнца. Казалось, до вершин рукой подать и не пройдет двух часов, как мы доберемся до самых дальних. Шаг за шагом, тринадцать туристов двинулись по горной тропе.
Но не прошло даже часа, как нам уже казалось, что силы иссякли, что сделаешь еще три шага и свалишься. Но делаешь три, и еще десять, и еще двадцать – и все еще стоишь на ногах. И только когда руководитель находит подходящую полянку и позволяет сесть, мы с невероятным наслаждением сбрасываем рюкзаки и растягиваемся на теплой земле меж камней! Мимо снуют туристы, здороваясь с нами привычным здесь: «Grьss Gott». Изредка появляется погонщик мула, на спине которого приторочены плоские бочонки. Это замечательное тирольское вино, утеха альпинистов, едет в горные хижины.
Так началось наше путешествие по Альпам. Оно продолжалось две недели. В первые дни, когда мы поднимались все выше по горным лугам, переходили вброд холодные ручьи, текущие с вечных ледников, все было внове для нас. А наш руководитель, словно подзуживая нас, уставших от тяжелой ноши, иногда говорил:
– Что ж, наверно, лучше пить молоко у мамы в деревне или лежать, вывалив пузо у озера, чем таскаться по незнакомым горам?
А мы ничего не отвечали, только тайком вздыхали. Поначалу плечи ныли под непривычной ношей – двадцатью килограммами всевозможных продуктов, которые, правда, таяли день ото дня. Выяснилось, что в горных хижинах можно недорого питаться, и мы совсем отказались от своего груза, тем более что в горах не просто приготовить себе пищу. Но чем дальше, тем веселей шли мы по горам. Перед нами открылась величественная картина – мы подошли к ослепительно сверкавшим ледникам. Солнце, отражаясь во льду и белом снеге, просто обжигало глаза сквозь черные очки. У тех из нас, кто попробовал на ходу загорать, закатав рукава и штанины, с рук и ног вскоре слезла кожа.
Тирольские Альпы пересекали тропинки, помеченные камнями, выкрашенными в красный цвет. И лишь по этим тропинкам можно было идти. Там, где кончались альпийские луга и начиналось царство вечного снега, приходилось идти по узким опасным тропам. Здесь то и дело попадались надписи: «Nur fьr Schwindelfreie».[59]
На самом деле, брала оторопь при взгляде вниз – далеко-далеко под тучами виднелись озаренные солнцем или покрытые туманом долины, темно-зеленые, со спичку величиной ели, узенькие нити серебристых рек. А подняв голову, можно было увидеть высокую вершину, на которой не так давно ты побывал со своими товарищами. Все это снилось мне еще несколько лет после возвращения с Альп.
Мы ночевали теперь в горных хижинах. Они были разбросаны повсюду – и на альпийских лугах, и в горных лесах. Они были даже на ледниках, куда, казалось бы, так трудно доставить строительные материалы. И все-таки их построили, оборудовали, устроили комнаты отдыха, небольшие уютные ресторанчики с видом на горы, леса, реки – на удивительный альпийский мир.
Казалось, что наш руководитель вновь родился в горах. Он рассказывал нам свои приключения и путешествия по Кавказу во время первой мировой войны, объяснял, что Альпы по сравнению с Кавказом кажутся красивой открыткой. Кавказ величествен и дик, а эти горы уже исхожены туристами вдоль и поперек. Сруога мечтал еще когда-нибудь попасть на Кавказ, где он когда-то бродил, прячась от мобилизации в армию Временного правительства, жил у полудиких горцев, которых никогда не забудет.
Однажды, спустившись на горные пастбища, мы под вечер оказались в избушке, в которой уже было полно туристов. Сруога с трудом достал матрацы для наших женщин, а мы сами решили спать в хлеву, где владелец хижины постелил нам свежее сено. Когда мы легли, сквозь дырявую крышу мигали далекие звезды, а за дощатой перегородкой блеяли овцы и козы. Хоть мы и выпили вина, сон не приходил. Сруога вспомнил Каунас, университет, куда ему явно не хотелось возвращаться. Да и вообще он, скорей всего, не был доволен своим занятием – он преподавал потому, что мог без труда прожить на профессорское жалованье. В те годы профессиональные литераторы нищенствовали. Сруога любил далеко не всех своих коллег, и теперь, когда мы оказались одни, без женщин, он, не стесняясь, выражал свои симпатии и антипатии. Всех профессоров он делил на две категории. Одних он называл «дельными стариками», а других – «задницами» (по правде говоря, он применял даже более крепкое слово).
– Креве? О, Креве – это дельный старик… – говорил он без колебаний.
– А историк Йонас Ичас? – с любопытством спрашивали мы.
– Ичас – задница, – коротко отрезал Сруога. – В эту же категорию входит и Владзюкас…
– Какой Владзюкас?
– Шилкарскис… Хоть и пишет толстые книги по-немецки про Владимира Соловьева, но все равно – задница. А если вам нужен дельный старик, – Карсавин дельный старик. Ему палец в рот не клади, он свое дело знает.
– А Тумас?
– Тумас – писатель. Тоже дельный старик.
Любопытно, что за все путешествие Сруога ни словом не обмолвился о том, чем он жил, – ни о литературе, ни о театре. Правда, еще в Вене он сводил нас в оперетту, но это было и все. Так шло наше путешествие по горам. Когда однажды утром мы проснулись и вспомнили, что сегодня в Литве престольный праздник святой Анны, вокруг нашей избушки бушевала вьюга. Выпив кофе, мы отправились вслед за проводником. Перед особенно опасными горными тропами мы нанимали проводника. Сегодняшний наш гид, усатый пожилой тиролец, утром разбудил нас русскими словами: «Вставайте, ребята!» – в войну он угодил в плен и еще не успел забыть выученные в России слова. Было холодно, в молоке туч виднелась тропа лишь на несколько шагов. Мы обвязали шарфами уши, на руки натянули запасные носки. Но через каких-нибудь полчаса вдруг засияло такое солнце, что мы не знали, куда прятаться от жары, хотя вокруг простирались бескрайние снежные поля, а над нами возвышались исполинские белые вершины.
Отдохнув, мы отправились в самую тяжелую часть путешествия – все ближе к величественной вершине высотой в 3774 метра – к Вильдшпитце. Мы шли с трудом, медленно. Чем выше мы поднимались, тем реже становился воздух. Когда мы оказались на подступах к вершине, часть наших экскурсантов, в том числе все женщины, почувствовали себя так плохо, что их пришлось оставить внизу, а мы – Сруога и несколько парней, сердца и легкие которых были в порядке и у которых не кружилась голова, – еще добрых полдня поднимались вверх по гребню горы, который то исчезал в тучах, то снова манил нас недалекой вершиной. Бывали минуты, когда казалось, что мы так и не доберемся до цели, но решимость побеждала все, и, переведя дух, покрепче связавшись веревками, мы снова взбирались в гору.
Наконец – какое счастье! – мы достигли одной из самых высоких вершин Австрии. Еле живые, мы упали на камни (на самой вершине почему-то не было снега) и глядели вдаль, где на горизонте возвышались белые угловатые исполины. Было бесконечно тихо, словно замолкла вся вселенная. Не слышно ни воя ветра, ни грохота ледников, ни журчанья серебристых ручьев. Удивительно и величественно. Мы смотрели вдаль. Под нами то и дело проплывали облака, скрывая долины, которые раньше сверкали, озаренные солнцем. Иногда облака летели вровень с нами, и тогда мы сами на минутку исчезали в мокром и влажном тумане. Иногда падали снежинки, но они тут же исчезали, и снова горы и долины озарялись ярким светом, и все было странным, – кажется, никогда больше не вернемся в мир глубоких долин, откуда мы пришли, в мир, где нас ждут города, грохот и книги…
Но шло время. И когда спустились к ожидающим нас друзьям, а потом вместе с ними оказались еще ниже, мы уже стали тосковать по тому, что оставили за собой. И все чаще не только вспоминали горные луга и леса, но думали и о далекой Литве, о Каунасе, об оставленных там друзьях…
Зальцбург, город Моцарта и Стефана Цвейга… Гармиш-Партенкирхен, полный спортсменов и цветов. Горные тоннели, высокие мосты через стремительные реки, всё новые картины прекрасной земли – все это словно сон проносилось мимо нас.
Снова Берлин. Снова над головами грохотали поезда, а под землей рокотал унтергрунд. Мы загорели, окрепли, закалились, мы были счастливы. Берлин казался нам старым знакомым – были места, где мы могли ориентироваться даже без руководителя. Деньги кончались. Но, уже раньше наслушавшись рассказов о ночной жизни Берлина, мы упросили своего руководителя вместе пройтись по ночным театрам и заведениям Берлина.
Мы зашли в несколько таких заведений. Страшно раскрашенные, полуобнаженные женщины пели двусмысленные песенки, и, едва мы садились за столик, как нас окружали голодные девушки, выпрашивавшие вино, бифштекс или хоть бутерброд. Визжали саксофоны, мигали красные, синие и зеленые фонари, на крохотных сценах плясали голые женщины, уставшие от бесконечного шума и бессонницы, – весь этот ночной мир подавлял, печалил и тревожил нас. Мы попали даже в заведение, посреди которого стоял гроб, вокруг горели свечи, на стене были нарисованы черепа, а любители острых ощущений сидели на краю катафалка, распевая песню о бессмысленности жизни…
Выйдя на широкие берлинские аллеи, где больше воздуха, а над парками сверкают звезды, мы вздохнули полной грудью, словно выбравшись из погреба на дневной свет. Все, что мы увидели ночью, было так мерзко, что не хотелось об этом думать. Но мы не сожалели об увиденном – без этого мы не знали истинной картины большого города. Презрение к человеку, извращенная психика, требующая все новых возбудителей, обман – вот что представлял собой ночной Берлин, город, на поверхность которого несколько лет спустя вышли гитлеровцы…
Наш поезд шел на восток. Когда мы миновали Зеленый мост и сошли на Каунасском вокзале, у нас даже зазвенело в ушах: здесь стояла такая невероятная тишина, словно мы попали в далекую захолустную европейскую деревню.
Некоторое время спустя Сруога устроил встречу бывших экскурсантов в деревянном доме по Земляничной улице, где он жил. На встречу он пригласил и некоторых профессоров. Сев за стол, уставленный яствами гостеприимной Ванды Сруогене, мы поднимали бокалы за своего руководителя, за побежденные вершины Альп и за будущие путешествия. После первых тостов стало непринужденней и веселей. Сруога пел сам (голоса у него, увы, не было) и призывал нас спеть свои любимые песни.
Профессор Лев Карсавин, поглаживая свою шелковую бородку, обсуждал со студентами проблему смерти. Он, коренной русский, говорил на таком чистом и прекрасном литовском языке, украшенном редчайшими пословицами, что наслаждением было его слушать.
Приятно было вспомнить недавнее путешествие, его трудности и прелести. На следующий год Сруога снова выбрался в Альпы. Я с ним уже не поехал. В этой второй поездке участвовала Саломея Нерис.
НАЧАЛО КОЛЛЕКТИВА
Я еще ничего не писал о своем новом друге. А без него мне труднее было обойтись. Я познакомился с ним в общежитии «Жибурелиса»,[60]
где жил мой товарищ Йонас Шимкус.
В общежитие входили со двора через огромную кухню, заполненную дымом, паром, вонью белья. В этом чаду бродили грязные женщины – персонал общежития. Во всех углах были навалены груды картошки, свеклы, на столах – кочаны капусты. Убегая от этих запахов, я поскорее нырял в столовую, в которой питались жильцы общежития. Столовая была еще больше кухни. Она давно уже не видела ремонта. В два ряда стояли столы без скатертей. В обеденное время здесь собирались молодые люди. Комната эта тоже пропиталась всеми запахами, характерными для плохих и дешевых столовых. Миновав ее, я оказывался в комнате, в которой жил Йонас Шимкус, переехавший из Паланги в Каунас, и последнее время – Пятрас Цвирка. Там стояли койки, на стенах висела небогатая одежда жильцов, на застеленном бумагой столе валялись книги, объедки колбасы, хлебные крошки. Как-то, войдя в комнату, я увидел за столом незнакомого юношу, который и оказался Пятрасом Цвиркой. Это был крепко сколоченный парень с красиво вылепленной головой, которую, словно шапка, покрывали густые волосы. Его лицо было оживленным. Особенно живыми были глаза, в которых перемежались печаль и смех. Казалось, что этот парень вот-вот скажет что-то остроумное и интересное.
– Венцлова? Знаю. Я еще в деревне читал твои «Сумеречные переулки». Ничего. Приличные стишки. Некоторые, видно, посвящены какой-то фее, – сказал он, пожимая мне руку своей крупной рукой деревенского парня, привычного к тяжелой работе.
Мы разговорились, новый мой знакомый на самом деле оказался необыкновенно остроумным. Он писал стихи, которые мне тут же показал.
– Вот с рифмами у меня просто горе, – сказал с улыбкой Цвирка. – Но Шимкус говорит, что Уолт Уитмен неплохо писал и без рифм, – засмеялся он и спрятал свои стихи в стол.
Так завязалось наше знакомство, которое вскоре превратилось в близкую дружбу, длившуюся до последнего дня его жизни. Поначалу эта дружба была почти детской. Словно дети, мы подсмеивались друг над другом, иногда даже ссорились и снова мирились. В этом виновата была разница наших темпераментов – он был сангвиником, горячим, остроумным человеком, склонным к шутке, иногда даже злой, а я не всегда любил смех и не всегда понимал остроты. Шли годы, и наша дружба росла в литературной работе, в борьбе против сметоновского режима, ее укрепляли одинаковые литературные вкусы, ненависть к фашизму, буржуазии, мещанскому убожеству жизни. Бывали минуты, когда мы немного отдалялись друг от друга, но это обычно было продиктовано мелочами быта, а не причинами идеологического или литературного характера. Потом нас снова сближала дружба – искренняя, полная откровенности и любви.
С первых же встреч меня поразило остроумие Цвирки и его многочисленные комические рассказы о родной деревне и из жизни Художественного училища, в котором Цвирка учился.
– Вчера К. с нашего курса идет по коридору училища и блеет: «Бе-е, бе-е», – рассказывает Цвирка. – А за ним шагает профессор Каетонас Склерюс.[61]
Догнав К., он спокойно кладет ему руку на плечо и говорит басом: «Но вы просто удивительно блеете! Никак не отличишь от барана! Да, вы настоящий баран!..»
– Пятрас, а как вам Диджёкас рассказывал о возникновении византийского стиля?.. Расскажи, – просит Шимкус.
– Итак, – начинает Цвирка, изменив голос, изображая художника Диджёкаса, преподавателя Художественного училища, – сегодня поговорим о византийском стиле… Посмотрим, так сказать, как он возник… Слушайте! Когда-то воевали друг с другом… Ну, как их там… Эти чукчи или калмыки с япошками… То есть я не совсем точно… Не калмыки, а мордва дралась с турками или персами, черт их там поймет, давно было… Не помню… Этого можете не записывать, на экзаменах не спрошу… Так вот. В один прекрасный день дрался король этих черемис с ятвягами… Уже и солнце близится к закату. Вот и говорит жена одного короля, мордовского, что ли: «Хватит драться, говорит, перестаньте… Я чаю вскипятила, сыру нарезала, садитесь, перекусите…» Послушались короли, перестали драться, сели на ковер и едят, самогоном запивают. А этот ковер был расписан этаким орнаментом… А этот орнамент и был византийского стиля… Вот так и возник этот стиль…
Рассказывал Цвирка так комично, что мы просто восхищались. Но не только этим отличался Пятрас.
Придя как-то в комнату Шимкуса, я увидел, что Цвирка кончает фотомонтаж. Вырезанная из какого-то журнала попечительница общежития «Жибурелис» Фелиция Борткявичене держала у себя на коленях президента Сметону, маленького скромного человечка в цилиндре. Фотомонтаж был так хорошо сделан, что казалось – это не две, а одна фотография. В следующий раз я увидел в комнате на стене вырезанный из картона серп, с которым был скрещен настоящий молоток. Когда в общежитие заходил какой-нибудь подозрительный посетитель, молоток снимали. Эти монтажи, несомненно, показывали, какое настроение царило в общежитии.
Пятрас Цвирка писал. Он писал на длинных полосах, разрезав вдоль бумажный лист, и посылал свои заметки в американские литовские газеты, кажется в основном в «Единство». Он говорил, что все начинается с заголовка – если нет хорошего заголовка, и работа не движется с места. Поговаривали, что за свои заметки он даже получил подарки из Америки – галстук или что-то еще… Однажды (значительно позднее) Цвирка рассказал мне, что он начинал с фантастических заметок примерно следующего содержания:








