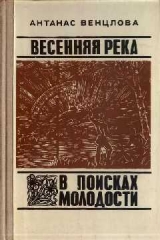
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 43 страниц)
Прошел примерно час. Уже брезжил рассвет, когда на хутор вернулись все трое. Сестра ушла в клеть, а братья, прикурив от одной спички, вскоре исчезли в будке. Прошло еще несколько минут, и солдаты, по знаку старшего, со всех сторон окружили будку. Старший крикнул по-польски:
– Выходи!
В будке что-то зашуршало, раздался зевок и сонный голос сказал:
– К черту! Спать надо!
– Выходите из будки, гадины! – уже по-литовски крикнул старшой.
В конуре кто-то снова зашевелился, и оттуда высунулась рука с оружием.
– Бросай! – крикнул тот же голос. – Руки вверх!
Один за другим из конуры выползли оба Раманаускаса. В одних сорочках, испуганные внезапным нападением, они стояли, подняв руки вверх, и зубы у них стучали. Рядом с шалашом валялся брошенный револьвер.
– Ребята, отпустите! – завопил американец. – Все доллары отдам!
– А, чтоб тебя черт со всеми долларами! – крикнул кто-то из пришельцев, и в это время раздались выстрелы. Американец упал на колени, попытался было подняться, упираясь рукой о землю. Но тут пуля угодила ему в голову. Брат пытался бежать, по и его настигли пули – он свалился на садовой дорожке под старой яблоней.
В это время отворилась дверь клети. В саду показался кто-то белом. Будь темнее, суеверные солдаты могли бы подумать, что за ними гонится привидение. Но было видно, как в длинной, до пят, ночной сорочке выскочила из клети сестра Раманаускасов. На садовой дорожке она сразу же наткнулась на своего младшего брата, упавшего под деревом, в луже крови. Дальше, у будки, лежал старший, американец.
Сестра не увидела солдат. Она бросилась к старшему брату, обняла его и зарыдала. Солдаты не выдержали и попятились. А сестра рыдала как-то чудно. Прислушаешься, и мороз по коже подирает – не то плач, не то хохот…
НАСИЛИЕ
Семена сомнения, посеянные в моей душе Пиюсом Гловацкисом, помаленьку всходили, пускали корни, вырывались на свет божий. Мне становилось не по себе: ведь я сомневался не только в непогрешимости и святости ксендзов, в мои руки попадали книжки, убедительно доказывавшие, что сам бог, ангелы, черти, рай и ад – все, во что я свято верил по наставлениям родителей и тети Анастазии – лишь плод воображения человека. После чтения таких книжек меня охватывал ужас. Опустившись на колени у своей койки или на мессе, я пылко молился, упрашивая господа просветить мой разум, показать, где правда. Увы, бог меня не просвещал и на правду не указывал.
А в жизни было столько жестокостей и несправедливостей! Я часто думал о недавней войне. Я никак не мог понять, почему всемогущий, милосердный бог позволил убивать, расстреливать людей, лишать их рук и ног, морить голодом, болезнями – тифом, дизентерией, испанкой, которые все еще свирепствовали у нас… Если есть бог, то как он позволял расстреливать и бросать коммунистов под лед у Шешупе, гнать босых и голодных пленных по снегу… Ведь это так жестоко!
Нет, думал я иногда, видать, мир подчинен каким-то другим законам, а не тем, о которых несколько раз в неделю на уроках закона божьего медоточиво рассказывает ксендз. Как говорили гимназисты, на уроках он надевает маску, а вообще-то он просто человек, любящий отменно поесть, выпить и повеселиться. Капеллан разглагольствует о библейских событиях как о доподлинных, хотя трудновато поверить, что мир создан за шесть дней, что в древности могли останавливать на небе солнце, что от звука труб рушились стены Иерихона.
От стародавних событий капеллан переходит к более близким временам. Он рассказывает о России, о революции, и здесь он не жалеет темных красок, чтобы изобразить все происходившее там. Он объясняет нам, что коммунизм – неосуществимая мечта, и твердит свою любимую поговорку:
– Коммуна… коммуна… Кому нa, а кому и нет…
И капеллан уверен, что рассеял сомнения, которые породили в головах учеников сама жизнь и старшие гимназисты, особенно те, кто вернулся из России. Хотя среди них, как я уже упоминал, такая же пестрота взглядов. Некоторые записались в атейтининки и верят всему, что твердят ксендзы. Они чуть ли не каждый день забегают перед уроками в костел для утренней молитвы. Таких капеллан очень любит и, что они ни отвечай на уроке, ставит пятерку. Атейтинники спорят с теми, кто придерживается иных взглядов и обзывает их святошами. Правда, большинство прогрессивных гимназистов перешло в реальное училище, что открылось на той стороне улицы, и теперь почти не находится смельчаков, которые бы дали бой капеллану или целому отряду атейтининков.
Ученики реального училища рассказывали, что у них капеллан не знает покоя: они засыпают его такими вопросами, что он корчится как на сковороде и не может унять начитанных, довольно образованных ребят. Бывали случаи, когда капеллан, подобрав сутану, улепетывал из класса и жаловался на своих учеников епископу и в министерство просвещения.
Времена были тревожные. Еще прошлой зимой на рыночной площади собирались митинги, на которых выступали ораторы из Каунаса. Они говорили, что Литва уже независима, что ей нужна армия, и призывали вступать в эту армию добровольцами. Из дома Пликюте в армию ушел гимназист – сын арендатора поместья. Нам казалось, что он поступил благородно и даже героически. Мы шумно проводили его до комендатуры. Из нашего класса тоже ушли в армию двое взрослых парней, а в старших классах записалось даже больше народу. Учителя уважали таких добровольцев и самым последним лодырям выдавали свидетельства о замечательных успехах в учебе. Мне тоже было чем гордиться – ведь наш Пиюс служил в армии. На митингах говорили, что Литву хотят захватить враги, но что это за враги, никто не знал, тем более что по Мариямполе то стайками, то поодиночке еще таскались немцы. Разве они наши друзья? Правда, немец стал иной, чем раньше, напуганный, – шли толки, что в Германии свергли кайзера и там тоже революция.
Вообще-то понять все происходящее было просто невозможно. Одни говорили, что в Литве возьмут власть коммунисты и, забрав землю у помещиков и фабрики у фабрикантов, раздадут. Другие говорили, что большевики (а это, оказывается, те же самые коммунисты) вырежут ксендзов и разрушат костелы. Дрожь пробирала при одной мысли об этом. Учителя ничего путного не могли сказать – они сторонились политики и с нами в полемику не вступали.
Да, время было такое, что все просто кипело, бурлило, словно в котле. Митингам не было конца. Они возникали часто, особенно по воскресеньям и базарным дням, когда рынок заполняли окрестные крестьяне. Ораторы выступали с балконов. Мы, гимназисты, – непременные слушатели. Одних толпа сразу же сгоняла с балкона свистом, других просто не слушала и расходилась. Но бывали и такие, кто звонким голосом, ярким примером и картинами недалекого будущего привлекал уйму слушателей и сторонников. Выступали учителя и гимназисты последних классов, ксендзы и безбожники, приверженцы буржуазной Литвы и социализма.
– Мы создадим независимую Литву, в которой все будут свободны и счастливы! – говорит один. – Мы установим истинную демократию, без сословных различий, и все получат равные права, кроме, конечно, поляков, русских и евреев! Им-то мы не позволим хозяйничать в нашей стране! Мы устроим собственные, литовские, банки, лавки, фабрики, все в Литве станет литовским!
Толпа аплодирует оратору, и кажется, что он вроде говорит верно. Потом выходит другой.
– Выступавший до меня восхвалял буржуев! – кричит он. – Он собирается взвалить ярмо на инородцев, которые живут вместе с нами и угнетены своей да еще и литовской буржуазией. Литовские банкиры и ксендзы опять захотели сесть на шею рабочему человеку! Мы должны построить новую Литву, которой бы правили трудящиеся, а не рай для кулачья и ксендзов…
И этому оратору хлопают. Но если первого, видно, поддерживали в основном учителя нашей гимназии, атейтининки и крупные окрестные хозяева, то второму горячо аплодируют рабочие с лесопилки, с мельницы и мастеровые, реалисты, батраки и прочий простой люд.
Бывает, ноги заноют, пока стоишь на рынке и пялишься на балкон, с которого доносятся возгласы ораторов. Стараешься пробраться поближе к балкону, потому что громкоговорителей тогда не было и издали слышишь только отдельные слова:
– Граждане… независимость… социалисты и большевики… всеобщее равенство и свобода… долой евреев, русских, поляков и прочих!
Или:
– Товарищи… не дайте себя одурачить… кровопийцы… банкиры и длиннополые ксендзы… долго дурачили наш народ… создадим Литву для тех, кто трудится…
И опять:
– В тюрьму таких! На что нам, граждане, такой рай, как в России… Независимость… Немцы нам помогали и еще помогут…
И снова:
– Катись к своему Ураху!.. Наша буржуазия не постеснялась продаться империалистам… немцы пили нашу кровь, теперь эти… единство рабочего люда!..
Нет, и впрямь голова кругом пойдет от этих речей. Господи, а правда-то где? Я возвращаюсь в свой дом, и здесь снова споры допоздна. Увы, Пиюса Гловацкиса не было, – кажется, он уехал учиться в Вилкавишкис. Не было человека, который бы, не горячась, доказывал свою правоту, заражая своим тоном других, заставляя их спокойно приводить свои аргументы… Нет, теперь споры гимназистов без складу, без ладу и толку; обе стороны, раскрасневшись, машут кулаками и кричат наперебой:
– Осел, что ты порешь!..
– Заткнись, дурень!.. Иди, наябедничай капеллану…
– А ты-то? По большевистскому раю истосковался? Я бывал в России, видел, что они там творят…
– А что испокон веков творят попы?.. Инквизиторы… Кто сжег Джордано Бруно? Кто преследовал Галилея? А у нас – кто в людей стреляет и сует под лед? Разве не твои ксендзовские прихвостни?
После таких споров долго не спалось. Где правда? Правда где? Скажет ли мне кто-нибудь?
Ответа не было. И я все меньше души вкладывал в воскресные молитвы в костеле.
Время шло, и мы поневоле сталкивались с событиями, которые заставляли призадуматься даже бездумных гимназистиков, озабоченных только зубрежкой: что это творится вокруг? Куда мы идем, что будет дальше?
Больше не преподавал нам вахмистр Шульц, человек, как выяснилось впоследствии, не такой уж плохой. Он исчез из Литвы вместе с немецкой армией. Теперь немецкий язык преподавала зрелая, даже можно сказать, перезревшая барышня. Из ее рассказов мы знали, что она родом из Кибартай, а немецкий язык выучила в каком-то швейцарском монастыре, куда отдали ее богатые родители. Там, по ее словам, она была примерной ученицей. Иногда она приносила нам в класс свои монастырские тетради. И впрямь, письменные работы отличались необыкновенной аккуратностью, без клякс и перечеркивания, не то, что наши, – казалось, их писал мастер каллиграфии. Немногочисленные ошибки чуть-чуть подчеркнул учитель красными чернилами. Это должно было служить примером для нас, неслухов, сорванцов и распутников, какими несомненно считала нас барышня учительница.
Она немного смахивала на сову: большие темные, глубоко посаженные глаза оплела сеть морщинок, волосы туго затянуты на макушке. Мы не могли ей угодить ни чтением, ни письмом. Она непрестанно журила нас, и в конце концов мы привыкли не обращать внимания на ее придирки. Здоровяки переростки из нашего класса, бывало, поговаривали:
– Старая дева… Что с нее взять? Пускай себе рычит…
Но, оказывается, мы недооценивали барышню учительницу.
Каждое утро перед уроком кто-нибудь из нас по очереди творил молитву. Стояли мы в это время за партами. Учитель обычно поворачивался к доске, рядом с которой висело распятие. Перед молитвой и помолившись мы крестились. Крестился обычно и учитель. Только одиночки – кто был храбрее или независимее других – стояли спиной к классу, прижав к животу классный журнал, и не поднимали руки. Вся эта церемония проходила беззвучно. Иначе поступала лишь барышня – учительница немецкого. Она стояла лицом не к доске (или распятию), а к классу и крестилась вслух:
– Во имя отца и сына и святого духа. Аминь!
Неизвестно почему это казалось нам невероятно смешным, и мы поначалу, пока не привыкли, едва удерживались от смеха.
И вот как-то учительница, перекрестившись, заметила нечто невероятное. В то время, как все прилежно крестились, ученик, стоявший перед ней за первой партой, не пошевелился и не поднес правой руки ко лбу.
– Перекрестись! – вдруг, густо побагровев, воскликнула учительница.
Ученик не шевельнулся. Он упрямо смотрел прямо в совиные глаза учительницы, и это привело ее в ярость. Она, монастырская воспитанница, так аккуратно писавшая работы по немецкому, просто не могла себе представить, что этот коренастый гимназистик, сын работницы мариямпольской пекарни, смеет не креститься, если крестится весь класс, если, в конце концов, крестится она сама!
– Перекрестись! – снова заорала учительница, и в классе стало так тихо, как будто все вымерли.
– Ниспошли нам господь… – начал тоненьким голоском Вищюлис – сегодня был его черед говорить молитву.
– Подожди, подожди! – учительница отмахнулась от Вищюлиса. Потом, снова уставившись ненавидящим взглядом на гимназистика, который, побледнев, насупившись, наморщив лоб, стоял перед ней, закричала в третий раз: – Перекрестись!
– Я не буду! – как-то визгливо воскликнул гимназистик.
– Ах, не будешь? Ладно, не крестись! – заорала барышня учительница и, не дождавшись конца молитвы, стуча высокими каблучками, выбежала из класса.
Какой-то смельчак, подбежав, приоткрыл дверь и увидел, что барышня понеслась по пустому коридору прямо в учительскую. Видно, она решила дожидаться конца урока, когда в учительскую приходит директор.
Мы сидели в классе ни живые ни мертвые. Не перекрестившийся гимназистик преспокойно оставался на своем месте и, словно не придавая случившемуся значения, читал какую-то книгу. Он любил читать книги – и все серьезные, научные.
Вскоре класс разделился на два лагеря. Явно больше было тех, кто считал, что учительница поступила правильно, ведь не перекреститься – преступление! Но нашлись и такие, кому казалось, что креститься или нет – личное дело каждого ученика и принуждать креститься – недопустимое насилие над совестью другого человека. Я относился к числу последних. Этот спор, начавшийся на несостоявшемся уроке, продолжался после обеда и даже после того, как дело строптивого гимназистика уже было решено…
А решилось оно довольно быстро. Чуть ли не в тот же вечер по требованию учительницы был созван педагогический совет. Что происходило на совете, мы не знали, хоть кое о чем догадывались. Учительница, разумеется, изложила свою жалобу. Неизвестно, долго ли продолжались споры, но на следующий день нам сообщили, что ученик исключен из гимназии.
Когда классный наставник сообщил об этом, мы не поверили своим ушам. Атейтининки и то не все считали, что за такой проступок можно исключать из гимназии. Но решение было принято. Гимназистик, выслушав вместе со всем классом приговор педагогического совета, тихо, не протестуя и не споря, собрал свои книги и тетради. Уложив все в старый потертый портфельчик, он поднялся со своего места и тихо покинул класс.
Нашему классному наставнику тоже, видно, было не по себе. Сообщив решение и ничего больше не объясняя, он торопливо вышел из класса. А мы остались сидеть, многие, как мне казалось, сгорали со стыда. Гимназистик ведь не оскорбил учительницы. Он не сказал ей ни единого злого или невежливого слова. Он вообще ничего не сделал, только, видно, не веруя в бога, поступил так, как подсказывала ему совесть. И вот рушится самая светлая мечта его матери, для которой ученье сына было высшим счастьем. Снова заботы, куда определить ребенка, чтобы не вырос дармоедом и стал образованным, подготовленным к жизни человеком…
Примерно такие мысли приходили мне тогда в голову. Я думал: вот в нашей гимназии, где должны бы царить высокие благородные чувства, справедливость, уважение к чужим взглядам, как ни странно, все происходит наоборот.
Впервые я с явной неприязнью подумал о своих наставниках, впервые я возненавидел их, и прежде всего учительницу немецкого. Кто-то уже давно говорил, а теперь я уже в этом не сомневался, что карточки, которые раздает ксендз перед пасхальной исповедью, придуманы только для того, чтобы проверить, кто приходил к исповеди, а кто – нет. А если кто не ходил – тогда можно на такого, как говорится, обратить внимание, вынюхать через атейтининков, что у него в голове, что он делает, а потом найти повод и избавиться от «опасного элемента»!
«Нет, ваши слова, все ваши толкования – неправильны! – Думал я. – Вы делает все, чтобы удержаться при власти! Вы не терпите инакомыслящих. И я ненавижу вас – лжецов и обманщиков…»
А мы-то? Мы оказались трусливыми, словно зайцы. Я не мог простить себе и другим, что в нашем классе не нашлось никого, кто бы поддержал изгнанного товарища, кто бы смело и прямо сказал немке или классному наставнику, что их поступок неправилен и бесчеловечен. Нет, такого в нашем классе не нашлось! Каждый день мы приходили в школу, отвечали у доски, после обеда готовили уроки, жили, ели, спали, несли всякую чушь – про кино, про вечеринки, про девочек – как ни в чем не бывало. И это было страшнее всего…
Нет, нет! Все, что говорят нам ксендзы, – ложь! Их слова и дела лживы насквозь! И я стану подлецом в собственных глазах, если каждое утро и вечер буду по-прежнему молиться, если буду ходить в костел, приходить к исповеди и рассказывать свои грехи этим бесчестным и безжалостным людишкам. У меня в душе происходил переворот, несправедливое исключение товарища по-новому осветило мне все – жизнь, людей и их поступки. Я чувствовал, что становлюсь другим.
А ДНИ БЕГУТ
Там, где сейчас находится здание театра, в Мариямполе когда-то стоял огромный нескладный деревянный Дом трезвости, прогнивший, покосившийся, ветхий. Много лет он не знал ремонта. Стены его покривились, пол прогнил. Но жилье в нем было самое дешевое, так что, перейдя в шестой класс, я тоже очутился в его стенах. На одной половине дома был обшарпанный зал, в котором проводились всякие собрания, а на другой – несколько комнат. За вонючей, дочерна закопченной кухней, в которой носилась босая богомолка, бледная, с жиденькими волосиками, – наша хозяйка, и темными сенями находилась комната, длинная, как гумно. В ней у стены стоял ряд железных ржавых коек. В самом углу лежал старший из нас, Казис Сенкайтис. Он успел отслужить в армии и поступил в наш класс. Жил здесь пятиклассник Винцас Жилёнис[64]
и несколько гимназистов младших классов. Казис Сенкайтис был тихий и невероятно работоспособный человек. Латинские спряжения и всевозможные правила и исключения, в которые я ленился углубляться, хотя вообще латынь мне давалась, он как орехи щелкал. «Ante, apud, ad, adversus, circum, circa, citra, cis»[65]
и прочие премудрости он шпарил наизусть, не глядя в книгу. Когда мне было нужно узнать что-нибудь в этом роде, я обращался к нему, словно к энциклопедии. Он увлекался и входящим тогда в моду языком эсперанто, читал книжки эсперантистов, переписывался на этом языке с кем-то в Каунасе, даже что-то переводил с литовского на эсперанто и частенько спрашивал меня:
– Сu vi povas paroli esperante?[66]
А я отвечал:
– Mi povas paroli esperante![67]
Дальше этого мои познания, по правде говоря, и не пошли.
Вскоре мы заметили, что Казис Сенкайтис очень нуждается. Из дому ему почти ничего не привозили. Наша хозяйка не раз, бывало, звала его к себе и требовала, чтобы его родители или братья привезли больше продуктов. И он возвращался от хозяйки неестественно красный, со слезами на глазах. Он был чувствителен до крайности. По бедности он продавал своим товарищам учебники, без которых мог обходиться. Каждый цент (вместо упавших в цене немецких марок к тому времени ввели литы) был у него на счету.
Сенкайтис то и дело кашлял и отхаркивался в свой замусоленный платок. Особенно надсадно кашлял он ночью, накрывшись поверх убогого одеяла еще солдатской шинелью, которая тоже не грела его в этой холодной, как сарай, комнате. Сенкайтис и спал-то мало, – просыпаясь, я каждый раз слышал, как он кашляет и ворочается с боку на бок. Он никогда не рассказывал о себе, о своих родителях, братьях и прочей родне, вечно чего-то стеснялся, не хотел быть другим, в тягость. Он охотно помогал младшим товарищам по комнате готовить уроки.
Винцас Жилёнис – компанейский, отличный парень. Меня занимало, что он родом из той же деревни Видгиряй, где родилась моя мать. Выяснились и более поразительные вещи. Оказывается, его отец в юности был влюблен в мою мать и даже хотел на ней жениться! Свадьбу расстроил мой отец, который прибыл с дальней стороны – от Любаваса – и посватался к Эльзбете Веливюте. Как она потом рассказывала, ее родители рано умерли и она сиротой росла в чужом доме, нянчила детей у своих родных. И когда вдруг появился высокий молодцеватый парень, она, долго не думая, вышла за него и уехала в темное захолустье, в курную избу, к незнакомым людям, где ей было суждено прожить долгую и нелегкую жизнь, вырастить целый выводок детей, похоронить двух из них и, после смерти мужа, прожить еще много лет.
Насколько я помню, мы, жильцы большой комнаты, вроде бы ладили. Питались мы слабовато, во всяком случае, ощущение голода никогда не покидало нас. Но мы меньше всего думали о еде. У нас были другие, куда более интересные дела и занятия.
Мы уже не раз побывали в театре и кинематографе. Кино тогда было немое, показывали бесконечные серии фильмов о ковбоях, которые ездили на высоких крытых повозках; девочки непременно плакали на длиннющих любовных фильмах с Верой Холодной, Мозжухиным и Руничем. Мы видели «Илиаду» и несчетное множество всяческих кинолент – подходящих и не подходящих для детей. Рядом с экраном за расстроенным пианино во время сеанса обычно сидела дама и как в веселых, так и в трагических местах барабанила какой-нибудь «собачий вальс».
А каунасская труппа обычно играла в дощатом здании летнего театра, выросшем уже после войны. Там были довольно просторный зал со сценой, фойе, буфет и все необходимое для представлений. Мы радовались, попав на галерку. А вершина счастья, если придешь пораньше и займешь место у самого барьера. Сзади немилосердно напирают другие зрители – дети и взрослые, но ты все равно самым лучшим образом видишь и слышишь все происходящее на сцене.
«Сын властелина» Путинаса, как и мистерия «Все люди», увиденная когда-то в зале реального училища, запомнился на всю жизнь. Эту пьесу я уже читал, но теперь, когда слова жестокого Крушны и его военачальника Маураса, нежной Дангуоле, юношей Скайдры и Гитиса произносили настоящие актеры, это было совсем другое дело! Нам открывалась трагедия древних времен, кипящая благородными и низменными страстями, борьба которых заставляла нас забыть, что это только игра.
Помню, как мы после спектакля, зараженные его пафосом, сами поставили дома эту трагедию. Я был стариком Крушной, а Винцас Жилёнис – моим полководцем Маурасом. Увы, спектакль наш продолжался недолго, потому что некому было играть Дангуоле – с жившими в соседней комнате ученицами-дзукийками мы мало были знакомы и не посмели их пригласить. Так что представление кончилось на первых же сценах.
Нам казалось, что по сцене ходят и разговаривают какие-то особенные люди, не то что наши знакомые. И я просто остолбенел, когда на следующий день, гуляя с Винцасом в городском саду, увидел, что навстречу идут те самые актеры, которые вчера выступали на сцене. Там они были в гриме, но я все равно их узнал. Они неторопливо приближались по дорожке, а мы, удивленные и восхищенные, глядели на артистов и думали, какие они необыкновенные люди. И одевались они как-то иначе, чем было принято в нашем городе, даже шляпы лихо заломлены и непринужденно сдвинуты на затылок. Все поведение актеров просто кричало: вот идут служители муз…
С ними были и актрисы – молодые, красивые, веселые, в каких-то невиданных вычурных одеяниях, в невероятных шляпках, с разноцветными зонтиками. Мужчины что-то рассказывали, а женщины беззаботно, раскатисто и звонко смеялись. «Как интересно они живут, – рассуждал я. – Все они такие замечательные! Ведь для них существует только их искусство, радости и горести вымышленных людей, они сами, без сомнения, благородны, честны, полны возвышенных чувств!» Когда мы разминулись с актерами и еще раз обернулись, один из них, с довольно багровым лицом (мне показалось, что он слегка навеселе), отделился от остальных и обратился ко мне:
– Ты мне не скажешь, братец, где тут у вас можно…
И он произнес такое деревенское слово, что я тут же покрылся румянцем и даже не помню, смог ли указать искомое заведение.
…В гимназии я прослыл знатоком литовского языка. За письменные работы и за устные ответы я ни разу не получил меньше пятерки.
Когда наш преподаватель литовского уехал в Каунас учиться и у нас появились новые учителя, положение не изменилось. Я по-прежнему хватал пятерку за пятеркой, а мои сочинения учитель нередко читал в классе всем в пример.
Поощренный таким успехом, я серьезно заинтересовался вопросами языка. Одну из письменных работ я ни с того ни с сего написал стихами. Написал и вдруг подумал, что это учителю не понравится, но тот, как и каждый раз, оценил работу пятеркой, и еще вдобавок прочитал ее в классе, и мое самомнение еще больше возросло.
Успех в одной узкой области принес мне ощутимую материальную пользу. Какой-то врач, наверное по рекомендации учителя, пригласил меня обучать литовскому своего отстающего сына. Ребенок был болезненный, и нелегко было вдолбить ему в голову, как что пишется. Однако, получив в конце месяца несколько литов, я вдруг почувствовал себя независимым человеком. Я смог наконец купить любимые книги и тут же приобрел «Просветы» Вайжгантаёа. Книга давно манила меня своей обложкой – там была изображена женщина, державшая в руках солнце, от которого во все стороны расходились широкие лучи. Внизу обложки – еще три женщины, и каждая тоже с солнцем. Получив деньги, я расплатился с хозяйкой за квартиру и сдал ботинки в ремонт.
Так как мои уроки продолжались и второй и третий месяц, все настойчивей возрождалась моя мечта купить велосипед. Это ведь вершина человеческого счастья! Я копил деньги несколько месяцев и все время мечтал, как буду кататься на этом велосипеде не только по городу, но доберусь и до дальних мест – до Шуйского леса, в котором весной бывают гимназические маевки, а то и до Калварии. На самом деле, ведь по хорошей дороге я могу доехать до самого дома! Ведь теперь, когда кончаются припасы или нужны деньги, чтобы платить за учебу (далеко не всегда меня освобождали от платы), я топаю пешком тридцать километров в одну, а потом в другую сторону. Нет, как ни верти, велосипед просто сокровище!..
И вот моя мечта осуществилась. Велосипед я купил у какого-то ученика реального училища. Велосипед был, конечно, не новый – рама погнулась, краска облупилась, колеса кое-где заржавели, шины и то в заплатах. Но катился он бойко, я научился рулить и теперь отважно пустился через весь город домой. Казалось, все смотрят на меня с завистью и дивятся: «Черт подери! Ну и везет же людям! Сам, без ничьей помощи приобрел велосипед и катается теперь, как настоящий барин!»
Я долго не мог вволю насладиться своей покупкой. Только вернусь, бывало, из гимназии и пообедаю, как сразу сажусь на велосипед и, гляди, уже у кладбища или мчусь по берегам Шешупе, или делаю круги во дворе, а товарищи вышли, расселись на крыльце и ждут, когда позволю и им сделать круг-другой.
На ночь я велосипед вкатывал в кухню или даже в комнату. Ведь интересно, засыпая или утром, уже проснувшись, пока лежишь на кровати, посмотреть на свой велосипед.
Велосипед, что и говорить, не новый. Руль у него сразу же заходил ходуном и при езде частенько подводил. Сиденье тоже следовало бы опустить, а то я вынужден был страшно изгибаться. Но тут нужен был специалист – сам этого не сделаешь. Камеры тоже то и дело лопались. А тогда снимай шину, латай резиной дырочки, потом надевай на колеса и накачивай. Занятие это веселым не назовешь. Но мне на помощь приходили приятели, в прошлом – владельцы велосипедов. Наконец все приведено в порядок, и снова катайся себе на здоровье.
Днем я ставил велосипед во дворе за кустами сирени. Но из окна нельзя было увидеть, стоит ли велосипед на своем месте. Моя хозяйка как-то сказала:
– Смотрите, чтоб у вас велосипед не увели…
– Если кому-нибудь он нужен больше, чем мне, пускай берет, – ответил я не то высокомерно, не то в шутку.
И, как на грех, на следующий день я оставил на время обеда велосипед во дворе, а когда через часок вышел на улицу, его и след простыл. Как обычно в последние дни, я поставил его за сиреневый куст, не запирая на замок, поскольку сразу после обеда собирался ехать к Самуолису в Тарпучяй посмотреть электрический звонок, который тот только что смастерил. Я ищу там, ищу сям, выбегаю на улицу, смотрю в сторону костела и городского сада, но мой велосипед как сквозь землю провалился…
– Видать, нашелся человек, кому этот велосипед нужен больше, чем вам, – смеялась хозяйка, – вот он и забрал. Сами же говорили…
– Да, видно, кому-то он был больше нужен, – отшучивался я, хотя мне ничуть не было смешно.
…Над моей кроватью висела картинка, на которой был изображен Христос в венке из белых роз, идущий во вьюгу впереди двенадцати революционеров по петроградской улице. Я самозабвенно декламировал поэму Александра Блока «Двенадцать», многие строфы которой нравились мне и возбуждали в моей душе протест. Картинку я вырезал из книги большого формата. Я расхаживал по нашей комнате и громко повторял:
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.
Мне было все равно, слушают меня или нет. Поэма чем-то перекликалась с моими настроениями – то лиричными, то полными смутного бунта против нашего унылого житья, против несправедливости учителей, исключивших из гимназии нашего товарища, против того, что мы голодны, плохо одеты, в конце концов – против того, что у меня украли велосипед…
Моей декламацией и вообще стихами, которые я тогда читал, очень интересовался Винцас Жилёнис. Иногда мы битыми часами разговаривали о любимых поэтах.
Я читал Блока дальше. Мне нравилось удивительное звучание стиха и сложные образы, которыми, казалось мне, так верно передана мощная поступь революции. Стих был пронизан лирикой, чистой и холодной, как призрачная вьюга.
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди – Исус Христос.
…Я читал «Преступление и наказание». Словно наваждение навалился на меня сон Раскольникова – дохлая кляча, которую безжалостно колотят и гонят вперед. Я воочию видел пьяницу Мармеладова, Раскольникова, который прячет под убогой одежонкой топор и крадется к процентщице, видел Сонечку, несущую на своих плечах горе всего мира, и, затаив дыхание, слушал ее разговор с Раскольниковым… Эта книга мучила меня. Она распахнула мне дверь в мир обнаженных человеческих душ – страдающих, мечущихся, ищущих выхода из горя и кошмара. Я впервые приобщился к великой литературе и почувствовал ее завораживающую силу…








