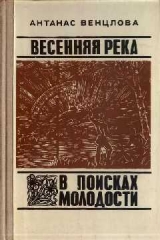
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 43 страниц)
– Жив, – ответил я. – Далеко он от Литвы…
Эта старушка когда-то уложила нас, как детей, в своей избушке, угощала и благословляла, когда мы уходили. И как приятно было столько лет спустя снова поцеловать ее добрую, материнскую руку…)
Около Друскининкай, выйдя к Неману, мы дышали речной прохладой и глядели в сторону демаркационной линии, куда мы не могли попасть. Люди рассказывали, что в Друскининкай часто приезжает из Варшавы Пилсудский и, сев на берегу Немана, долго глядит на Литву, слушает литовские песни и то ли тоскует по ней, то ли мечтает присоединить ее к Польше.
Лишкява… Древний замок, отважные люди… Теперь это маленькое обшарпанное местечко, где перед домами греются на солнце старички. В лавке жалобно жужжат прилипшие к липучке мухи. Мы пили теплое прокисшее пиво, а местные татары, зашедшие купить табаку, смотрели на нас с удивлением, не решаясь заговорить.
Но если крестьяне сами не заговаривали с нами, то Пятрас непременно сам задавал веселый вопрос или острил. Райла уже который день жаловался на неудобства и все приговаривал:
– Эх, на автомобиле куда бы лучше…
На дорогах вообще не было видно автомобилей. Очень редко по шоссе проносилась машина какого-нибудь начальника или крупного спекулянта. Не было даже автобуса. Изредка проезжал на велосипеде учитель или начальник участка.
– Это вам не Западная Европа, – издевался Пятрас.
Зато дорога каждый день вознаграждала нас интересными видами. Чего стоит одна деревня Пярлоя! Несколько сотен изб, длинные улицы, костел, как в городе, а все-таки это деревня. И очень своеобразная деревня. Когда-то она прославилась тем, что ее жители организовали «собственную» республику, вооружились пулеметами и несколько дней не пускали ни литовской, ни польской власти. Еще далеко от Пярлои мы слышали советы:
– Когда войдете, здоровайтесь с каждым встречным. А то вас еще поколотят и выгонят из деревни.
Так оказалось на самом деле. Мы здоровались с каждым – стариком и ребенком, и каждый вежливо отвечал нам, снимая шапку.
Тогда, в 1930 году, таутининки решили отпраздновать юбилейный год Витаутаса Великого. Был такой юбилей – 500 лет со дня смерти князя Витаутаса. Кто-то решил торжественно носить по всей Литве его портрет (портрет сопровождали два не всегда трезвых щеголя-неолитуана, с которыми я когда-то служил в Министерстве сельского хозяйства). Кроме того, во многих местах водружались цементные памятники Витаутасу. На площади в Пярлое тоже возвышался Витаутас, а по лесам вокруг него ходил художник Пятрас Тарабилда.[71]
Увидев нас, он страшно обрадовался и стал жаловаться:
– Ребята, я голоден как волк! Не найдется ли у вас несколько литов?
– Так ты же автор памятника! Сам должен нам выставить хороший обед, – сказал Цвирка.
– Автор-то автор, – сказал Тарабилда, – чистая правда, что автор. Приехал посмотреть, как движется дело, и думал, получу гонорар от настоятеля – он здесь глава юбилейного комитета.
– Получил?
– Получишь! – возмущался художник. – Прихожу к настоятелю, вижу: сидит он и картошку чистит, сидит себе и чистит. Хоть бы встал, руку подал, за стол пригласил… Я уже слышал от местных, что за крещение, свадьбу и похороны он берет у них векселя, а потом пускает хозяйство с молотка… Верить не хотел. Настоятель стал меня спрашивать, сколько стоит в Каунасе приличный дом, – хотел купить. А когда я намекнул на гонорар, едва на меня собак не спустил. Даже ночевать не пригласил – пришлось проситься в дом к добрым крестьянам… – рассказывал художник.
– Вот и готовая новелла, – рассмеялся Цвирка.
В эти дни Пятрас, как всегда, отличался весельем и остроумием. Меня поражало, как быстро он умеет завязывать знакомства и даже дружбу с людьми, которых видит впервые в жизни. В каждом городке, где мы только ни появлялись, тотчас же собиралась молодежь, желающая увидеть молодых писателей, произведения которых она уже читала. Пятрас не разлучался с записной книжкой, в которую он аккуратно заносил услышанные рассказы, интересные изречения, характеристики людей. В дороге мы встречались не только с молодежью – нами интересовались и бургомистры, и начальники полиции.
1930 год был годом расцвета литовского фашизма. Густая полицейская сеть следила за порядком и спокойствием, власти продавали с торгов бедные хозяйства, крестьяне уезжали в Бразилию на поиски работы и хлеба, в каждом местечке слонялись толпы безработных. Я думаю, что эта первая большая поездка по Литве дала много материала для рассказов и романов Пятраса, особенно для «Земли-кормилицы» и «Повседневных историй».
Через Вевис, Кайшядорис и Укмерге мы добрались до Паневежиса и остановились у врача Андрюса Домашявичюса, старого революционера и друга Винцаса Мицкявичюса-Капсукаса. Невысокий врач с норвежской бородкой, по-видимому, хотел убедиться в том, кто мы такие и к чему стремимся. Он расспрашивал нас о «Третьем фронте», о его сотрудниках, о направлении и целях. Насколько помню, врач не пытался уговаривать или критиковать нас – мы были его гостями, и он относился к нам чутко, вежливо, как и его дети, примерно наших лет.
В Паневежисе мы посетили и художника Бернардаса Бучаса, будущего мужа Саломеи Нерис (тогда они были еще не знакомы). В своей мастерской он угостил нас вином, привезенным из Италии. Когда мы откупорили бутылку, вместе с вином в бокал Райлы выпало несколько мух. Он выудил их кончиком ножа, а вино с удовольствием выпил.
– Подарок Муссолини Литве, – смеялся Цвирка.
В Аникшчяй мы жили у директора прогимназии, старого педагога и литератора Матаса Григониса.[72]
Ему только что доставили журнал таутининков «Руль», в котором была помещена еще одна ругательная статья против «Третьего фронта». Спали мы у него на гумне, на сене, и это было просто прекрасно…
В Аникшчяй мы побывали и у Антанаса Венуолиса.
Наконец посреди зеленых полей и лесов засверкали прохладой зарасайские озера.
– Вот где я хотел бы пожить, – сказал Пятрас после катанья на лодке.
К сожалению, в Зарасай Пятрас неожиданно захворал. Кое-как добравшись до Йонавы, мы уложили его в обшарпанной гостинице. Я ушел на поиски лекарств. Назавтра он почувствовал себя лучше, но пускаться в дальний путь было опасно, и мы вернулись в Каунас.
Многие подробности этого путешествия уже изгладились из памяти, но по сей день живет в ней разнообразный, невыразимо прекрасный пейзаж. Перед глазами стоят люди – хорошие и бедные; богатые усадьбы кулаков, лачуги местечек, базары, костелы, безработные.
Осенью мы издали третий номер журнала. Я писал в нем о нашем путешествии:
«Солнце. Пыльные дороги. Убогие лачуги.
…И всюду поля кишат людьми. Эти люди встречают гостей распростертыми объятиями, угощают хлебом, отрывая его от своего рта. Сквозь запыленные окна в лачугу едва проникает дневной свет.
…Руины поместий. Обнищавшие городки. Каменистые розовые холмы, зеленые боры – и всюду люди, склоненные под давящей нищетой… Литовская деревня погрязла в темноте. Она забыта всеми, кто из нее вышел. Сыновья многих крестьян стали господами в городе и домой возвращаются только отъесться, когда устают от пьяного житья. Потом они уезжают, и под соломенными крышами все идет по-старому.
Как было тридцать – пятьдесят лет назад, как было еще раньше.
Люди боятся привидений, боятся чертей, ксендзов, судебных приставов и прочих господ. Перед одними они крестятся, перед другими – кланяются и целуют им руки.
Но каким бы печальным ни был вид нынешней Литвы, ничто не стоит на месте. Даже обомшелый камень, смирно лежавший веками, начинает двигаться.
Литва тоскует по светлому будущему.
Литва призывает нас посвятить все свои молодые силы борьбе за будущую жизнь нашей земли, вложить всю энергию в активное строительство новой жизни, в борьбу за свободу и светлые дни мрачных лачуг».
Эти слова, пожалуй, довольно ярко характеризуют то, что мы увидели в своем первом путешествии.
Вернувшись из путешествия домой, в родную деревню, я много часов провел над рукописями. Надо было непременно кончить первый сборник рассказов. Если уже вышла книга Цвирки, то должна появиться и моя! Правда, многие рассказы мне не понравились. Слабые рассказы я повыбрасывал. Отпал и заголовок «Человек между пилами» – цензура пропустила лишь первую половину этого рассказа. Я думал и так и сяк – ничего путного не приходило в голову. «Счастливый человек Цвирка, – думал я, – он начинает писать лишь тогда, когда уже есть название. Оно задает тон, и рассказ катится сам собой. И заголовки у него поэтичные, и свою первую книгу прозы он назвал интересно и ново».
Вдруг в один прекрасный день в Трямпиняй появился Пятрас Цвирка. Как обрадовались мы с братьями! Он понравился им своей разговорчивостью – совсем не похож на Казиса Боруту, который приезжал ко мне тем летом. Тот скажет слово и молчит, сидит и о чем-то думает… А Пятрас все говорит и говорит, и о Каунасе, и о нашем путешествии, и о своей родной деревне…
В один жаркий день мы с ним взобрались на Часовенную горку и, вытирая пот, уселись на старых пнях. Пятрас поднял голову, посмотрел на исполинские березы, растопырившие ветви в голубом небе, и сказал:
– Ты все не находишь названия для своей книги? А вот тебе название – хватай обеими руками, и все!
– Какое же? – удивился я.
– «Березы на ветру»! Я уже раньше на них смотрел, когда ветер дул. Они наклонились над обрывом… Как наши интеллигенты… Да и вообще у вас много берез.
– Спасибо тебе, Пятрас! – обрадованно воскликнул я. – Лучше и не придумаешь. Да и вообще береза – красивое дерево. Я сызмальства страшно люблю березы.
Пятрас расхохотался:
– Как видишь, и Пятрас Цвирка кое-что смыслит… А облить название придется.
– Непременно, как обливали весной твой «Закат». Снова поедем к Пиюсу в Кармелаву.
– Смотри у меня! А теперь пойдем искупаемся в твоем знаменитом озере. Переплывем и мы его, как свиньи…
Я принялся рассказывать – наше озеро-де раньше было куда больше, но помещик решил осушить свои луга, выкопал канаву и спустил метра два воды в реку.
– Не оправдывайся, – смеялся Пятрас. – Я говорю об озере не о таком, каким оно было в древности, а о таком, каким вижу сейчас. Нет уж, братец, это тебе не Обелия и не Дуся! А побродили мы с тобой славно. И хорошо сделали. Какой из тебя, черт подери, писатель, если ты вдоль-поперек не исходил своей страны!
В воскресенье я познакомил Пятраса с окрестной молодежью – приехавшими на каникулы студентами, гимназистами, друзьями детства.
Вечером мы задержались на вечеринке и возвращались домой на телеге. Вместе с нами ехали две красивые девушки, которые всю дорогу пели, а мы подтягивали своими неумелыми голосами.
Была необыкновенно теплая ночь. Над полями горели тысячи крупных звезд, поля пахли скошенным клевером. Это была одна из тех ночей, которые заставляют человека мечтать и надолго застревают в памяти, оставляя в душе теплые воспоминания. Телега подвезла нас к дому, мы попрощались с девушками, которые уехали дальше. Стоя у ворот, мы долго слушали их пение, которое смолкало в ночи…
– Какие прекрасные девушки!.. И ночь-то какая, – сказал Пятрас, когда мы, минуя садик, вошли во двор. – И спать не хочется.
Мы легли на сене и долго еще, разговаривали обо всем – о молодости, красоте, любви… Мы разговаривали о любимых книгах, о странах, которые собирались увидеть…
* * *
В это лето, еще перед нашим путешествием, произошла своеобразная сенсация – в Литву приехал Константин Бальмонт. Когда-то он был чуть ли не самым популярным поэтом России. Уехав после революции за границу, он поселился в Париже и продолжал издавать книги, которые были хуже прежних.
Где-то около 1927 года поэт стал сильнее интересоваться Литвой, ее писателями и литературой. Раньше, еще в бытность свою в России, он перевел на русский язык немало литовских песен, а одно стихотворение посвятил Юргису Балтрушайтису[73]
(«Ах ты, Юргис, гордый Юргис…»). Многие литовские писатели, в первую очередь Сруога, любили творчество Бальмонта. Получив во Франции от Тислявы учебник, Бальмонт выучил литовский язык и начал читать в оригинале произведения наших писателей. Установив переписку с некоторыми из них, особенно с Лгодасом Гирой, он стал переводить их стихи и писал статьи против панской Польши в защиту Литвы. Подобная позиция поэта показалась полезной литовским властям, и они начали помогать ему через свое посольство в Париже. И вот Бальмонт – в Литве.
Кажется, первого июля я вместе с другими каунасцами пришел в Летний театр – деревянный барак, построенный рядом со зданием театра. Здесь собрались не только любители сенсаций. В первом ряду восседали три министра, никогда еще не посещавшие литературных вечеров, да и вообще не интересующиеся литературой, – министры иностранных дел, просвещения и внутренних дел. На сцене показался поэт, небольшого роста, длинноволосый человек в куцем и тесном пиджачке. Корреспондент журнала «Новое слово», который на днях брал интервью у поэта, следующим образом описал его внешность: «Старик, который сидит сейчас передо мной, своим белым лицом, обросшим редкой бородкой, длинными, распущенными волосами, которые словно ореол окружают его лицо, взглядом голубых глаз похож на солнышко, такое, какое мы с детства привыкли видеть в сказках: старое, доброе и улыбчивое». Мне лично Бальмонт не показался ни слишком старым, ни слишком добрым. Скорее уж он выглядел усталым, опустившимся, замученным эмиграцией. В начале вечера он сказал фразу по-литовски, почему-то не соединяя звуки в слова. Потом читал свои старые популярные стихи. Декламировал он напевно, патетически, и казалось, что главное – не поэзия, а автор. Он читал «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Будем как солнце» и другие. Публика, знавшая ранние произведения поэта, приняла их хорошо. Потом Бальмонт сказал, что прочитает доклад о литовских песнях, который он уже читал в Сорбонне, а также в Сербии и Болгарии. Правительственная газета «Эхо Литвы» несколько дней спустя писала, что поэт в своем докладе «охарактеризовал идеалы литовского народа, которые получили выражение в народных песнях и сказках, и особенно резко и неприветливо отозвался о поляках… После этого, – продолжала газета, – он читал еще не опубликованные свои стихи, посвященные Литве, – о Витаутасе Великом и героическом прошлом нашего народа».
Короче говоря, Бальмонт выполнил все, чего от него ждали официальные круги.
Во время вечера вдруг поднялись с мест и демонстративно покинули зал несколько человек, в том числе знаменитый Поворотникас. Никто не знал причины этой «демонстрации».
Вечер Бальмонта оставил странное впечатление. Чувствовалось, что времена славы поэта давно миновали, что он – обиженный судьбой, растерянный человек, который пытается петь свою песню символиста и эстета, по необходимости выбрав новую цель – прославление далекой и еще несколько лет назад незнакомой Литвы… Бальмонт теперь говорил, что у них в семье сохранились предания и даже документы, свидетельствующие о том, что его предки прибыли в Россию из Пруссии или Жемайтии… Все это как-то оправдывало его неожиданный интерес к Литве. Литовские писатели – Гира, Креве, Вайчюнас и другие – относились к гостю с величайшим почтением, возили его по Дайнавскому краю, показывали Неман под Каунасом, который поэт, как утверждали газеты, собирался воспеть в стихах.
Когда корреспондент «Нового слова» спросил у поэта о впечатлениях из поездки по Литве, поэт ответил с явной насмешкой: «В вашей жизни я замечаю американские темпы. В литературе тоже проявляется этот принцип: быстро и много. Скажем, по важному для вас вопросу о Вильнюсе вы написали много стихотворений, но среди них нет ни одного хорошего. Они похожи на рифмованную прозу и у Людаса Гиры, и у Пятраса Вайчюнаса. А вот лирика у вас глубокая, и этих поэтов я высоко ценю».
По возвращении во Францию поэт не забыл про Литву: он подготовил и издал новый сборник стихов «Северное сияние», большую часть которого составили старые переводы литовских песен и стихи про Литву.
Актриса Уне Бабицкайте позднее показывала мне письма от Бальмонта; они были испещрены разнообразными кружочками, квадратиками, трапециями и прочими значками – перед смертью психика поэта трагически расстроилась…
АНТАНАС ВЕНУОЛИС
Летом 1930 года, пройдя пешком Дайнавский край, в одно раннее утро мы оказались в местечке, в котором раньше никто из нас не бывал, – в Аникшчяй. Не желая будить людей, мы сели на крыльце у Матаса Григониса, писателя, друга молодежи и директора прогимназии, закурили и решили ждать, пока кто-нибудь из Григонисов не проснется.
Мы ждали добрых два часа, пока не проснулся хозяин. Он угостил нас завтраком и – мы же не выспались – повел на сеновал, где мы по-царски спали все ночи, которые пришлось провести в Аниикшчяй. А пробыли мы там целых три дня.
Мы знали, что в Аникшчяй живет писатель Венуолис. Откровенно говоря, нам, молодым, скромным парням, страшно было идти к широко известному, уважаемому писателю, которого уже тогда многие считали классиком нашей литературы. Произведения Венуолиса в те годы часто печатала официальная пресса, которую мы ненавидели и презирали. Нам казалось, что мы не найдем общего языка с писателем. В сущности, кто мы такие – непризнанные каунасские литераторы, а таких там десятки вертятся в каждой редакции, мечтая заработать лит на обед. Лишь те, кто шел по «национальному» или «христианскому» пути, мог мечтать о рольмопсе и маленьком или большом графинчике (водку граммами тогда не мерили).
Но все-таки желание увидеть Венуолиса и знаменитую клеть[74]
Баранаускаса[75]
победило.
Писатель встретил нас просто и любезно, как он всегда ветречал своих многочисленных, со временем даже очень многочисленных гостей. Он куда-то собирался идти, но, узнав, кто мы такие, остановился на лестнице, которая спускалась к улице, и сказал:
– Ах вот как, отлично, отлично. Просим, просим наверх…
Мы взобрались по лестнице в садик, окружавший дом, который и сейчас так хорошо известен всем почитателям Антанаса Венуолиса. Довольно долго писатель показывал нам клеть поэта и подробно объяснял значение каждого предмета в ней. Он показывал экспонаты из времен крепостного права и восстания 1863 года, старые издания, собранные у родственников поэта, его письма, рукописи, фотографии. Все это сохранялось с великим уважением к поэту, который так широко прославил Аникшчяй. Мы с удовольствием расписались в книге гостей, и уже после войны, когда я снова посетил клеть Баранаускаса, Венуолис показал мне эту книгу и нашу подпись, напомнив этим, как быстро, как невероятно быстро течет река времени…
Мы напрасно думали, что Венуолис не слышал о нас. Он следил за «Третьим фронтом», читал «Закат в Никской волости» Пятраса Цвирки, поблагодарил меня за брошюру об «Утопленнице», которую я издал на основании своей студенческой работы. Он сказал, что ему очень интересно познакомиться и поговорить с молодыми писателями, которые ищут новых путей в литературе и жизни.
Во время пребывания в Аникшчяй мы несколько раз встречались с Венуолисом. Я помню, как он нас повел к валуну Пунтукасу, с какой любовью к родным местам он показывал воспетый поэтом Аникшчяйский бор, омуты и мели речки Швентойн и другие местности, известные нам только по названиям. Я чувствовал, что Венуолис – это Аникшчяй и его окрестности, что он – это Швентойи и окрестные боры, что он – недалекая деревня Ужуожяряй, в которой он родился и с которой всегда поддерживал тесную связь. Я понял, что без своей среды, без звонкого местного наречия не было бы и этого писателя, который избрал очень хороший путь – через родную деревню в Литву. Следуя по этому пути, он всю свою жизнь оставался рядом со своим пародом, и это было основой доподлинности его силы.
Мы посетили тогда и винный заводик свежеиспеченного литовского промышленника Каразии. Вино делали паскудное, от него жутко болела голова (видно, от вредных примесей или плохой очистки). Сам Каразия, еще молодой человек, жаждущий как можно быстрей разбогатеть и прославиться, угощал нас цыплятами и своей продукцией, наверное уповая на то, что мы, молодые писатели, благосклонно опишем его в газетах. Люди подобного типа к писателям относились, лишь исходя из того, сильно ли они могут навредить, нагадить им в газетах или, наоборот, разрекламировать как больших патриотов. К нашей группе во время похода на предприятие Каразии примкнул какой-то щеголь родом из Паневежиса, который перебрал вина. Когда мы оттуда снова пришли к Венуолису, от нас не отстал и щеголь. Венуолиса мы нашли в садике – он снова дружески встретил нас, а паневежский франт тут же принялся блевать, и мы смутились, как будто в этом была наша вина. Но Венуолис не показал никакого недовольства. Он сказал:
– Мальчик заболел… Ему худо… Подождите, я ему принесу лекарства…
Он ушел в дом и тут же вернулся с какими-то пилюлями и стаканом воды. Неприятность вскоре была забыта, и мы как ни в чем не бывало отправились в задуманную экскурсию – в окрестности Аникшчяй, где Венуолис хотел показать нам Воруту – столицу князя Миндаугаса. И впрямь, за Аникшчяй мы увидели останки какого-то замка – крепостные валы, рвы, насыпи. Венуолис рассказывал нам, что во времена Миндаугаса Аникшчяй был в самом центре Литвы, что здесь удобные в стратегическом отношении места и для него совершенно ясно, что Миндаугас выбрал для своей столицы именно это место. Помню, что и во время моих позднейших приездов писатель еще раза два водил меня показывать мнимую Воруту, которая, видно, много говорила его воображению. А в 1930 году он особенно интересовался исторической тематикой, писал роман «Перепутья» и собирался работать над другими историческими книгами.
Мы бродили по Аникшчяйскому кладбищу, и писатель показал нам могилы помещиков Венцловавичюсов. Деградацию семьи этих Венцловавичюсов он изобразил в своей известной повести «Рак» (Венцловавичюсы в ней названы Пут-Путерлецкими). Он рассказывал нам различные истории о погребенных здесь людях, и было ясно, что не одну из этих историй он использовал или собирался использовать в своих произведениях. В своей памяти он носил биографии десятков, а то и сотен людей своего края, интересные события их жизни, часто веселые, но еще чаще – печальные и страшные.
Мы, молодые писатели, не могли не восхищаться простотой, демократичностью Венуолиса, тем, что он разговаривал с нами как с равными, ничем не показывая своего превосходства. Но глубокого разговора о литературе, о ее задачах в борьбе нашего народа против фашизма не получилось. Кажется, в то время Венуолис сам не задумывался над этими вопросами.
* * *
Буржуазная Литва много лет собиралась и все не собралась привезти на родину из Польши прах писателя Йонаса Билюнаса.[76]
На эту тему часто разговаривали в писательских кругах, иногда об этом писали в газетах. Венуолис, который всегда почитал память аникшчяйского жителя и своего родственника Баранаускаса, не менее уважал память и второго своего земляка – Билюнаса. Я не раз видел, как при словах о нем на глазах Венуолиса проступали слезы. Он любил рассказывать о своих славных предшественниках, особенно о Билюнасе, которого сам хорошо знал.
Летом 1939 года, после знаменитого ультиматума панской Польши Литве, когда между Литвой и Польшей были завязаны дипломатические отношения, снова ожили и даже окрепли слухи о перевозке праха Билюнаса. Руководство тогдашнего Общества писателей, чуть ли не Людас Гира, послало меня в командировку в Аникшчяй. Я должен был представлять Общество писателей, когда землемер будет вырезать городище Людишкяй из полей двух крестьян, которые решили подарить это городище для могилы своего земляка.
Приехав на автобусе в Аникшчяй, я пришел к Венуолису, который меня радушно встретил. Землемера, кажется, еще не было, и нам представился случай поговорить, тем более что писатель попросил меня поселиться у него, уступив мне комнатку на втором этаже своего дома. Я охотно принял его приглашение. За обедом он угостил меня своей знаменитой настойкой «тряес дявинярёс», и я, хоть и небольшой знаток в этой области, высоко оценил мастерство писателя – настойка была божественная. Она пахла разнообразными травами и корешками Литвы – это был удивительный концентрат запахов и вкусов. Трудно было сдержаться и еще раз не поднять рюмку за хозяйку, хозяина и Аникшчяй, тем более что гостеприимный Венуолис не успевал подливать мне настойки, хотя сам, как я заметил, выпил всего лишь рюмочку.
– На меня не смотрите, – с улыбкой сказал он. – У меня этот напиток всегда под рукой.
Дожидаясь землемера, мы гуляли по окрестностям Аникшчяй. Я только теперь рассказал Венуолису о том, как прочитал когда-то его «Проклятых монахов» и другие ранние произведения и какое впечатление они произвели на меня. Писателю приятно было слышать мои слова, и он тихо рассказывал мне:
– Если б вы знали, с каким пылом я писал первые свои сочинения! Я был тогда молод, Кавказ, который я увидел, где путешествовал и, можно сказать, жил, потряс меня. Я хорошо знал Владикавказ, жил в Тифлисе, несколько раз проехал по удивительной Военно-Грузинской дороге, я видел и впитывал всей молодой душой неповторимую красоту, и она казалась новой и таинственной для меня, выросшего на равнинах. Я знал грузин и представителей других тамошних наций, например знаменитого осетинского певца Косту Хетагурова. Я изучал их историю, нравы, читал Лермонтова и других русских писателей, писавших про Кавказ. А когда я сел за «Проклятых монахов» и «Вечного скрипача», боже ты мой, с каким волнением я выводил каждую фразу! Я переписывал каждую страницу по множеству раз, и все мне казалось слишком тусклым, бесцветным… Даже во сне я, кажется, думал о том, что писал, мне снились горы, снежные вершины и бездны, пенистые, кипящие горные реки, я жил в другом мире, заколдованный и очарованный им. Так я тогда работал…
– А теперь?
– А теперь я работаю, пожалуй, не меньше, но нет уже прежнего пыла, опьянения. Теперь я тоже работаю охотно, но рядом с чувством всегда стоит рассудок. Я работаю по утрам – тогда все жизненные впечатления кажутся светлее, голова – свежее… Но, конечно, это уже не то, уже не то…
Он говорил мне о русских писателях, прежде всего о Чехове, Толстом и других, у которых он учился и которых не раз перечитывал. Насколько я понял, он следил и за литовской литературой, хоть мне и не пришлось слышать из его уст ни тогда, ни когда-нибудь позднее ни похвалы, ни осуждения наших писателей. Чем вызвана была эта сдержанность, трудно сказать.
Наконец появился землемер, и мы все отправились к зеленому и прекрасному городищу Людишкяй, где сейчас на самом деле покоится наш дорогой Йонас Билюнас и где, я верю, мечтал лечь когда-нибудь и Венуолис. Если перед смертью он сказал, чтобы его похоронили не здесь, а в своем садике, у дома, в котором жил, в этом, по-моему, виновата его скромность.
К городищу пришли оба крестьянина, решившие подарить по куску земли праху Билюнаса. Землемер расставил теодолит и начал работу. Мы с крестьянами улеглись на душистом вереске, под молодыми сосенками, смотрели в небо, слушали еле слышный щебет жаворонков и тихо разговаривали. Один из крестьян оказался бывалым человеком, жившим в Америке и даже заезжавшим в Японию. Он рассказывал нам про свои приключения.
Венуолис слушал рассказы крестьянина, которые, вероятно, слышал не первый раз, от души смеялся, потом сказал:
– Ты расскажи про этого негритянского доктора…
Крестьянин не заставил себя упрашивать и принялся рассказывать:
– Я уже давненько жил в Америке. Здоров я был как лошадь. Но однажды как заломит в пояснице – хоть в землю лезь. Хочешь не хочешь, надо к доктору идти. А куда пойти бедному человеку, если не к негру? Наших литовских докторов поблизости не было, а одного негра люди хвалили. Прихожу я к нему, он меня осмотрел, прописал какую-то мазь и спрашивает (в то время я уже хорошо по-американски понимал): «Откуда ты будешь?»– «Это я-то?» – «Ты, ты, кто же еще, как не ты!» – спрашивает негритянский доктор. «Я из Аникшчяй», – говорю я. Негритянский доктор ничего, улыбнулся, белые зубы показал и говорит: «А где этот твой Аникшчяй?» – «Да в Литве же», – говорю я. «А Литва твоя где?» – «Как это где Литва? – говорю. – В России, в Европе, говорю, моя Литва». – «А-а, – говорит он, – теперь понятно. А ты мне скажи, как у вас говорят, какого цвета черти?» – «Черные, а какими им еще быть!» – «А-а, черные, а в аду у вас как – жарко или холодно?» – «В аду, – говорю я, – очень жарко. Так все ксендзы говорят». Послушал меня негритянский доктор, опять белые зубы показал. «А вот неграм, – говорит он, – ксендзы объясняют, что черти белые, а в аду страшный холод». Потом он спрашивает: «А ты что, веришь в чертей и в ад?» – «Что за католик я был бы, если ксендзам не верил?» – «И совсем зря веришь, – говорит негр, – никакого ада нет и чертей нет. Когда приедешь в эту свою Европу, то всем скажи – никаких чертей нет. Это все только выдумки ксендзов, пасторов и раввинов».
Венуолис, который, видно, и этот рассказ слышал не первый раз, смеялся до слез.
– Ну и как, все еще верите? – спросил я у крестьянина.
– Дурак я, что ли? – ответил крестьянин. – Вот этот негритянский доктор, дай ему боже здоровья, если он еще жив, и заставил меня призадуматься. Ведь если уж такой ученый и хороший человек говорит, то не будет же он бросать слова на ветер. Больше я ни бога, ни черта не боюсь. Да и наш писатель, кажись, не верит? – хитро подмигнув, крестьянин посмотрел на Венуолиса.
Венуолис ничего не ответил. Он тоже улыбнулся хитрой мужицкой улыбкой…
Мы долго слушали рассказы крестьянина. Потом, когда крестьяне отошли в сторонку, Венуолис мне сказал:
– Интересные люди. Это уже не то поколение, которое я знал в детстве. Сами видите, он много путешествовал, много видел. И знаете, почему он дал землю для могилы Билюнаса? Он понимает: Билюнас был тоже хорошим человеком, другом бедняков, как тот негритянский доктор, и тоже не боялся ни бога ни черта…
– Но ведь перед смертью Билюнас…
– Мало ли что бывает перед смертью. Человек слаб… А всю свою сознательную жизнь он верил только в людей. Главное, в людей труда. Они ему казались главной силой… Я думаю, что крестьяне об этом знают.
* * *
Опираясь на тоненькую тросточку, в светлой соломенной шляпе, Венуолис шагает по мху Аникшчяйского бора. Он кажется высоким и стройным. Хоть он и не носит бороды и очков, но уже который раз я сегодня думаю, что походкой, фигурой, всеми своими движениями он похож на Чехова. Разумеется, я никогда не видел Чехова, но мне кажется, что даже в выражении глаз Венуолиса, даже в его улыбке, печальной и мучительной, есть что-то чеховское. Конечно, я не говорю этого Венуолису, который вдруг останавливается и прислушивается. Слышно, как вдалеке долбит дерево дятел. Видно, писателя привлек этот отчетливый монотонный звук. Потом он снова идет дальше и снова останавливается. Он следит за какой-то пичужкой, которая попискивает на ветке и часто меняет свое место.








