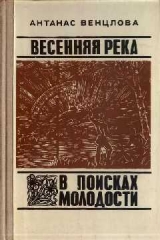
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 43 страниц)
– А муженек мой на базар ушел, – сказала Калинаускене. – Часом не встретили? Дровишек поискать хочет, печь топить нечем…
Вернулся и Калинаускас. Он оказался примерно одних лет с отцом. Но он был необыкновенный – солдат! По правде говоря, выглядел он, как и все, только опирался на сучковатую палку. Лишь позже я заметил, что он сильно хромает.
– А ногу-то у меня все крутит, – сказал Калинаускас. – Как под Мукденом покалечили, все в лазаретах валялся, а вишь, все равно болит проклятая. Особенно когда погода сырая…
– Да и у меня тоже, – откликнулся отец. – У меня-то, надо думать, с перепугу. Малышом меня один дурень схватил и хотел в торфяную яму бросить. До того перепугал, что и теперь иной раз как заноет, ну деваться некуда. Бывает, неделями маюсь, в кровати лежу… К самому доктору Басанавичюсу ездил…
– Не меньшой ли это? – спросил Калинаускас, подавая мне руку, как большому. – Хотя вроде я слышал – еще одного тебе аист принес? Хорошо, Тамошюс, что приспособляешь их к ученью. Пускай дети глаза-то продерут. Хватит того, что мы ни бе ни ме, как говорится. А на свете нелегко таким, Тамошюс…
Когда мы вышли от Калинаускасов, местечко уже запрудили люди. Народ шел, где посуше, огибая грязь и лужи, которых тут было хоть отбавляй. У нового кирпичного дома галдела толпа. Отец сказал, что там кабак. Из открытой двери вырывался гул пьяных голосов.
Миновав площадь, заставленную телегами, пахнущую сеном, клевером и лошадиной мочой, мы поднялись по деревянной лестнице, в Верхнюю. Так называлась лавка, в которой мне сразу очень понравилось. На полках стояло много блестящих жестянок, склянок, различных ящиков и коробок. Когда открывалась дверь, впуская или выпуская покупателя, всякий раз приятно звякал колокольчик. Отец поздоровался с веселым, симпатичным лавочником, стоявшим за прилавком, и потребовал все, что мне теперь понадобится: пузырек чернил, тетради, два карандаша, ручку и перья.
– Ну, Тамошюс, вижу, своего сына учиться пускаешь. А на кого? На адвоката? А может, на ксендза? Мой-то сынок на раввина учится.
– Кто знает? – скромно ответил отец. – Очень уж дитя к ученью стремится. Еще и годков-то нету, а все пусти да пусти… Вместе со старшим…
– Хорошо, ежели ребенок хочет. А как его зовут? Ну, подойди-ка поближе!
Я подошел к прилавку, и лавочник, подав отцу покупки, сунул мне конфету.
– Скажи спасибо, – напомнил отец.
Лавка была пропитана самыми невероятными запахами – здесь пахло хлебом святого Иоанна, фигами, селедкой, керосином. Мне страшно захотелось фиг, но я не посмел попросить отца. И так он потратил сегодня чуть ли не все свои деньги.
Школа находилась на той же улице, где жили Калинаускасы и где стоял кабак. Когда мы подошли к школе, к деревянному дому, отец велел мне подождать на крыльце. Он сунул мне в руки все наши покупки, и я с удовольствием рассматривал пузырек с чернилами, плотно закупоренный и залитый рыжим сургучом, тетради в красных обложках и радовался, что все это мое.
Отец ушел потолковать с учителем. Учитель, наверное, был на уроке. Ждал я долго. Наконец отец вернулся и, взяв меня за руку, ввел в просторную учительскую. На столике стоял глобус (из рассказов Пиюса я уже знал, что это за штука и как называется), на шкафу, словно живая, присела рыжая белка и распростер крылья ястреб. Я просто глаз оторвать не мог от этих диковинок.
– Значит, это и есть ваш профессор? – весело спросил учитель и, встав из-за стола, за которым он что-то писал красными чернилами, прищурившись, посмотрел на меня. Потом подошел поближе, погладил мне голову и спросил: – Что ж, мальчик, хочешь учиться?
– Хочу, господин учитель, – пролепетал я так тихо, что учитель вряд ли меня услышал.
– Только смелей, смелей… Твой брат куда тебя храбрее! Вчера как вцепился в чуб одному второкласснику, едва разнял… Однако к ученью мог бы с большим рвением… Ну, теперь будете вдвоем, подгоните друг друга…
Я совсем оробел от слов учителя и стоял опустив, голову. Прозвенел звонок, отец попрощался с учителем, а мне сказал:
– Смотри у меня! Слушайся учителя, не шали, хорошо учись! Вот и все. Понял?
И он, еще раз ободряюще посмотрев на меня, вышел. Мне сразу стало тоскливо, и я бросился было за отцом, но учитель рассмеялся и крикнул:
– Куда побежал? Теперь от меня не уйдешь! Ведь говорил, что хочешь учиться? Верно?
– Говорил, – подтвердил я.
– То-то и оно, что говорил, – снова улыбнулся учитель. – Ну, пошли, увидишь, сколько тут у нас таких вроде тебя…
Он открыл дверь и пропустил меня в класс. Класс был гораздо больше нашей избы. В нем прыгали, вопили и дрались десятки мальчуганов. Девочки (их было всего несколько) уже сидели на своих местах, за первыми партами. При виде учителя сорванцы кинулись на свои места, с грохотом захлопывая крышки парт. Когда класс затих, учитель сказал:
– Вот к нам пришел новый ученик. Он в школе впервые. Смотрите, не обижайте его. Он малость опоздал, и вы, первоклассники, объясните ему, чего он не поймет.
Потом учитель показал мне парту под окном с левой стороны и сказал:
– Здесь и будешь сидеть. Знаешь этого мальчика? – спросил он.
Я чуть не рассмеялся. Ведь тут сидит наш Юозас!
– Знаешь? Отлично. Вот и будете сидеть два брата за одной партой. Буквы знаешь? – еще спросил он у меня.
– Знаю, – несмело ответил я.
– Ну, прочитай вот тут, – он подал мне книгу.
Я взглянул на строчки и, осмелев, прочитал без запинки:
Два драчливых петушка
Вику молотили,
А две курочки-пеструшки
К мельнику свозили.
Козел в мельнице молол,
Коза просевала.
Третья малая козуля
Тут же помогала…
Учитель довольно сказал:
– Знаешь недурственно… Глядите-ка, дети, – обратился он к первоклассникам. – Совсем малыш, а читает-то как… А вы, бывает, прочтете так, что слушать стыдно…
Я почувствовал, что краснею от похвалы.
– А писать? Писать умеешь? – снова спросил меня учитель.
– Нет, не умею, – ответил я.
– Ничего, научишься, – сказал учитель. Потом, обращаясь ко всему первому классу, добавил: – Выньте тетради. В прошлый раз мы писали слово «мама». Теперь смотрите. – Он подошел к доске и большими буквами вывел: «Мама там». – Прочитайте (все вслух прочитали написанное). А теперь переписывайте в тетради. Только не торопитесь – четко, без помарок…
Мы начали писать. Перо у меня спотыкалось, царапало бумагу, буквы выходили корявые. Наконец на лист упала чернильная капля. Чтобы вытереть ее, я накрыл бумагой. Но испачкалась вся страница. Подглядев, что случилось, какой-то мальчик сзади захихикал. Я – в слезы.
– Что там у вас стряслось? – спросил учитель, возвращаясь к нам с открытой книгой – он читал второму классу.
– Дурень, всю тетрадку замарал… – хихикал у меня за спиной незнакомый мальчик.
Учитель подошел поближе. Он не бранил меня. Только покачал с упреком головой и мягко сказал:
– Не плачь, корень учения горек, а плод сладок. – Он снова погладил меня по голове. – А смеяться тут нечего, – сказал он ученику, сидевшему за мной. – Смеяться над бедой товарища очень даже нехорошо.
Потом учитель показал мне, как надо держать ручку, насколько окунать перо в чернильницу, чтоб на бумагу не падали кляксы, как положить перед собой тетрадь.
– Я сам виноват, дети, – громко сказал учитель. – Я должен был новому вашему товарищу показать, как взяться за дело. Ведь он пишет первый раз в своей жизни. Не лучше писали и вы. Так что удивляться или смеяться тут, ей-богу, нечего. А осушить написанное надо промокательной бумагой, – добавил он, вытаскивая из моей тетради серую пухлую бумажку.
Дети замолчали. А я думал, какой добрый у нас учитель: он меня и не ругал, и не бил. И я думал еще, что это за корень учения и почему он горек? Что это за плод, который, по словам учителя, сладок? Как сахар? Как мед? Все это я понял лишь много лет спустя.
Позднее я узнал и фамилию учителя. Его звали Казис Климавичюс.
ДНИ ВЕСЕЛЫЕ И ПЕЧАЛЬНЫЕ
Вот не думал я, что можно так истосковаться по дому. Дни в Любавасе оказались просто невыносимо длинными. Еще сидя за партой, я вспоминал маму, тетю Анастазию, сестер и маленького Пранукаса. Но эта тоска становилась совсем невмоготу, когда мы с братом возвращались в избу Калинаускасов. Калинаускасы любили нас с братом, старались, чтоб нам у них было хорошо. Но боже ты мой, как мы ждали базарного дня, когда появлялась мама, такая веселая и милая в своем теплом платке! Или приходил нас проведать отец, прихватив связку баранок, улыбаясь синими добрыми глазами.
– Ну, как тут мои мужчины? Живы еще, здоровы? – спрашивает он, едва войдя в избу.
Я несусь к нему, он берет меня под мышки и прижимает к себе. Лицом я чувствую отвороты его сермяги и колючую, хоть и недавно бритую бороду.
– Куда там! – откликается Калинаускас, откладывая на стол недоделанную клумпу и протягивая руку отцу. – Дрекольем их не убьешь! А читает-то как этот сверчок – слушать да не наслушаться…
Отец с гордостью смотрит на меня, а мне вдруг почему-то тепло становится.
– Что и говорить! – добавляет Калинаускене, шамкая беззубым ртом. – Я уж и говорю: пускай, Тамошюс, ребенка в ксендзы, и все. Такая голова, такая голова…
– В ксендзы? – словно не хочет соглашаться отец, хотя слова Калинаускене ему явно по душе. – Куда нам, нищим, в ксендзы…
Помнится – раньше я не мог дождаться, когда вернется из школы Пиюс, теперь же снова считаю дни в ожидании конца недели. В субботу мы с Юозасом, прямо из школы, не поев даже как следует, отправлялись домой. Хорошо, бывало, идти вместе с Игнасом Василяускасом, который жил за озером, в деревне Будвечяй. Он был много старше нас с Юозасом, учился чуть ли не в четвертом классе, но любил нас и опекал, как настоящий брат. Не дай бог кому-нибудь из детей нас обидеть – он нахватает от Игнаса столько «груш», что больше и притронуться к нам не захочет.
О, до чего же хорошо идти вместе с ним домой! Игнас рассказывает нам всякие чудеса про вулканы и острова, про чернокожих и краснокожих. Он объясняет, что в доме папы Римского одиннадцать тысяч комнат.
– А как же их подметают? – любопытствует Юозас.
– Да очень просто, – говорит Игнас. – Открывают окна, берут простыню и как начнут ее трясти – вся пыль мигом в окна выскакивает!
Настала суббота, подморозило, но Игнас Василяускас с нами пойти не смог: он остался помогать учителю – кажется, правил тетради малышей. И мы с Юозасом тронулись в путь вдвоем. За Скайсчяй, недалеко от деревни Эпидямяй, где летом сочится крохотный ручеек, осенью вода разлилась настоящим озером. Увидев с горы широченное поле сверкающего льда, мы с Юозасом поспешили вперед, решив малость покататься. В это время нас догнал третьеклассник Ботирюс, высокий, костлявый, рябой паренек. В зубах у него дымилась самокрутка, фуражка была сдвинута набекрень. Догнав нас, он крикнул:
– Куда путь держите, баричи? К маменьке, молочко пить?
– Сам ты барич! – крикнул ему мой брат. Я испуганно промолчал и, кажется, только буркнул брату:
– Не связывайся с дураком…
Увы, Ботирюс расслышал мои слова и, побагровев, завопил:
– Это я-то дурак? Сейчас я тебе покажу, какой я дурак! – И он повис у меня на спине, на моем ранце с книгами и тетрадями. – Неси меня! Я устал! – вопил Ботирюс.
Я, задыхаясь, тащу его, но не могу выдержать. Ремни ранца оборвались. Юозас кинулся мне на выручку, тащит Ботирюса за ноги, а тот брыкается и хохочет.
– Может, маменьке пожалуетесь? Очень я боюсь вашей маменьки!
Я заорал благим матом. Ботирюс теперь принялся за Юозаса, стащил с него шапку, разбросал книги. Юозас не сдавался, защищался кулаками, но силы были неравными. Не знаю, чем бы это все кончилось, если бы вдруг не вырос как из-под земли наш добрый Василяускасов Игнас. Долго не ожидая, он схватил Ботирюса за шиворот и принялся колотить его по рябому злому лицу, потом по загривку. Ботирюс попытался сопротивляться, но, видя, что дело плохо, швырнул свой ранец, вынырнул из шубенки и с громким ревом, отплевываясь кровавой слюной, пустился к дому так быстро, что его и гончие б не догнали.
– Попробуй еще у меня малышей обижать! – крикнул вдогонку Игнас. – Я и к твоему отцу приду! Еще не так тебе шкуру спустят!
Мы с братом были на седьмом небе от счастья. Вот, оказывается, что значит дружба! Вот, оказывается, как хорошо, когда у тебя есть заступник! Вернувшись домой, мы весь вечер об этом только и говорили, расхваливая на все лады Игнаса.
Все местечко мы излазили вдоль и поперек. По правде говоря, негде было и лазить. Три или четыре улицы жалких деревянных лачуг вели от грязной площади, на которой стоял недавно построенный одноэтажный дом из белого кирпича. Это была волостная канцелярия. Перед ней частенько разгуливал жандарм с красными лампасами. Мы знали, что он хватает людей и сажает их в кутузку – комнату в канцелярии с зарешеченными окнами и большим замком на двери. Жандарма я боялся страшно и, увидев его, улепетывал куда глаза глядят. Мне казалось, что и меня он может схватить и засадить в кутузку.
И как же я испугался, проснувшись однажды утром в избе Калинаускасов и увидев под изображением Цусимского сражения (я уже знал, что там нарисовано) жандарма! На другой лавке сидел Калинаускас. Оба они довольно мирно разговаривали, но мне показалось, что этот разговор ничего хорошего не сулит.
Накрывшись с головой, одним глазом я поглядывал на незваного гостя, прикидывая, куда мне прятаться, если он вдруг захочет меня забрать. Лучше всего, конечно, удрать на улицу, но куда ты удерешь, когда мои штаны и пиджачок висят на веревке у печи, – я же не успею схватить одежду и одеться. А на улице-то снег!
Наконец жандарм встал из-за стола, надел свою военную фуражку и вышел в дверь. Я все еще не смел пошевельнуться. В это время со двора вошла Калинаускене с охапкой поленьев, и муж ей сказал:
– Тут жандарм Федя заходил. Просил завтра с утра помочь ему свинью заколоть. Не забудь, разбуди-ка меня пораньше…
Второй каменный дом (больше их в Любавасе не было) стоял на нашей улице. Это – кабак. Его еще называли корчмой. Дом недавно выстроил какой-то богатый человек. Нас с братом страшно тянуло зайти туда и поглядеть. И вот однажды вечером, увидев, что дверь приоткрыта, мы проскользнули в нее.
В кабаке был шум и гам. Трудно было разобрать что тут происходит – под потолком тускло светились две керосиновые лампы, бросавшие жидкий, желтый свет на грязные, залитые столы. За столом сидели хмурые, серые мужики, виднелось и несколько баб. Казалось, все сразу говорят, кричат, гомонят, поднимают стаканы и не столько пьют, сколько выплескивают на пол и на столы. Мы с братом пробирались все дальше, сквозь облако дыма и пара, в котором, чудилось нам, плавают люди, бутылки, трубки, какая-то дымящаяся еда, невкусная, вонючая.
– А вы тут чего? – вдруг рявкнул какой-то великан, вынырнув из облака пара и дыма.
– Может, отца ребята ищут, – отозвалась незнакомая женщина. – Может, жрет тут свой пот, как ты вот прожрал! – говорила она мужу, сидевшему рядом, подперев голову руками. – Хватит! Домой пошли, говорю, домой! – тащила она мужа за руку.
Муж сидел опустив голову, уставившись куда-то в пол, и повторял зло, будто про себя:
– Да пошла ты, говорю, ко всем чертям! Чего прицепилась, как клещ к собачьему хвосту?
Его приятель, видать малость потрезвее, втолковывал женщине:
– Два дня и две ночи паровую машину скайсчяйского барина из снега и грязи вытаскивали. Купил, значит, машину и вез из Сувалок. Лед проломился, и заклинило машину, как топор в колоде. Видишь, человек вывозился, умаялся. Деньги вот получили и празднуем теперь. А ты сердишься, Оните, будто дитя малое.
– Домой! Пошли, говорю, домой! Оставишь тут одного, еще убьют, как Бобинаса. Гляди, на стене и сейчас еще кровь…
– Бобинаса и верно, говорят, как порося, зарезали, – сказал тот же мужчина. – И безо всякой причины, говорят… По дурости. Не спорь с пьяными! А за что человека, никто и знать не знает…
Мне стало страшно. Казалось, на столе, на полу, даже на стене – всюду кровь убитого человека.
– Пошли отсюда, – схватил я брата за руку. – Я не хочу больше!
– А вы еще тут? – снова рявкнул над ухом великан. Теперь я разглядел, что он, будто баба, в переднике и ставит на стол большие стаканы с пивом. – Чтоб духу вашего тут!.. Может, жандарма позвать? Что? Тоже пьяницы выискались! Не видите, что ли, какое тут творится! Не слыхали, что тут позавчера было? Хотите поглядеть?..
Не дожидаясь брата, я выбежал из этого дома. И даже на дворе меня донимал страх: на стенах домов, на снегу мне чудилась кровь…
Все местечко заговорило о том, что повесился Шмигельскис. Утром люди выломали дверь клети и видят – болтается старик, вывесив язык. Шмигельскиса отвезли на кладбище и похоронили в неосвященном углу – там хоронят тех, кто не ждет, пока их бог призовет, а сами кончают с собой…
– Было из-за чего вешаться, – говорил Калинаускас, сидя за столом и черпая из глиняной миски жидкую крупяную похлебку. – Жил бы, вроде нас, горемык, тогда дело понятное: вешайся, никто не подивится, жизнь-то у тебя собачья! А тут лавка чуть ли не лучшая во всем местечке, шелка, плюш, сукна всякие! Полная мошна денег. Зайдешь в дом – лучше, чем у помещика: кресла кожаные, кровати с блестящими шишками. Такому да вешаться!..
– А кто его знает, что на человека нашло? – говорила Калинаускене, суетясь у печи. – Говорят, у настоятеля луг хотел купить да к своей земле прирезать и все сторговаться не мог…
– Чепуха! – прервал ее Калинаускас. – Будет он вешаться из-за луга! Говорят, рекетийскому барину всю свою лавку и хозяйство в карты продул, вот и повесился. Не хотел идти с сумой по деревням… Гонор, вишь! Гонор всему вина!
Никогда я не видел этого Шмигельскиса. Но от рассказов о нем волосы вставали дыбом. На запертой изнутри двери его лавки поперек висела железная перекладина. Мы ходили на край местечка к его дому. Вокруг все будто вымерло. Клеть, в которой повесился Шмигельскис, тоже стояла на запоре, и мне почудилось, что там поныне висит старый, очень старый Шмигельскис с длинной седой бородой. Вдруг, пока мы стояли, дверь клети отворилась, и из нее вышла по-городскому одетая девушка с корзиной в руке. Она поманила нас пальцем и, когда мы подошли, сказала тихим, очень приятным голосом:
– Вот я орехи в клети нашла. Берите, ребятки, – зачерпнула она горстью из корзинки.
Когда мы, вернувшись к Калинаускасу, рассказали ему о девушке и орехах, тот объяснил:
– Это дочка Шмигельскиса. Из города приехала. В пансионах там учится. Бывало, приезжает иногда летом. Красивая, гадючка. Единственная. Куда она теперь денется, когда дом проигран, один бог ведает…
Долго я думал о девушке с корзинкой орехов. Она была такая грустная. Она не боялась ходить в клеть, где повесился ее отец. Куда она потом исчезла, я не знаю. Больше я никогда ее не видел и никогда о ней не слышал.
ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОГО САДА
После войны, приехав на родину, я гулял в старом заросшем саду, глядел на тенистые яблони, засыхающие, неподрезанные вишни и сливы, на заросшие тропинки, а сердце одолевали тоска и забытая радость. Грустно было думать, как быстротечна река времени, и радостно вспоминать о той далекой весне, когда в голом поле, рядом с недостроенной еще усадьбой, закладывали этот сад.
На полях голосили весенние птицы, но нигде еще не было ни листка, ни завязи, когда отец притащил на спине из поместья связку каких-то прутиков. Нет, то были не просто прутики, а малые, слабые деревца. Отец копал неглубокие ямки, бросал в них торф, раскладывал на нем корни деревцев, еще пахнущие землей помещичьего сада, и подзывал меня. Обхватив обеими руками гибкий стан деревца, я придерживал его, чтоб оно стояло прямо, макушкой к солнцу, а отец осторожно сыпал в ямку землю, то и дело поправляя руками корни и похлопывая вокруг ладонями. Посадив одно деревце, мы сразу же шли к следующей ямке.
Какая красота была, когда в чистом поле встали ровными рядами деревца, а еще веселей стало, когда этой же весной все они покрылись буйными зелеными почками. Отец посадил посреди сада несколько взрослых яблонь и груш из старой нашей усадьбы. Не все они прижились на новой земле, да и те, что прижились, скупо плодоносили, и позднее их пришлось срубить.
С каким наслаждением мы смотрели, как каждую весну привитые деревца становились выше и крупнее, как они все гуще одевались зеленой листвой, благоухающей весной, зарей, чем-то молодым, прохладным.
А сколько радости было для всех нас, когда мы разглядели среди веток первые розово-белые цветы, позднее же – хрупкие завязи плодов, которые неделя за неделей, месяц за месяцем превращались в яблочки и грушки, малюсенькие вишенки и сливки и в конце концов в зрелые, сочные плоды! О нет, мы не рвали их, хоть не раз рука тянулась к плодам. Нет! Мы сорвали всего десятка два совсем уже спелых вишен. А однажды воскресным утром отец принес в избу несколько налитых, благоухающих яблок и дал нам каждому по одному. Это были первые плоды нашего сада и поэтому, наверное, незабываемо вкусные.
Иду я теперь по старому саду и вспоминаю – эта засохшая яблоня давала великолепные румяные яблоки, вот тут росла груша с невероятно сладкими большими плодами, которые, под дуновением крепкого ветра, бывало, – плюх! плюх! – срывались в траву и от спелости даже раскалывались. Здесь, по краю сада, шел ряд вишенок и слив, а здесь стояло дерево, на которое мы лазили за ранней черешней.
Некоторые из деревьев еще стоят – уже незнакомые, ветвистые, обомшелые… Другие люди рвут теперь с них плоды, покинув деревья на волю провидения – расти, стареть, заслонять друг другу солнце… И вдруг меня одолела тоска, как в запущенной обветшалой избе, где когда-то мать качала нашу зыбку, где мы играли и были счастливы и где сейчас в разбитые окна задувает ветер, а в углах разрослась сорная трава…
В саду я не увидел ни единого улья. А кажется, еще вчера жужжали здесь тысячи пчел. Они улетали на окрестные пажити, в липовые рощи, на поля белого клевера и возвращались с ношей домой. В саду еще стоит та первая пчелиная борть, которую отцу в день свадьбы подарил старик Жукайтис из деревни Граяускай, что за озером Дотамай. Отец привез борть, поставил ее за избой на старой усадьбе. На следующий год, выдолбив еще одну дуплянку, он поймал рой и впустил его в новую обитель. Мы любили разглядывать эти борти, перевезенные уже на хутор; папа говаривал, что пчелы так, без присмотра, жили в старину, в дремучих лесах. В такие дупла они носили мед. А когда приходило время роиться, новый рой находил для себя такое же жилище – выгнившее, источенное временем дупло.
Наши борти были толстые колоды длиной аршина в полтора, выдолбленные и гладко выскобленные внутри. Эти колоды лежали на чурках, чтоб не подгнивали снизу. Когда приходилось подрезать ульи, отец с боку колоды, где леток, вынимал из паза доску. Открывалось нутро колоды и в нем – забитые медом душистые соты, искусно вылепленные пчелами. Отец запросто руками ломал эти соты или, отрезав длинным ножом, складывал их в большую эмалированную миску.
Нет ничего вкуснее, как есть мед прямо из сотов, высасывая воск и складывая его кучкой на столе. Когда отец завел центрифугу для выжимки меда, пчелы в колодах перевелись, и нам уже редко перепадал такой душистый, изумительно вкусный мед. Он бывает лишь в сотах, в туго забитых ячеях, плотно залепленных воском. Выжатый центрифугой мед казался нам несравнимым с тем, давнишним медом…
Никогда я не забуду своего отца, как он стоит в садике среди разноцветных новомодных уже ульев. Мало кто так любил пчел, как он. Он приводил сюда даже учителя Юлюса Бутаускаса, тоже пчеловода, который готовил меня в гимназию после той войны. Осмотрев в саду пчел, отец усядется, бывало, где-нибудь на лужайке, за столом, или на крыльце клети и чертит на бумаге новые ульи, более удобные, в которых пчелам лучше жить и пасечнику выгоды больше…
Да, он страстно любил пчел, а пчелы любили его. Помню, бегут наши женщины с визгом, с воплем, размахивая руками, прятаться от пчел в избу или хотя бы в тень. А отец стоит себе меж ульев, пчелы смирно ползают по его рукам, по лицу и не жалят. О, если б и я был так спокоен и не боялся пчел! Увы, едва зажужжат они вокруг, тут уж не зевай – несешься подальше, и хорошо, если пчела, догнав, не вопьется в щеку или губу…
Очень любил я глядеть, как отец, вложив в дымарь подкурок – труху вербы, зажигает его, и почти благовонный, незлой дым вырывается из жестяной трубы. На лице у отца сетка, пришитая к ней холстина закрывает голову и шею. Такую же сеточку надеваю и я. И мы смело направляемся к ульям. Отец открывает крышку улья, окуривает пчел – они от этого, говорят, смирнеют.
В сарайчике, пристроенном к клети, уже стоит вымытая, чистая центрифуга – жестяной бочонок. Внутри бочонка вставлены крылышки, опутанные проволокой. В этот бочонок ставят рамы с сотами так, чтоб они вращались, но, придерживаемые проволокой, не выпадали, а вытекал лишь мед. У центрифуги возились Пиюс и Юозас. Один из них острым длинным ножом аккуратно срезал залепленные воском ячеи, вставлял соты по четыре штуки в центрифугу, а другой сильно вертел рукоять.
Центрифугу смастерил жестянщик в Калварии, она оглушительно гремела, когда ее вертели, и братья часто меняли рамы с сотами и медом. Мое дело было, взяв по две рамы сразу, тащить их в сарайчик, а оттуда уже пустые соты нести отцу, который их вставлял обратно в улей.
Закончив с одним ульем, отец идет к следующему, снова окуривает пчел дымарем и снова добывает из улья соты. Соты облеплены пчелами. Отец смахивает их гусиным крылом. Крыло это зимой лежало в сарайчике вместе с остальным снаряжением – центрифугой, дымарем, новыми рамами для сотов… Здесь же стоял и сделанный за зиму, красиво окрашенный улей – весною его вынесли в сад, и он дожидался там новой пчелиной семьи…
Летом мужчины работали в поле, женщины помогали им или хлопотали на огородах и в кухне. Мне же поручили пчел. Рядом со мной в саду стояло ведро с кружкой. На суке яблони висел лемех, на земле под ним валялась длинная железина. Позже братья смастерили ручную водометку, которой можно было быстро набрать из ведра воды и при необходимости пустить струю выше самых высоких деревьев.
Иногда долго ходишь туда и сюда по саду, читая какую-нибудь «Красавицу Магелену и солдата Пятраса» или «Историю про пана Твардовского и его чудеса», и ничего не случается. А иногда ни с того ни с сего пчелы у одного из ульев принимаются жужжать все сильней – кажется, все обитательницы улья выбрались наружу и шумят, мельтешат, скучившись сплошным шаром. Это пчелы роятся!
Я не раз уже видывал роение и не терял времени даром, потому что знал: если не принять мер, то пчелы пожужжат, пошумят, помельтешат немного, а потом улетят не только от улья, но и из сада – их тогда и не увидишь! В такие минуты я старался не волноваться, как говорится, сохранять хладнокровие. Схватив железину, я принимался колотить изо всех сил по висящему под деревом лемеху, и, надо сказать, звон был не хуже, чем в поместье, когда зовут рабочих на обед. Бросив железину, я поливал кружкой галдящий пчелиный клуб или опрыскивал его из водометки.
Мне сопутствовала удача. Не помню я, чтоб прозевал хоть один рой. Пчелы, облитые водой и обалдевшие от адского звона стального лемеха, еще какое-то время жужжали в воздухе, но уже спокойнее, а потом, гляди, уже и уселся где-нибудь на дереве один, другой десяток, а вслед за ними повисала и вся большая пчелиная шапка. Услышав трезвон, отец, бросив работу в поле, бежит домой.
– Поймал! Поймал! – кричу я, прыгая от радости.
– Молодец, что пчел не прозевал! – коротко хвалит отец. – А де ройник?
Ройник, конечно, был в сарайчике. Это четырехугольный ящичек из тонких планок с крышкой наверху и с сеткой с одного боку. Отец тотчас зажигает дымарь, приносит стремянку (летом она всегда стоит в саду), приставляет ее к стволу и примеривается, как бы лучше добраться до сидящего на дереве отхожего роя. Я тоже лезу, и если не могу удержать ройник (он большой и несподручный), то хотя бы поднимаю дымарь так, чтобы дым шел прямиком на рой, склубившийся на ветке.
Простой деревянной ложкой отец черпает мокрых еще пчел и, словно вишни, кидает в ящик. Когда все пчелы уже там, он закрывает крышку ройника и, спустившись со стремянки, ставит ящик в тени. Вечером, когда воздух становится прохладней, отец пересаживает пчел из ройника в пустовавший улей, в котором уже есть несколько рам с сотами. Отец говорил, что надо следить, чтобы пчелиная матка (мне почему-то никогда не удавалось ее увидеть) попала в новый улей – без нее пчелы на новом месте не приживутся…
Вот наша пасека стала больше еще на улей. На следующий день пчелы уже вылетают из нового жилища и возвращаются в него. Улей стоит рядом с остальными – новый, красивый, синий с зеленым летком, в который влезают и вылезают пчелы. И приятно смотреть, как они летают, приятно слушать, как они жужжат, словно легкие и нестрашные пули…
Я иду сейчас садом и не вижу ни единого улья… Давно нет отца, нет ульев, нет пчел… Правда, через этот хутор прокатилось несколько пожаров. Уже который раз восстанавливают избу, в которой я рос, играл, учился жизни… Здесь прошла война, ходили чужие солдаты, менялись и люди в этом доме. И видно, после смерти отца здесь не оказалось никого, кто бы любил пчел так, как он. А без любви ведь не растет никто: ни дитя, ни поросенок, ни птица, ни пчела – маленькая букашка, но великая труженица.
ГОСТИ И ПРОХОЖИЕ
Поскрипывая пересохшими осями тележки, понукая свою слепую клячу, разъезжал по деревням Зялмонас. Это старый еврей, каких немного оставалось и в те времена – с бородой и пейсами, в длинном черном балахоне из блестящего сатина, подпоясанном веревкой, в лаптях, которые тоже почти перевелись в нашем краю. Долгожданный гость. Отец тотчас бросает кляче Зялмонаса охапку свежескошенной травы, если лето, или сена, если зима. Еще сидя в своей тележке, Зялмонас кричит:
– Щетину-волос, куплю щетину-волос… Старый вещь, старый вещь… куплю шкуру, старый сапог, хороший тряпка…
– А что привез? – выйдя из избы, спрашивает мама или тетя Анастазия.
– Душистого мылу, иголок, ниток, селедки – у Зялмонаса все есть… А куплю щетину-волос, куплю старый вещь, тулуп, хороший тряпка…
Тетя тотчас вытаскивает из-за балки в избе щетину, аккуратно связанную в пучки. Она ее там спрятала, когда осенью кололи свинью. Зялмонас вручает тетеза щетину кусочек душистого мыла. Мама тащит Зялмонасу приготовленный заранее узел, в котором увязаны рваные детские штанишки, ветхие шапки, найденный на дороге чей-то сапог. Зялмонас развязывает узел, ворошит вещи, рассматривает, потом завязывает снова и говорит:








