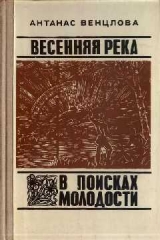
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц)
Барышня учительница краснеет и бледнеет. Мы глубоко убеждены, что по своему положению она обязана знать такие вещи. Увы, бедняжка не знает и, тоскливо глядя на класс, отвечает:
– Теперь некогда. Объясню в следующий раз…
А шалуны, особенно те, что сидят на задних партах, откровенно хихикают. Барышня учительница чуть не плачет – до того ей туго приходится.
ТУМАННЫЙ ДЕНЬ
Из окон нашего мезонина виднелось немецкое летное поле, устроенное за кладбищем. Когда возвели сахарный завод, этот пустырь застроили жилыми домами.
С самого утра до позднего вечера немцы на своем аэродроме поднимались на небольших бипланах, рычащих так, что мороз по коже подирал – этот ужасающий рев повторяли кровли далеких домов, – делали круг над полем и, подлетев к установленным на краю луга мишеням – дощатым щитам, строчили в них из пулеметов. Потом возвращались, делали круг, и снова стрекотал пулемет. К чему немцы тогда готовились? Трудно сказать. Всем казалось, что война подходит к концу и пора бы кончать эту пальбу.
Летное поле стало черным, рыхлым, как пашня, но с него каждый день взлетали самолеты. Нас интересовало, как это пули, вылетающие из дула, не попадают в винт, который вертится с такой страшной силой. Несколько раз мы видели, как самолет вдруг шмякался на землю и вверх взмывал клуб дыма, – наверное, и авиаторы гибли вместе с бипланом…
А по городу уже ходили литовские солдаты. Они, как и милиционеры, одевались в домотканую пестрядь или сермяжное сукно и на солдат смахивали лишь тем, что таскали с собой винтовки, а кое-кто прицеплял к ботинкам шпоры. Они несли караул, слонялись по рынку, стояли у мостов и обыскивали всех, кто ехал в город, протыкая шомполами солому в телегах.
Шли толки, что в деревнях развелось много разбойников, которые заявляются к крестьянам, подвешивают их к балке и подпаливают соломой пятки, требуя золота. Рассказывали, что ни одна колымага не может спокойно добраться из Мариямполе до Каунаса – где-нибудь в лесах под Казлу-Рудой пассажиров грабят до нитки. А другого сообщения тогда с Каунасом не было. Собираясь в Каунас, заказывали мессу, спасая душу от погибели.
Кто были эти разбойники? Трудно сказать. Одни, по-видимому, были просто головорезы, польстившиеся на легкий хлеб. Другие партизанили в лесах, нападая на немцев. Среди них было немало беглых пленных или дезертиров из русской и германской армий, скрывавшихся от немцев. После всех этих страшных рассказов все они без разбора казались нам убийцами и мучителями и вызывали невероятный ужас. Не раз ночью я просыпался потный от страха: в нашем дворике уже толпятся разбойники, вот-вот распахнется дверь, и они ворвутся в наш мезонин – ужасные, бородатые, с винтовками наперевес… Только заскребется что-то ночью за окном, уже кажется: разбойничьи банды шагают от кладбища…
Был сырой, туманный день, когда мы бежали после уроков домой и увидели расклеенные на стенах литовские объявления. Мы любили их читать, потому что каждый день здесь сообщалось что-нибудь новое. И вот из размноженных на стеклографе объявлений вычитали, что за казармой, у реки, сегодня под вечер расстреляют группу разбойников.
Второпях пообедав, прямиком по пашне за кладбищем мы помчались за казарму. Подмокшая земля липла к подошвам. Мы скользили на межах, кое-где увязали в глине, да так, что едва вытаскивали ноги. Зачем мы туда бежали? Посмотреть, как будут убивать людей? Из простого любопытства? Или нас тянуло какое-то другое неясное чувство? Я не раз об этом думал впоследствии и не мог понять почему. Какая-то жуткая сила увлекала туда нас – и детей и взрослых. Остановившись на минуту, я увидел, что на пашне полно народу – женщин, мужчин и детей. Все они шли и бежали, словно кто-то гнался за ними, словно они боялись опоздать.
Издали мы увидели большую толпу на берегу Шешупе. Справа от нее стояли литовские солдаты, со всех сторон обступив арестантов. Было непонятно, что там происходит. Но вскоре все выяснилось: арестанты рыли лопатами ямы.
– Это они себе, самим себе копают, – услышал я от женщины, стоявшей рядом.
– Видишь, один шапку на землю положил. Плешивый уже, – сказала другая, и я увидел плешь, то поднимавшуюся из еще неглубокой ямы, то снова исчезавшую, когда владелец ее втыкал лопату.
Мне стало не по себе. Сердце отчаянно колотилось. Я думал: не лучше ли уйти домой? Но никто не двигался с места. Люди топтались, потирали руки и носы, стараясь согреться, изредка перебрасывались словами:
– Вот, рассказывают, у этого, что с плешью, хозяйство было. Оставил жену и детей, а сам на промысел ушел…
– А этого видишь, вот что теперь голову из ямы высунул, молодой такой, бородатый? Говорят, его мать из Пильвишкяй приезжала… к коменданту ходила… Хотела вызволить, на поруки взять… Да кто такого отпустит…
– А людей, наверно, порезал не мало, хоть и молоденький…
– Он, говорят, больше насчет баб… У бабы его и схватили… Кто-то непристойно выругался и плюнул.
Наконец все смертники вырыли себе ямы и сзади них вкопали по колу. Несколько солдат по приказу командира привязали их к кольям. Какой-то солдат поднял с земли ворох мешков. Каждому из смертников нахлобучили на голову мешки. На двоих мешков не хватило, – наверное, кто-то обсчитался. Этим глаза завязали платками, которые вытащил из кармана стоящий поодаль офицер.
Я глядел на обреченных. Ведь уже сегодня, через час или даже несколько минут спустя, они перестанут дышать. Я представил себе, что стою на месте одного из них. Но я не мог, не в силах был вообразить, что вот-вот перестану жить, дышать, видеть людей, деревья, тучи, перестану ощущать воздух и тепло, что никогда, никогда больше не увидеть мне ни отца, ни мамы, ни братьев, ни сестер… Всем телом, всей душой я чувствовал: самое страшное для человека – понять, что вот он исчезнет, перестанет существовать и ничто не изменит этого… В войну я не раз сталкивался со смертью, и все-таки никогда еще так отчетливо, жутко не ощущал, что смерть близко, что она так неумолима и страшна.
А суровые, багровые тучи все бежали по небу. Приближался вечер, темный и промозглый, полный призраков и привидений… И вот я вижу, как солдаты встают цепью в нескольких шагах друг от друга, как они вскидывают винтовки и целятся. Целятся они, кажется мне, бесконечно долго – я несколько раз зажмуриваюсь и снова, не выдержав, открываю глаза. А перед нами, как и раньше, вываленная из могил мерзлая земля, она светло-желтая, – видно, здесь песок. Стоят смертники с напяленными на голову мешками, и перед ними – солдаты.
Офицер, в форме, похожей на немецкую (говорят, наши офицеры носят форму, купленную у немцев), гортанно вскрикивает и взмахивает револьвером. Грохает залп, потом второй, третий. Ружейные выстрелы куда тише, чем я ожидал, только крутой берег Шешупе вторит этому звуку. Смертники, кто с первого залпа, кто позднее, обмякают, но, придерживаемые кольями, не падают наземь. Какой-то солдат стреляет с опозданием, и все смолкает. Ветер разносит пороховой дым.
Солдаты, взяв пилы, пилили колья вровень с землей. Сперва в яму вместе со столбом упал крайний справа – плешивый. Потом бросили кривого бородача, а потом свалились и остальные – все семеро. Теми же лопатами, которыми час назад смертники рыли себе могилы, солдаты бросали на них желтый песок.
Люди прямо по полям, по вязнущему к ногам глинозему, возвращались в город. Уже сильно стемнело. Все казались мне сказочными привидениями, которые спешат на какой-то жуткий пир, где ночь напролет ведьмы и драконы пьют из человеческих черепов, обгладывают кости мертвецов… Я тоже попал на этот пир. Все страшные сказки, которые я слышал и читал, вдруг всплыли в памяти и навалились на меня, охватив страхом, тревогой, унынием. Казалось, мир после всего, что случилось сегодня на берегу Шешупе, под кручей, стал еще сумрачнее…
За ужином мы сидели молча. Хоть и проголодались, но ели как-то нехотя. Даже после ужина, когда все уселись, кто на койках, кто на стульях, а кто просто прислонился к стене, никто почему-то не заводил обычных споров о ксендзах или какая власть лучше: бар, коммунистов или еще кого. Сегодня мы видели то, что многие не увидят никогда; это, без сомнения, лучше вообще не видеть.
Мы уже собирались уходить каждый в свою комнату готовить уроки при тусклой керосиновой лампе (электричества не было), когда Пиюс Гловацкис, словно стерев ладонью с лица что-то не видное глазу, волнуясь, сказал:
– Я свято верю, что настанет такое время, когда человек не будет убивать человека… потому что никто не давал человеку права… понимаете… не дал права…
– А кто дал право разбойникам грабить, убивать? – только теперь раздался тонкий, раздраженный голос Матулайтиса.
– Никто! – ответил Пиюс Гловацкис. – Им тоже никто не давал! Все сделали война, жестокости, которым они были свидетелями… Они привыкли к крови… Страшно… Но этого не должно быть… Настанет такое время…
Мы разошлись по комнатам. Уроки готовить не удавалось. До поздней ночи я лежал: с открытыми глазами и глядел в темноту, а перед глазами снова и снова мелькало то, увиденное у реки. Утром друзья сказали мне: я что-то кричал во сне; они даже думали, не заболел ли я.
КАСТАНЦИЯ УХОДИТ
В Мариямполе скучать было некогда, А все-таки иногда очень тянуло домой. Особенно вечерами, сидя на своем унылом чердаке, я часто представлял себе, что сейчас делают родные. Отец, наверное, снова притащил в избу свой верстак, собрал разбросанные в войну стамески и сверла, мама готовит ужин, Пиюс с Юозасом что-нибудь вырезают или приколачивают. Тетя, скорей всего, сидит за прялкой и тянет на один лад какой-нибудь священный гимн. Забеле наряжает куклу для самой маленькой – Аготеле, которая еще лежит в зыбке и ничего-ничегошеньки не понимает. А Кастанция? Я никак не мог придумать, что делает Кастанция, наша старшая, наша любимая сестра.
Не знаю почему, но всегда, с тех пор, как себя помню, я сильней всего любил Кастанцию. Она ведь меня таскала на руках, играла со мной, приносила мне из местечка то леденец, то глиняного петуха, который, когда я дул в его хвост, гудел так, что было далеко слышно. Она никогда меня не колотила и не давала в обиду другим.
Мне очень нравилось ее красивое, задумчивое, всегда чуть печальное лицо. Пела она редко, но если уж запоет – ее голос звучал чисто, за душу брал. Братья поступали с ней нехорошо: отбирали куклы, привязывали им на шею камни и швыряли в самую середину пруда. Куклы тонули, а Кастанция сидела на берегу пруда и до того жалобно плакала, как будто потеряла родных детей… Это было жестоко. Братья, без сомнения, получили бы ремня от отца, пожалуйся она, но она никому не говорила об этом.
Ей рано пришлось перестать играть с куклами. Она должна была помогать маме. Не помню, пасла ли она скотину. Но я и сейчас словно вижу ее: сидит на низенькой скамеечке и чистит картошку. Вижу: стройная, высокая, копает весной грядки в палисаднике и сажает вместе с мамой цветы, а потом поливает их и поет. Вот Кастанция, опустившись на колени среди грядок в огороде, обеими руками дергает сорные травы. Вот вечером сидит она во дворе и доит корову. Корова стоит смирно, с набухшим выменем, и в подойник со звоном ударяют тоненькие струйки молока. Скоро весь двор благоухает парным молоком, которое Кастанция процеживает из подойника в ведро… Я очень люблю смотреть на все это. И я на верху блаженства, если мне случается чем-нибудь помочь сестре: принести из избы кружку, найти запропастившуюся лейку, подать с кухонного окна нож с деревянным черенком – для чистки картошки…
Кастанция уже умеет прясть, свивать пряжу на вьюшки, сновать на мотовило. Страшно интересно, когда женщины весной, едва только дни стали длиннее, приносят из сарая в избу кросна и с помощью мужчин налаживают их. Потом где-то на чердаке находят припрятанные с прошлого года берда и челноки. Долго они хлопочут, пока не натянут основу, и тогда можно садиться за стан. Ткут они то семериком, то девятней, и я никак не пойму, чем эти холсты отличаются и какой лучше.
Поначалу за кросна садится мама и, нажимая ногами на топталку, посылает челнок промеж натянутых нитей то в одну сторону, то в другую. Челнок, в котором сидит продолговатая, навитая нитками цевка, летит, она хватает его другой рукой и посылает назад.
Знай трещат набилки, и эта трескотня в открытые окна уносится даже во двор. Это добрая стрекотня: она говорит о том, что в этом доме женщины не лентяйки, что они наткут не только пестряди на штаны мужикам, но и белых холстов, узорчатых покрывал и других удивительных тканей.
Ах, и любил же я смотреть, как Кастанция, совсем еще юная девушка, проворно нажимает на топталку и, как заправская ткачиха, до того звонко хлопает набилками, что весь дом гремит…
Помню, как она трепала лен. Вровень с крепкими деревенскими бабами, пришедшими на помочь, она стояла у льномялки и, взяв половину снопа, принесенного от ямы, клала на дощечки и мяла еще пахнущий дымом лен ничуть не хуже опытных работниц.
Осенью с Пиюсом и Забеле, убрав нашу картошку, они уходили в трямпиняйское поместье – надо было отработать помещику за пастьбу, да и самим хотелось заработать, ведь лишних денег дома никогда не было.
Я помню Кастанцию и на льняном поле: в синем море льна она выпалывает сурепку; и помню, как она сгребает рожь на косовице и потрескавшимися руками связывает снопы. Казалось, не по плечу ей все это, но она работала, маялась, как взрослая женщина. Только в воскресенье она оживала. Умоет холодной водой лицо, наденет свою пеструю юбку и белую блузку, пригладит длинные, на прямой пробор, волосы да еще возьмет в руку пион или георгин (смотря по времени года) – и не налюбуешься на нее.
Неудивительно, что на Кастанцию рано стали заглядываться деревенские парни. Больше всего внимания ей оказывал Сергеюс Стасюкявичюс из деревни Будвечяй, парень сухощавый и вроде неважного здоровья, но головастый. Все уже заметили, что он непременно заговаривает с Кастанцией, встретив ее в Любавасе, и провожает домой. Если только у нас или еще у кого в нашей деревне случится вечеринка – Сергеюс ни на шаг не отойдет от Кастанции. И разговор ведет и танцевать приглашает, а она, румяная словно лесная ягода, изредка взглянет на него своими редкостно синими, чуть печальными и задумчивыми глазами. Мне нравился Сергеюс – он интересовался моим учением, когда я еще ходил в Любавас, частенько брал мои книги, листал их и спрашивал меня о том, что я знал и чего не знал. Сам приносил то новый календарь, то песенник. У Сергеюса была толстая тетрадь, в которую он переписывал стихи и песни, вычитанные из книг и такие, что люди поют. Мне казалось: когда-нибудь Кастанция выйдет за Сергеюса и счастью их не будет конца – я не сомневался, что они любят друг друга…
И вот получаю я из дома весточку, что нашу Кастанцию выдают замуж. Сначала я так и понял: она выходит за Сергеюса Стасюкявичюса, но кто-то приехавший из наших мест сказал, что ничего подобного. Она по-прежнему любит Сергеюса, да и он ее тоже, но отец выдает ее за другого, за какого-то поляка из деревни Рекетия. В нашем краю уже давно литовцы и поляки, подзуживаемые ксендзами, ссорились, иногда даже побоища устраивали, таким манером решая вопрос – по-литовски или по-польски петь в костеле. Дело вроде несложное, но эти недоразумения продолжались много лет. Главное, ведь отец тоже не стоял в стороне от этих раздоров, несколько раз, кажется, даже дрался с поляками и как-то целую ночь, боясь попасть им в руки, просидел в книжной лавке в Любавасе. И было странно и непонятно, как это сам отец гонит Кастанцию за нелюбимого мужа в чужую далекую деревню…
Это казалось до того ужасным, что я живо себе представил: Кастанция за слезами дня не видит, с горя ночей не спит. Видно, мама тоже согласна с решением отца, она ведь уже давно говорила, что Сергеюс ей не по душе – и некрасивый, и рябой, и пьющий, а главное, хозяйство у него еще хуже нашего. Дома еще сестра, которой придется выплачивать долю… Все это давно восстановило моих родителей против Сергеюса, и они не раз давали понять Кастанции, что такой муж не для нее, что ей надо такого, у кого хозяйство крепкое, без выплат.
Я начитался рассказов Жемайте и Лаздину Пеледы, в которых так ярко изображалась жизнь девушек, насильно выданных родителями за нелюбимых мужей. Отцовское желание приговорить к этой участи Кастанцию казалось мне нечеловечески несправедливым и страшным. Что же делать? Как помочь сестре? Наконец я решил написать ей письмо. Писал я долго, черкал и снова переписывал – все не находил достаточно убедительных слов, которые вызвали бы в душе у сестры не только чувство протеста, но и неповиновение родительской воле, даже если это привело бы к уходу из дому… Уходу… А куда Кастанция денется, если уйдет из дому? Приедет сюда, ко мне? На что же она будет жить? Где я достану для нее комнату и чем она будет питаться? Все эти вопросы донимали меня, и я не мог найти ответа.
Не знаю, дошло ли мое письмо. В те времена письма редко добирались до адресата, а если и доходили, то с опозданием на добрый месяц. Во всяком случае, какой-нибудь месяц спустя я получил через людей, приехавших в Мариямполе, весточку: свадьба Кастанции назначена на следующую неделю, и меня зовут домой.
Гимназия отпустила меня на несколько дней. В городе мне встретился знакомый крестьянин из Будвечяй, и он согласился подвезти. Ехали мы долго, стояла зима, и хоть была оттепель, пока мы добрались до Будвечяй, я продрог до костей. Хорошо еще, что крестьянин догадался об этом и дал мне сермягу закутаться. Приехали мы уже вечером. Из Будвечяй я пешком отправился домой и через замерзший Рукав с волнением подошел к своему двору.
Через открытую дверь я шагнул прямо в избу, где ярко светила карбидная лампа (новшество военного времени), а за стоящими углом столами, уставленными всякой едой, сидело великое множество людей. В красном углу я увидел заплаканную Кастанцию в белой муслиновой фате и зеленом рутовом веночке. Рядом с ней сидел незнакомый человек в нарядной домотканой паре с рутой в лацкане, без галстука, зато с блестящей пуговкой на шее. Лицо у него молодое и довольно пригожее. Среди соседей я разглядел и гостей, прибывших издалека. Молодой Жукайтис из Граяускай, уже навеселе (на столе торчали бутылки с самогоном), заметив меня, привстал за столом и сиплым голосом прокричал:
– Не видите, что наш худент приехал! Да здравствуют ученые Литвы!
Все удивились, словно я явился из владений Деда Мороза.
Поздоровался я со своими, отогрелся у печи, и меня посадили за стол. Молодой Жукайтис снова встал, поднял полную рюмку и начал:
– Дорогие родственники и, значится, гости! Мы, значится, собрались тут отпраздновать важное, приметное событие – выдачу замуж в деревню Рекетия нашей дорогой Кастанции, по мужу, значится, Гузявичене… Вот, значится, нам всем очень приятно, что собралось столько дорогих соседей и даже наш дорогой худент приехал из дальнего своего училища, из самого града Мариямполе… Значится, вот я и поднимаю это самое, чарочку, за счастье молодых, чтоб всяких напастей, значится, горестей или прочих бед, ну, там, со скотиной или с малыми дитями или еще чего…
Рябое лицо Жукайтиса раскраснелось, и я видел, что по щекам у него катятся слезы. Юозас Бабяцкас крикнул:
– Хорошая речь, чтоб его собаки… Будто калварийский настоятель в престольный праздник девы Марии…
Я сидел среди женщин и пил горячий чай. В это время в дверях появился Сергеюс Стасюкявичюс. Он был бледен, его губы дрожали (в ярком свете карбидной лампы это было отчетливо видно). Увидев его, все гости разом, словно в ожидании чего-то, замолчали. Отец встал за столом и сказал громким, высоким голосом:
– Тут есть гости прошеные и непрошеные… Я…
– Я-то непрошен, – ответил Сергеюс, – но пускай, пускай… Мне казалось, Сергеюс сейчас вытащит из кармана револьвер (про такие дела в последние годы слыхивали даже в наших краях) и уложит на месте Кастанцию и сидящего рядом с ней Гузявичюса. Но он опустил руки, подошел поближе к столу и, уставившись мутным взглядом на Кастанцию и ее мужа, сказал:
– Дайте мне чарочку, я с молодыми выпить хочу!..
Кто-то взял со стола и подал Сергеюсу рюмку. Над головами других гостей он чокнулся с Кастанцией, потом с Гузявичюсом и, опрокинув рюмку, выпил до дна. За столом все молчали в ожидании дальнейших событий.
– Музыкант, валяй! – крикнул он, увидев хромоножку, двоюродного брата отца, который, отложив скрипку, закусывал в конце стола. – Валяй, заплачу! – повторил он.
Музыкант отошел к окну и ударил смычком по струнам, а Сергеюс поклонился Кастанции и сказал тихо:
– Приглашаю на вальс…
Кастанция колебалась, но женщины зашептали: «Иди, иди, коли человек просит». Тогда она встала и вышла из-за стола. Сергеюс обнял Кастанцию за талию и закружился сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей. Так они танцевали долго, пока Кастанция не устала. Сергеюс ей все время что-то говорил, но не слышно было что. Музыкант опустил смычок, и Сергеюс, стоя посередине избы, сказал:
– Вот говорил же я, что приду на твою свадьбу выпить за твое здоровье и счастье и станцевать с тобой последний танец. Вот и выпил, и потанцевал…
Кастанция заплакала и прижалась к тете Анастазии. Сергеюсу никто не посмел слова сказать. Соседки, сидевшие за столом, стали вытирать влажные щеки. Сергеюс еще раз поклонился Кастанции, потом всем, сидевшим за столами, и, шатаясь, как пьяный, вышел из избы. Женщины, словно желая загладить случившееся, затянули песню:
Ох, матушка, горе тебе, тебе,
Растила дочурку, да не себе:
Отдала дочурку во сношеньки,
Вложила ей руту во рученьки…
Ох, плачет дочурка во сношеньках,
Ох, сохнет там рута во рученьках…
Не плачь-ка, дочурка, проведаю,
Не сохни-ка, рута, водой полью…
Я видел через стол, как Кастанция, вернувшись на свое место, вытирает слезы. Муж что-то тихо шептал ей на ухо. Он был куда красивее и крепче с виду, чем Сергеюс. Я глядел на сестру и едва сдерживал слезы – до того было ее жалко.
Ко мне подсел молодой Жукайтис и, дыхнув винным перегаром, обнял меня за плечи:
– Вот, значится, мужа Кастанция получила… И хозяйство, сказывают, во какое, и земля добрая, да и поклоны бить, значится, некому… И отца и мать уже похоронил, ну еще брат остался… Подкинет ему малость, и тот, значится, в Америку укатит. А этот (он имел в виду Сергеюса) – просто побирушка. Молодо-зелено, а вышла бы за него замуж, и его сестра живьем бы ее съела, долю выколачивая…
– Дядя, но ведь они любили друг друга! – воскликнул я.
Жукайтис рассмеялся.
– Знаем мы эту любовь, значится, – сказал он. – Любовь что картошка… То есть, а то уж и след простыл…
«Нет, их не изменишь, – думал я. – Такими они родились, такими умрут… Им только дом, имущество подавай…»
– А ты, худент, вот из классов вернулся, ученый теперь, значится. Скажи-ка нам, как теперь будет. Говорят, литовское войско набирают… Не станет ли хуже с этим войском?
Услышав его слова, подскочил наш Пиюс:
– А чем хуже, дядя? Литву создадим – независимую, без угнетателей, демократическую, понятно?
– Кто там ее, значится, знает… – сомневался Жукайтис. – Ведь и царя и кайзера видали – всяк норовит свое взять. Всяк только и глядит, чтоб у бедняка последний кусок…
– Больше так не будет, – утверждал Пиюс. – Люди сами власть поставят, какую захотят. Германец уйдет, сами станем управляться.
– Германец уйдет, значится, – не унимался Жукайтис, – а другой дьявол придет. – Потом он обратился ко мне: – А что за коммунисты такие, не слыхивали там, в классах?
– Слышал, дядя, но точно сказать не могу, – ответил я. – Говорят, тоже против бар, против богатеев…
– А как они насчет ксендзов? – снова спрашивает у меня Жукайтис. – Говорят, здорово ксендзов не любят.
– Этого я не могу сказать, – откровенно признался я. – Говорят-то всякое, но где тут правда, дядя, не знаю…
– Вот то-то и оно, что, значится, никто не знает, как что лучше сделать. Вот и мы не поймем, в какую сторону податься бедному человеку… Вот в чем вся загвоздка…
Музыкант заиграл на своей скрипке польку, и по избе понеслись пары. Я танцевать не умел и опасался, как бы какая-нибудь деревенская танцорка не пригласила меня. А Жукайтис все говорил да говорил… Я снова взглянул на Кастанцию. Она сидела рядом с мужем, и лицо у нее было красивое и нестерпимо печальное.
ИНЕЙ И СОЛНЦЕ
Еще только брезжил рассвет, но надо было вставать. А вставать ужасно не хотелось! Чердак остыл с вечера, и теперь в нем было холодно, как в овине. Свернувшись от холода в комочек, я лежал в железной кровати под жалким лоскутным одеялом, что сшила мама. Приближался неумолимый час, когда, хочешь не хочешь, придется высунуть из-под одеяла босые ноги, встать на холодный пол и, трясясь всем телом, торопливо натягивать носки, штаны, башмаки, умываться и причесываться.
– Вот черт, сегодня опять пар из носу идет! – нежился в постели Васаускас, а мой богобоязненный сосед Антанас Янушявичюс, уже одетый, умытый, молился, опустившись на колени у своей кровати.
На моей половине чердака сладко спал первоклассник Каросас. Я взглянул на его маленькое личико, и мне стало жалко его будить, но, вспомнив его вчерашнюю просьбу, подошел, приложил губы к его уху и закрякал:
– Крр…
Каросас перевернулся на другой бок и открыл глаза.
Как тяжело здесь умываться зимой! В сенцах на железных ножках стоял таз, а рядом – ведро с водой. К утру вода чаще всего замерзала, и, чтобы умыться, приходилось выкидывать лед. Этим утром вода вроде бы не замерзла, а может, лед уже выплеснул Янушявичюс, который умывался раньше всех…
Выпив черного кофе с хлебом, намазанным искусственным медом (такой чуть сладкий немецкий мед продавали тогда в лавках), мы отправились в гимназию.
Туман и облака, спозаранку обволакивавшие дома и небо, теперь рассеялись. На улице не было холодно, а может, так казалось, потому что мы выпили горячего кофе. За городским садом пылало яркое алое солнце, а весь сад стоял в инее, сверкая, словно белое чудо. Ни одна веточка не колыхалась, словно деревья боялись шелохнуться, чтобы с них не посыпались белые-пребелые Украшения, висевшие хрупкими, нежными, тончайшими кружевами и мерцавшие, будто кораллы. Я глядел на одетые инеем деревья, на тропинки, уходившие вдаль, которым, казалось, нет конца. Так бы и ходил тут целый день, глядел на стволы и ветви деревьев, такие белые, такие сверкающие, радовался бы и надеялся на что-то – надежда моя была смутной, но солнечной и белой, как этот сад…
Город тоже был наполнен солнцем. Деревья на Варшавской вдоль обоих тротуаров тоже стояли в инее. Побелели заборы и калитки, а окна домов сверкали и горели, как зеркала. Люди шли по улице веселее, чем обычно. С балкона комендатуры, заигрывая с проходящими девушками, смотрели литовские солдаты – уже в форме и потому, наверно, такие смелые. За городом, над кладбищем, поднявшись с военного аэродрома, клекотали немецкие самолеты и, как каждый день, назойливо стреляли из пулеметов по дощатым щитам – мишеням.
Окруженная сверкающими деревьями, удивительно прекрасной казалась сегодня наша школа. Белым-бела, она просвечивала сквозь прозрачные ветви деревьев – тоже белые, мерцающие на солнце, которое уже поднималось над домами. Веселый и счастливый, позабыв про холод и голод, я открыл дверь класса. Ученики были чем-то взволнованы, собирались кучками и беспокойно шушукались…
– На лесопилке рабочие шумят… Мой отец говорил… Вроде это дело буржуев… – сказал какой-то гимназист.
– Сам ты буржуй, – огрызнулся атейтининк Кяпярша. – Парни, кто арифметику приготовил? Дайте списать…
Я сел за свою парту и вытащил из ранца «Историю Литвы».
– Ты слышал, – сказал мне Вищюлис, присаживаясь рядом. – Говорят, поймали коммунистов, расстреляли и – под лед… – Я увидел, что у него дрожат губы.
– Кто расстрелял? Где? Каких таких коммунистов?
– Не знаю. У нас, где я живу, вчера рассказывали. Говорят, поймали их, как ехали они из Алитуса, привезли в Мариямполе, мучили страшно…
– За что? – чуть не закричал я.
– Будто я знаю, – ответил Вищюлис. – Мол, власть хотели свергнуть…
– Какую власть? Литовскую или немецкую?
– Неизвестно, – ответил Вищюлис. – Может, немецкую, а может, и литовскую…
– А кто их – немцы или наши?
– Все говорят, что наши. Немцы, говорят, не вмешивались… Наши их… понимаешь… под лед… Литовцы – литовцев, вот что страшно…
В класс вошла преподавательница истории, и начался урок. Мое радужное настроение как рукой сняло. Я сидел испуганный, взволнованный. Я вспомнил, как, у Шешупе расстреливали разбойников… Но это же были разбойники! И то я смотреть без ужаса не мог, да и позднее вспоминать было страшно, хоть много времени прошло… А теперь – снова… И все это тут, в нашем городе. Эти коммунисты, про которых-то я толком ничего и не знал, почему-то не казались мне такими страшными преступниками, чтобы мучить их и убивать. Я знал, что после тяжелых боев они пришли к власти в России и что они за простых людей, за рабочих, за голодных. А теперь повсюду было столько голодных.
На перемене выяснилось только, что коммунистов было двое, оба молодые парни, один – учитель Юлюс Зонялис, а другой, кажется, столяр Юозас Габрис. Какой-то гимназист из-под Людвинаваса сказал, что хорошо знает родных Габриса, которые-де живут в деревне Дальгине, и его самого видел на митинге в Людвинавасе или в Калварии.
Когда мы после уроков вышли на улицу, все стало тусклым, будничным, мрачным. Иней еще не осыпался с деревьев, но небо уже обложили тучи. Наверное, усиливался мороз. Весна была еще далеко – шел февраль 1919 года.
За обедом кто-то сказал, что из Людвинаваса приехали родные убитых, ищут в реке тела. Увязая в снегу, мы сразу же после обеда побежали к реке через старое неогороженное кладбище, мимо поваленных надгробий (осенью, пока еще стояли теплые дни, мы иногда приходили сюда и, усевшись где-нибудь под сиренью, готовили уроки). На берегу Шешупе толпились поджидающие кого-то люди, а на снегу лежал молодой парень с длинными темными волосами и полуоткрытыми остекленевшими глазами. Лицо у него было разбитое, иссиня-белое. На виске виднелась круглая дырочка, но крови не было.
– Вот тут, неподалеку, и нашли, – вполголоса говорил невысокий худой человек, наверное рабочий, в солдатской потертой шинели, в какой-то папахе, в толстых башмаках и зеленых гетрах. – Искали от самых казарм. Пройдем шагов двадцать, зачернеет чего-то подо льдом, мы сразу и рубим лед на этом месте…
– А сестра? Говорят, сестра приехала? – спросил кто-то.
– Это того, второго, сестра… И мать тоже не его… Когда вытащили мы, подошла она и видит, что не тот… Обе будто рехнулись…








