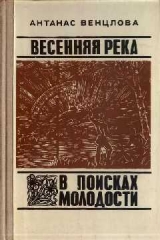
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 43 страниц)
– Как сирота, – говорит Венуолис.
Я не понимаю, о чем он. Вопросительно смотрю ему в глаза.
– Птичка, говорю, как сирота… Она же плачет… – И я вижу, как Венуолис, отвернувшись от меня, смахивает слезу.
Мы идем дальше через лес. Вдруг писатель оживляется, принимается махать руками и, подняв тросточку, показывает на дерево.
– Белка, – говорю я, разглядев крохотного рыжего зверька, скачущего по стволу сосны.
– Да, уважаемый… А сколько их тут раньше было. И белки, и барсуки, и рыси, и всякие, всякие… Да и теперь тут иногда встретишь интересного зверька… И всяк живет, солнышку радуется…
Мы шагаем по мягкому, сухому мху. Писатель останавливается и стучит тросточкой по сухому дереву. Потом отступает на шаг, снова подходит и стучит. Его лицо задумчиво. О чем он думает, трудно сказать. А думает он, видно, серьезную думу об этом дереве, обо всех деревьях и жителях этого бора…
Когда мы выходим к спокойной, прозрачной реке Швентойи и вдруг раздается звонкий, сочный голос соловья, писатель снова останавливается, даже поворачивает ухо в сторону реки и стоит затаив дыхание. Он ничего не говорит, но видно, что этот певец лесов и садов Литвы каждый раз по-новому говорит с его сердцем, как говорил он когда-то с Баранаускасом и Донелайтисом…[77]
МЫ КРЕПНЕМ
Время шло невероятно быстро. Может быть, потому, что я был очень занят. Книга «Березы на ветру» была уже готова. Оставалось только договориться с «Фондом печати» об ее издании. Вернувшись после каникул в Каунас, я снова редактировал журнал, кроме того, надо было на что-то жить, – к счастью, мои прочные связи с агрономами не распались. Появилась и другая литературная работа. Я переводил Диккенса и Мопассана. Интересовался творчеством американского писателя Э. Синклера. На русском и немецком языках прочитал множество его книг – это были «Король-уголь», «Джимми Хиггинс», «Бостон», «100 %», «Деньги пишут» и другие («Джунгли» я прочитал еще гимназистом). Использовав различные источники, я написал и издал небольшую книжку о писателе. (Много лет спустя я завязал с ним переписку и еще раз вернулся в печати к знаменитому роману «Джунгли».)
Я все еще жил в одной комнате с Райлой, но почему-то все сильнее хотелось переехать в отдельную комнату. Не могу сказать, что мы с соседом не ладили. Оба усердно работали для журнала, он писал стихи и статьи. Но мне не очень нравились его наклонности к богеме.
Вообще интеллигенция в те годы проводила время довольно странно… Скажем, в Каунасе проходил слух, что запили актеры. Пили они, пока хватало денег, иногда две недели. Потом начинали пить журналисты. Если они, взобравшись на деревья на главной улице города, принимались куковать наподобие кукушек, это была лишь невинная игра – полиция их легко снимала с деревьев. Хуже было, когда начинались драки и прочие глупости.
Все широко комментировали события в ресторане «Пэл-Эл». Однажды вечером, когда все столики были заняты, в ресторан ворвались двое охмелевших приятелей, довольно крупные чиновники. Они заперлись в туалете, разделись и, обнаружив мыло и воду, намылились с ног до головы. Потом в чем мать родила вышли в ресторан. Началась паника. Официанты принялись их ловить, но чиновники, скользкие от мыла, все время вырывались из рук. С большим трудом обоих пьяниц загнали на третий этаж и заперли в отдельном кабинете.
Алкоголизм становился массовым и отвратительным явлением. Чиновники нередко пили на чужие деньги. То и дело слышно было о растратах. А в Каунасе появлялось все больше безработных, все больше голодных людей…
Среди пьющих можно было видеть и Казиса Бинкиса. Я редко сталкивался с ним – разница в возрасте и интересах помешала сблизиться. Я помню, однажды, когда мы долго следили за Бинкисом, сидевшим за столиком, Цвирка сказал мне:
– Нет уж, братец, по этому пути нам идти нельзя… Видишь, способный поэт, а что он написал в последнее время? Плоские фельетоны, строчки ради гонорара… Надо избегать водки, как холеры…
Мы ее, конечно, не очень избегали, но и пьянствовать не привыкли. Всякое бывало, – если у кого-нибудь из нас заводились деньги, мы заходили и в ресторан, а под утро оказывались в вокзальном буфете (он работал круглые сутки). Здесь, на вокзале, интересно было следить за пассажирами. Слонялись агенты охранки, следя за кем-то, а может, просто пьянствуя после постылого дня и ночи. Появлялись запоздалые проститутки, пьяные, намазанные, циничные…
Однажды под утро на вокзале Райла поцапался с Бинкисом – поначалу поспорили, а потом, так как Бинкис отражал словесные атаки, Райла перешел к рукоприкладству… Это происшествие мне стыдно вспомнить по сей день.
…Вскоре осуществилась моя мечта – я переехал на другую квартиру в том же доме. Я получил тихую комнатку у портного, где мне никто не мешал когда угодно вставать и ложиться, сколько угодно писать и читать. Здесь теперь оказалась и редакция «Третьего фронта». Каждого, кто заходил в нее, она поражала своей скромностью – два стула, столик, тахта и маленький шкафчик с несколькими десятками книг.
Уже в октябре появился третий номер журнала. Он был еще больше, чем второй. Для этого номера я дал новеллу «Если пересыхает источник», написанную на основе летних впечатлений.
Мы поместили также большой рассказ Йонаса Шимкуса «У падающей воды» и несколько его стихотворений.
Был отрывок из романа, задуманного Цвиркой, – «Неман цветет» – и статья Корсакаса «Парень в литературе», в которой он старался доказать, что воспетый нами парень – это городской пролетарий и деревенский батрак. Статья была написана с пылом, но, к сожалению, не внесла необходимой ясности в вопрос. С этим «парнем» мы увязли – это уже мы сами чувствовали, и не так-то легко было выпутаться. Наиболее политически зрелый из нас, Корсакас, чувствовал, что «парень» в понимании Боруты уже неприемлем для нас. Его статья пыталась вывести журнал из тупика.
Узнав о тяжелом материальном положении Боруты и о том, что он мучительно переживает кризис «парня», Костас писал: «С Казисом дела и впрямь плохи. Но надо перестать его дразнить, чтобы он не бросил нас. Он – крупная сила, жалко его терять. Вопрос о парне на время оставим в покое».
Еще прошлой весной Казис в одном из писем высказался против немецкого поэта-коммуниста Иоганнеса Р. Бехера, который, по словам Казиса, «вздумал всю литературу превратить в партийную лавочку». «Это мне кажется глупым, – писал Казис. – Писателю надо быть левым, но он не должен зависеть от партии». Подобные взгляды вызывали в нашей среде все меньше одобрения, а вскоре, как мы увидим, оказались просто неприемлемыми.
Но вернемся к новому номеру нашего журнала. Райла остро, подчас даже нахально полемизировал с Гербачяускасом. Был широкий обзор иностранной литературы. В нем мы немало места уделяли советским писателям, поместив статью «Борьба за метод» и почтив Маяковского.
Примерно в это время к нам пришел новый человек – Валис Драздаускас.[78]
Это был человек наших лет, кончивший в Каунасе гимназию, учившийся в Париже (откуда он недавно вернулся). Мы встретились с ним на Лайсвес-аллее, и он с ходу принялся издеваться над нашим журналом. Если нас до сих пор вся каунасская печать критиковала, поливала грязью за левизну, то новый знакомый подошел к нам с другой стороны. Мне и Шимкусу он доказывал: главная беда журнала в том, что он недостаточно левый, а культ «парня» – недоразумение и глупость. Сразу было видно, что этот невысокий, болезненного вида человек много читал, и не только художественную литературу. Он упоминал и Маркса и Плеханова.
Вскоре Драздаускас познакомился и с Цвиркой. Мы начали встречаться то на улице, то в кафе Конрадаса, и не было конца нашим спорам. Оказалось, что Драздаускас какими-то путями получал гораздо больше, чем мы, советской литературы, больше ее читал и имел свое мнение о каждой книге. От него мы услышали о поэме Сельвинского «Пушторг», и о «По следам героя» Лаврухина, и о «Республике Шкид» Белых и Пантелеева. У него было собрание сочинений Плеханова, и, когда я получил у него какой-то том, я удивился, увидев, что Драздаускас читал и подчеркнул не менее двух третей строк. Видно, ему казалось важным и значительным все, что писал Плеханов.
Драздаускас вскоре вошел в наш коллектив, тем более что мы с самого начала не собирались замыкаться в своей среде. Мы просто радовались, заполучив новую силу для следующего номера «Третьего фронта».
Вскоре наш отряд должен был получить пополнение. Возникла мысль (кажется, одновременно у нас и у издателей «Культуры») предпринять шаги и вызволить из Шяуляйской тюрьмы Костаса Корсакаса, тем более что до нас дошли вести о его плохом здоровье. Мысль неожиданно нашла поддержку у писателей старшего поколения. Под прошением об амнистии подписались Винцас Креве, Фаустас Кирша, Балис Сруога и еще кое-кто. Прошло какое-то время, и в конце октября я получил письмо от Костаса из родной деревни. Мы все радовались тому, что Корсакас уже на воле, и надеялись быстро с ним увидеться.
Чем дальше, тем больше было откликов в печати на «Третий фронт». Новых его номеров с нетерпением ждали учащиеся, и рабочие. Его читали в деревне и городах. О нем постоянно упоминали литературные семинары в университете, его обсуждали политзаключенные. Он вызывал ярость у реакции – у клерикалов и фашистов. А мы между тем готовили уже четвертый номер журнала. «Вскоре выйдет «Фронт», – писал я Винцасу Жилёнису в начале 1931 года, – разумеется, не такой, как бы я хотел, потому что господин главный редактор (цензор) по-своему его переделал».
Мы уже получали московскую «Литературную газету», журнал для молодых писателей «Литературная учеба», по рукам ходил не только Маяковский, но и другие советские поэты – Тихонов, Безыменский, Сельвинский, а также теоретическая литература марксизма-ленинизма. Мы хорошо знали, что по этой теории создается новый мир – Советский Союз, в то время еще мало понятный для нас, но тем более интересный.
Балис Сруога, руководивший в университете театральным семинаром (я иногда посещал этот семинар), часто рассказывал студентам о московских театрах, об их высоком уровне, воспевал МХАТ и с пылом толковал систему Станиславского. Стараясь не касаться политической системы Советского Союза, профессор вызывал у нас интерес к нему и к тамошним переменам. Возникла мысль устроить поездку интеллигенции в Москву, познакомиться с лучшими ее театрами, пройти по главным музеям – мы уже слышали о Третьяковской галерее. В экскурсию старались попасть прежде всего литераторы, в том числе и Саломея Нерис. Все шло довольно гладко – мы копили деньги, заполняли нужные анкеты и ждали пасхальных каникул, на которые была намечена экскурсия.
«Твоя поездка в Москву была бы прекрасным делом… – писал Костас. – Я думаю, после твоей поездки для нас многое бы стало ясным, кроме того, мы бы чуть сблизились с русской литературной жизнью. Я считаю, что ты непременно должен официально сойтись с русскими писателями младшего поколения и рассказать им про «Третий фронт». По-моему, пора что-нибудь перевести из творчества Асеева, Тихонова, Саянова и других».
Поначалу выразив согласие, власти принялись выискивать придирки. Узнав, что меня не выпускают, Сруога посоветовал:
– Сходи сам в Министерство внутренних дел к Навакасу (тогда он был директором какого-то департамента) и сам выясни с ним дело.
Долго не думая, я отправился в министерство. За столом сидел невысокий человек с темными, зализанными назад волосами – господин Навакас.
– Ваши взгляды несовместимы с целью экскурсии, – дипломатично ответил он на мой вопрос. – Не пустим.
Говорить было не о чем, и я ушел.
«Я тоже хотела ехать, меня приняли, – позднее писала мне из Лаздияй Саломея Нерис. – Я радовалась, что увижу эту удивительную страну с ее новой культурой. Хотела все увидеть собственными глазами, потому что не могу верить той клевете и испуганным крикам, которыми пестрит наша печать».
Просидев несколько лет в тюрьме, вышел на волю Витаутас Монтвила. Я списался с ним и пригласил сотрудничать в нашем журнале, хоть и знал его прежнюю неприязнь к «Третьему фронту». Видно, что его мнение изменилось, потому что он ответил: «Что касается материала для «Третьего фронта», то, может быть, перед пасхой что-нибудь пришлю. Сейчас я делаю новую книгу (названия еще нет), пришлю что-нибудь из нее. Также новые стихи. После всех бурных событий от моего старого «я» остались лишь обломки… Хоть бы где-нибудь – как-нибудь, – хоть что-нибудь заработать!» Поэта преследовали нищета, безработица, безденежье – и тогда, и позже, всю жизнь. Увы, мы ничем не могли ему помочь.
Четвертый номер получился интересней, чем прежний. В нем уже не было и речи ни о «парне», ни о неореализме, который, по мнению Йонаса Шимкуса, должен был явить собой своеобразное соединение старого реализма с экспрессионизмом, футуризмом и прочими течениями современной литературы. Исчезли общие фразы и расплывчатая левизна – мы говорили яснее и подчеркивали необходимость тесной связи литературы с жизнью.
«Сейчас, когда на всем земном шаре идет решительный бой между двумя мирами, между двумя обществами, – писал я в передовице номера, – приходится особенно следить за тем, чтобы каждое слово било в цель, разоблачало отжившее общество и разрушало его прогнившие дрожащие подпорки.
Сейчас, когда во всем мире вооружаются для новой империалистической войны, которая будет куда страшнее и отвратительнее, чем все прежние, против которой поднимают голос люди труда и лучшие писатели всех стран, мы также подчеркиваем, что одна из главнейших задач текущего момента для нас – это борьба всеми доступными нам способами против этого варварства цивилизованного человечества.
Мы уже не раз говорили, что искусство для нас – не бессмысленное словоблудие и вопли о неземных благах. Искусство для нас – инструмент, рычаг, при помощи которого мы рушим все, что прогнило, и строим все, что растет.
Мы стремимся к тому, чтобы наше слово всегда волновало, тревожило, сердило, раздражало, радовало, подстегивало».
Пятрас Цвирка дал для этого номера стихотворение-репортаж «Человек родился», где сравнивал судьбу буржуйского ребенка и сына пролетарки Антоси. Стихотворение кончалось такими строками:
Сын Антоси.
Рука его понесет знамя,
плакаты расклеит,
красный ячмень посеет.
Рот его – слов пулемет,
гармонь – повстанцев марш.
Пролетариат!
Сын Антоси —
шаг к великому будущему
эпохи великой!
Райла написал длинную антикапиталистическую поэму «20 000 000».
Казис Борута прислал рассказ «Деревянные чудеса», который позднее превратил в большую повесть под тем же названием. Йонас Шимкус напечатал вторую часть своего рассказа «У падающей воды».
Костас Корсакас тогда писал о «Тенденции и литературе», доказывая, что в классовом обществе не может существовать нетенденциозная литература, что мы стремимся выразить настроения прогрессивных слоев общества. Новый наш сотрудник Валис Драздаускас издевался над Гербачяускасом, Якштасом и благоприятно отзывался о некоторых советских изданиях. Это была новость для легальной литовской печати. Мы отметили 65-летний юбилей Ромена Роллана, подчеркнув прогрессивность великого писателя, его антиимпериалистические настроения и решимость защищать Советский Союз (статью о Роллане написал Пранас Моркунас). Были помещены также переводы Бехера, латышских левых писателей – Лайцена, Курция. Все это резко изменило лицо журнала.
Реакционная печать, конечно, это заметила. Даже «Социалдемократ», который поначалу довольно положительно расценивал наш журнал, опубликовал статью, в которой доказывал, что мы опираемся на неверную (то есть коммунистическую) информацию, взятую из советских книг и журналов, что нам пора одуматься и т. д.
Надо было готовить пятый номер. И тут пришел новый человек, которому суждено было сыграть огромную роль в нашей прогрессивной литературе. Это была Саломея Нерис.
Путешествуя со Сруогой по Альпам (Сруога продолжал возить такие экскурсии), Нерис встретилась в Вене с Борутой. Видно, они здесь разговорились о литературе. Когда вышел четвертый номер «Третьего фронта», я получил из Берлина письмо от Казиса:
«Саломея Нерис вдруг написала мне дружеское письмо, где хвалила нас. Ты постарайся войти с ней в джентльменские отношения. Нам надо перетянуть на свою сторону как можно больше народу».
Видно, я сомневался в серьезности отношения Нерис к нам, потому что Казис снова писал: «Напрасно Сомневаешься в Саломее. Она просто стремится к нам. Прилагаю кусок ее письма. Сам суди».
И я читал письмо Саломеи Нерис, написанное Казису 22 февраля 1931 года:
«Каждый номер «Третьего фронта» я читаю от доски до доски. Этого не было еще ни с одним журналом в моей жизни. Вчера дочитала четвертый помер. В конце передовицы сказано: «чтобы наше слово всегда волновало, тревожило, сердило, раздражало, радовало, подстегивало…» Новое слово, но достигает своей цели. Не удивительно, что оно приводит в бешенство мещанских фанатиков и вызывает ругань. Мне нравится это живое, энергичное слово – вольный ветер весны. На меня оно действует своеобразно: как сильное лекарство на рану. Ведь я живу тем самым и всей душой одобряю вас. Я давно ненавижу это бездушное, заплесневелое мещанство. Но среда, в которую я вросла, – трясина, из которой не так уж легко выбраться. Что ж, тут нет ничего плохого, тем лучше, тем приятнее будет победа и полное освобождение».
Письмо поразило меня. Я читал его снова и снова не мог поверить. Неужели виднейшая правая поэтесса, окруженная вниманием всех критиков этого фланга, придет к нам? Понимая всю сложность и тяжесть для нее подобного шага, я написал письмо Нерис. В нем я начистоту изложил свои опасения и выразил радость всего коллектива.
Ответа долго ждать не пришлось.
Теперь, когда опубликованы письма Нерис и мои, совершенно отчетливо видно, что ее решение было серьезным и продуманным, что она отлично знала, что ей грозит. Но она ничего не побоялась.
«Видно, эта девушка хрупкая только на первый взгляд», – думал я.
Некоторых членов нашего коллектива, особенно Корсакаса, все-таки одолевали сомнения. А может быть, это временные настроения, может быть, поэтесса не устоит перед неизбежной реакцией клерикалов? Я написал об этом Казису. Он ответил: «Саломея меня обрадовала, но и огорчила. Все ли вы как следует обдумали, ведь клерикалы ей этого не простят. Позаботьтесь о том, чтобы она не зависела от них. Кроме того, ее письмо с «отчетом совести» совершенно излишне для «Третьего фронта».
Но нам после длительного обсуждения все-таки показалось иначе. Сама Саломея не хотела приобщать к своим стихам никакого заявления, но после долгих споров она все-таки окончательно отредактировала это заявление, которое, как известно, появилось в пятом номере нашего журнала.
Во время подготовки этого номера заболел один из самых активных членов коллектива – Йонас Шимкус. И заболел он внутренним кровоизлиянием так тяжело, что заботливые врачи Еврейской больницы, где лежал наш товарищ, иногда теряли надежду. Они велели нам быть готовыми ко всему наихудшему. Это были тяжелые дни. Иногда нам уже казалось, что спасения нет, мы думали, что номер журнала выйдет в черной рамке, с материалом, посвященным памяти нашего товарища. Днем и ночью сидела у больного и заботливо ухаживала за ним его подруга Эляна. И трудно сказать, что победило – молодой организм, забота врачей или любовь Эляны: к нашей радости, Йонас начал поправляться, и я смог сообщить радостное известие Костасу, Казису и Валису.
По письмам Казиса было видно, что в Берлине ему стало невыносимо в духовном и материальном смысле. Он все чаще упоминал о возможном возвращении в Литву, хотя здесь его ждала тюрьма. Перед возвращением он собирался заехать в оккупированный Вильнюс, поработать в библиотеке Литовского научного общества. «Я готовлюсь к длительной и большой работе по истории литовской культуры, – писал он. – Так что могу задержаться до осени. Кроме того, весна – самая неприятная пора для выполнения национального долга в каторжной тюрьме. Но в конце мая – прощай Берлин».
Может быть, Казис решил вернуться в Литву частично потому, что я несколько раз говорил о нем с профессором Вацловасом Биржишкой. Он принял близко к сердцу трагическую судьбу молодого писателя-эмигранта и, насколько я понял по его намекам, готов был помочь ему. Об этом я, разумеется, сообщил Казису, который написал: «Передай ему сердечную благодарность и извинения. Скажи, чтобы он не тратил на меня время».
Нам было совершенно ясно, что новый номер «Третьего фронта» совсем не понравится Казису. Культ «парня», который, как я отмечал, появился в основном под влиянием поэзии и прочих сочинений Казиса, совершенно испарился. Марксистская литература, которую мы все теперь читали, разъяснила нам структуру общества, классовую борьбу, задачи литературы. На нас все сильнее влияли советские книги и газеты, которые мы где-то доставали и жадно читали. Мы прекрасно знали, что на всем земном шаре кипит жестокая классовая борьба, что обострились противоречия между трудом и капиталом, что начался экономический кризис и во всех городах капиталистического мира растет число безработных. Проходят демонстрации и яростные сражения с работодателями. В Каунасе мы тоже видели толпы безработных, целыми днями стоящих у дверей биржи труда или фабрики; мы видели крестьян, потерявших землю, которые на вокзале ждали поездов в далекую Бразилию, и чувствовали на своей шкуре, что жизнь тяжелей с каждым днем, что в средние и высшие школы все реже попадают дети рабочих и бедных крестьян. Мы знали, что теперь хорошо живется лишь крупным чиновникам, дельцам, бизнесменам, спекулянтам, а население нищает. Нам уже казалось бессмысленным наше прежнее требование того, чтобы литература была вообще левой, чтобы она стояла над партиями.
Но главная беда «Третьего фронта» и его сотрудников была в том, что они, всей душой сочувствуя трудящимся, их тяжелому экономическому положению, искренне желая им помочь и даже понимая, что единственный выход – свержение буржуазного строя, не были связаны прочно с рабочими и крестьянами. У них не было связи с Коммунистической партией, которая тогда руководила из подполья борьбой трудящихся за свое будущее.
В 1931 году в Москве начали издавать литературный, политический и общественный журнал «Приекалас» («Наковальня»). В нем участвовали руководящие деятели Коммунистической партии Литвы, а также группа писателей и журналистов, сидящих в литовских тюрьмах или живущих в Советском Союзе. С одним из них – Пранскусом-Жалёнисом[79]
я познакомился лишь после Великой Отечественной войны, хотя он когда-то тоже учился в Мариямполе. Уже после закрытия «Третьего фронта» я читал его сборник стихов «Бурные силы», изданный в 1932 году в Минске, и эти революционные стихи понравились мне. В годы нашего тесного знакомства я убедился в том, какой это честный человек, вдумчивый литературный работник. Но в то время наши отношения с «Наковальней», которую редактировал Пранскус, складывались неудачно, просто курьезно.
«Наковальня», придерживаясь тогдашних указаний о тактике в отношениях с так называемыми правыми социалистами, без оглядки нападала на «Третий фронт». В этом журнале появился целый ряд статей, которые в какой-то степени правильно критиковали идеологическую непоследовательность «Третьего Фронта», политическую незрелость, оторванность от борьбы трудящихся. Но в этих статьях, часто написанных развязным тоном, «третьефронтовцев» громили и за то, что они участвуют в легальной печати, их обвиняли в несуществующих грехах, о них распространяли всяческие небылицы. Поэтому критика «Наковальни» заставляла нас серьезнее относиться к своей работе, а с другой стороны, раздражала и возмущала незаслуженными придирками, к тому же очень грубыми.
В то время, как печать фашистской Литвы атаковала «Третий фронт» и поносила его, когда цензура безжалостно марала и уродовала его, «Наковальня», вместо того чтобы правильно оценить создавшееся положение, отталкивала нас. Мало того. Буржуазная литовская печать то и дело перепечатывала критику «Наковальни», и фашисты получали лишний случай позубоскалить над нашей деятельностью. Наше положение и впрямь становилось трагичным. И лучшие сотрудники журнала не растерялись, не ушли в фашистский лагерь (кроме одного Райлы) только потому, что они искренне верили в великий идеал социализма, в правильность пути Советского Союза, читали советские газеты и книги.
Я и другие сотрудники журнала часто переписывались с Саломеей Нерис. На пасхальные каникулы она приехала в Каунас. Сидя за столиком в кафе Конрадаса, Нерис, Райла и я несколько часов вели откровенный разговор. Нерис излагала нам все свои сомнения, а мы рассказывали о своих общественных и эстетических взглядах, описывали эволюцию и перспективы нашего журнала. Поэтесса видела, как нас встречает печать, как поносит каждый реакционный орган. Но это не пугало ее. Сейчас, несколько лет спустя, снова встретив Саломею, я говорил с совершенно новым человеком. Внимательно поглядывая на нас своими прекрасными темными глазами, она активно участвовала в беседе. Это была думающая женщина, которую заботила судьба не только личная, но и ее родины и всего мира.
Пятый номер «Третьего фронта» вышел в начале мая. Уже не раз писали, что напечатанные в нем три стихотворения и заявление поэтессы были встречены врагами и новыми друзьями словно взрыв бомбы. Во время разгула реакции, когда вся жизнь была скована фашизмом и клерикализмом, когда всюду, особенно в школах, царила удушливая атмосфера предрассудков и шовинистического угара, одна из самых популярных правых поэтесс, преподавательница гимназии, руководимой ксендзами, вдруг заявляет:
«С этого дня я сознательно выступаю против эксплуататоров трудящихся и постараюсь объединить свою работу с деятельностью масс, постараюсь, чтобы моя будущая поэзия была орудием их борьбы и выражала их желания и цели».
Под этими словами мог подписаться лишь человек огромной воли, окончательно понявший историческую обреченность правящего класса, глубоко поверивший в победу нового, социалистического общества, лишь человек, который предпочел идею жизненным удобствам и готов был подвергнуться ради нее преследованиям, упрекам и ненависти бывших друзей. Реакционеры всех мастей позднее заполнили кипы бумаги объяснениями того, что поэтесса ничего не поняла, что она была аполитичной личностью, что ее шаг был продиктован какими-то разочарованиями в любви и местью, – но все это имеет лишь одну цель – извратить неприятную истину. А эта истина была очень уж неприятна клерикалам – это было одним из главных их идейных и моральных поражений за весь период буржуазной Литвы!
Теперь известно, что не один «Третий фронт» направил Саломею Нерис по новому пути. Уже раньше поэтесса встречалась с членами компартии, разговаривала с ними, выясняла важнейшие проблемы нашей эпохи, восхищалась их революционной борьбой. С другой стороны, взгляды Нерис формировались под влиянием марксистско-ленинской литературы, которую она с большим вниманием читала. Продолжая свой путь, Саломея Нерис позднее стала провозвестницей социалистического мира и на все времена вошла в историю нашей литературы и народа.
С Нерис я встретился летом 1931 года, после того как ее стихи уже были напечатаны. Я помню солнечное воскресное утро, когда в мою комнатку по Прусской улице кто-то постучался. Я только что встал и даже не прибрал в комнате, и мне, помню, было неприятно, что я заставил свою гостью ждать на кухне, через которую можно было попасть в комнату. Наконец Нерис вошла и сказала, что она – «свободна», то есть ее заставили уйти из клерикальной гимназии в местечке Лаздияй.
Мне хотелось чем-нибудь угостить гостью, но дома ничего не оказалось, и лишь после долгих уговоров она согласилась выпить чаю. Мы снова долго сидели за одним столиком и попивали горячий чай, как тогда, несколько лет назад.
Но Нерис была совсем другой. Она по-прежнему была привлекательна, но в ее лице, фигуре появилась какая-то зрелость. До конца своих дней она сохранила нежность и хрупкость, но все ее слова показывали, что за те годы, пока мы не виделись, она росла, страдала, думала. Она не была разговорчивой (напротив, она была замкнутым, стеснительным человеком), но, видно, в ее душе накопилось множество вопросов, и она разговаривала со мной как со старшим, хотя я не смел себя сравнивать с ней.
– Ты видишь, что творится, Саломея, – сказал я. – Все собаки воют из-за твоего вступления в «Третий фронт». Ну как, страшно?
Она улыбнулась не то жалобной, не то смелой улыбкой.
– Мне пришлось нелегко, это правда. Я не могу понять, почему такое простое событие так на всех подействовало, почему они так взволновались.
– Ты помнишь, Саломея, я тебе писал, что твой новый путь будет не легким и не приятным, а ты меня не послушалась, – Шутливо напомнил я ей об одном из своих писем. – И теперь нам вместе придется выдержать поношения реакции.
– Я не боюсь этих поношений, – ответила Нерис. – Я глубоко верю, что правилен мой новый путь.
Мы покончили с чаем, но я заметил, что гостья не собирается уходить, что ей хочется поговорить со мной. И мы разговаривали еще несколько часов – о Советском Союзе, достижения которого в то время восхищали меня и ее, о поэзии, в основном, конечно, о Маяковском, о Бехере, Вайнерте и других революционных поэтах, которых Нерис, хорошо владевшая немецким языком, тогда читала. Я заметил новую черту в Саломее: она разговаривала со мной очень серьезно, словно то, о чем мы разговаривали, было для нее вопросом жизни и смерти. Я поблагодарил ее за книжку «Следы на песке», которую она мне недавно подарила, а она, покраснев, объясняла, что стихи в книге слабые, что уже сейчас, хотя книга и недавно вышла, она многих бы из них не напечатала. Она сказала, что ее стихи, помещенные в «Третьем фронте», тоже слабые, что ей трудно найти новую форму для новых тем.
Я смотрел на нежное, прекрасное лицо поэтессы, на ее задумчивые, печальные глаза и думал, хватит ли сил у этой чувствительной женщины, которая, без сомнения, много настрадалась от своих бывших друзей и единомышленников, – хватит ли у нее сил долго идти по новой дороге. Ведь на старом пути ее ждал постоянный успех, признание, слава и жизненные удобства. А новый путь – с «Третьим фронтом» – не сулил ничего, кроме неприятностей. И я откровенно говорил об этом поэтессе, но мои слова, кажется, начали оскорблять ее, и я уже жалел о своей резкости. Наверное, свой поворот влево она глубоко продумала и пережила и теперь не боялась клеветы и поношений, которые тогда падали на нее со всех сторон. На моем столе как раз лежала какая-то провинциальная газетенка, в которой некто, прикрывшийся псевдонимом, цинично поносил нашу дружбу в стишках.








