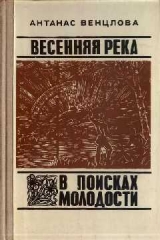
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 43 страниц)
Неумолимо настает утро. Оно какое-то торжественное, иное, чем обычно. С кухни доносится запах мяса, квашеной капусты.
Мы живо выскакиваем из кровати – не потому, чтоб так уж хотели есть, а потому, что знаем: Пиюс сегодня уезжает. Встает и он – невеселый, озабоченный. Он знает, что его побывка дома кончается, что он снова будет долго среди чужих, что его снова будут ставить на колени на горох и колотить линейкой по ладони, что его тетради учитель исчеркает красными чернилами и внизу поставит кол. Он нам уже с вечера сказал:
– Знайте – если я, уходя, скажу «ку-ку!», значит, в следующую субботу приду, а если «ква!» – то не ждите меня…
Проснувшись спозаранку, я с беспокойством вспоминаю слова брата. Да, страшно, если он, уезжая, крикнет «ква!» – тогда долго не видеть мне моего любимого брата, не пробовать хлеба святого Иоанна, не листать удивительных книг и тетрадей… Когда мы садимся за стол и хлебаем из одной глиняной миски дымящиеся вкусные щи, я то и дело гляжу на Пиюса и вижу, что он едва сдерживает слезы. И у меня самого с трудом лезет кусок в горло!
Мама завязывает в платок сало, каравай хлеба.
– Повезу для Калинаускене, – говорит она. – И гороху положила – пускай сварят, в который день скоромного кушать нельзя. А картошка еще должна быть – в то воскресенье ведь возили…
Пиюс ничего не отвечает. Хоть он и говорил нам, что ему только дома все вкусно, но, кажется, ест он сейчас без всякой охоты.
Наконец позавтракали. Отец ушел закладывать лошадей. Мы слышим – лошадки ржут, сани подъезжают к крыльцу. Мама, уже надевшая ради костела свои благоухающие наряды, вынутые из сундука с приданым, хочет закутать Пиюсу теплым платком уши и голову. Он, как всегда, сопротивляется:
– Баба я, что ли? Чтоб все смеялись, да?
– Погоди, хоть сермягу возьми! – предлагает мама. – Накинешь в санях, а то еще простынешь насмерть в такую стужу…
И она снимает с гвоздя сермягу, в которой отец ездит в лес.
Дверь отворяется, в нее вваливается со двора, облако морозного воздуха, в котором появляется заиндевевшая голова отца.
– Ну, пошли, еще в костел опоздаем, – говорит он.
Пиюс неохотно, словно страшную тяжесть, поднимает с лавки свой ранец. Шагает за мамой. Мы напряженно, тревожно ждем, что же он скажет. Остановившись у самого порога, натягивая на уши треух, он оборачивается, глядит на нас жалобным взглядом и вдруг безнадежно кричит:
– Ква!
Мы – братья и сестры, – услышав это роковое слово, с визгом, вопя на разные голоса, несемся к двери, чтобы догнать Пиюса, задержать его. Но уже поздно. Пиюс за дверью. И тут же раздается цоканье лошадиных копыт по льду – сани выползают со двора.
ГИБЕЛЬ СДОБНОЙ УТКИ
– Господи, господи, опять этот ребенок хворает, – озабоченно говорила мама, стоя в чулане у кровати. – Опять в жару. Не знаю, за что и хвататься…
– А что такому? – успокаивала ее тетя Анастазия. – Такие, коли и помрут, так и будут летать на небеси с ангелочками. Ведь, можно сказать, на такой христианской душеньке-то и греха еще нету. – Она всегда говорила, как по молитвеннику.
– Думалось, в том году краснухой переболел, корью хворал, этим коклюшем сколько времени как маялся, так уже хватит. Да где там! Опять горе…
– Не оспа ли часом, – сказала добросердечная Адомене из деревни Гульбинавас, пришедшая за мотовилом. – Глядите, ребенок весь в сыпухе. А я будто чуяла, что в вашем доме хворый, вот и сахарку прихватила.
Из уголка белого платка (Адомене – чистюля, и вечно от нее пахнет то ли ромашкой, то ли липовым цветом) она вынула два кусочка сахару и положила на подоконник.
– Может, мальчик чайку захочет или так пососать сладенького… – сказала она, и от ее доброго лица, от ее красивого, спокойного выговора мне стало куда лучше. Мне так хочется, чтобы тетя Адомене сидела здесь целый день, чтобы она снова положила на мой разгоряченный лоб прохладную свою руку. Она такая же добрая, как и мама, а иногда кажется даже добрее.
Мне все время не по себе. Изредка ясно различаю маму, тетю Анастазию, братьев, которых ко мне не подпускают – как бы не заразились. Иногда мне до того худо, что я перестаю соображать… Вокруг все кружится, валится, плывет. Вот мне кажется, что Бабяцкасов Альбинас, навалив полную тачку сушеных сыров, везет их и вдруг вываливает в лужу. Мне жалко эти сыры. Я кричу, угрожаю ему, чтоб он не делал глупостей. А он показывает мне язык. Я хочу надавать ему по шее, но Альбинас куда-то исчезает. В это время Андзюлявичюсова Забелюке отворяет калитку нашего огорода, и свиньи бегут в картошку. Я знаю, что они потравят картошку, и кричу на свиней, на Забелюке, но она не обращает внимания, и все идет своим чередом, пока снова все не исчезает, и я вижу печь. Там сидит кот и умывается передней лапой. Я знаю, что это к гостям. И на самом деле в избе, за стеной, набилось много незнакомого народу. Их я не вижу, но ощущаю висящую в воздухе тревогу, вызванную гостями, потому что в закуте, в углу избы, не своим голосом блеет овца, бебекают ягнята, лает пес, хотя я сознаю, что в избе его быть не может – он же привязан около хлева. Страшный гам продолжается, как мне кажется, целую вечность, но гости в мой чулан не заходят.
Не знаю, сколько времени проходит, пока я начинаю понимать, что творится вокруг.
Открыв глаза, я ищу сперва тетю Адомене, но ее уже нет. Вижу только сухонькое, сердитое личико тети Анастазии, склоненное над книгой псалмов. Тетя глядит в книгу и незвонким, унылым голоском тянет:
Глянул в окошко —
Ястреб подлетает,
Курицу цапнул,
Перья выдирает.
Так, бедный грешник,
Черт твою душонку…
Песня ее мне сильно не нравится, не нравится она, видать, и маме, потому что я слышу ее:
– Что ты тут, Анастазия, вздумала мальчика отпевать… Будто не видишь, что сегодня он уже веселее, чем третьего дня. Видать, все идет к лучшему…
– К лучшему не к лучшему, а молитва никогда душонке не повредит, – говорит тетя. – Молитвой даже хворь выгнать можно. Сила у молитвы неизмеримая. Будто не знаешь, что ксендзы говорят?
Они еще долго толкуют, даже, кажется, спорят. Мама подносит к моим губам кружку с теплым чаем, и я чувствую, как першит в горле, когда я глотаю сладкую водичку. Чай, наверное, подслащен сахаром, что принесла Адомене.
Шло время, и я сам уже чувствовал, что иду на поправку. Не так болело тело, и, кажется, больше не бредил. Все сильнее манили меня мир и его вещи. Пиюс подарил мне новую коробку с выдвижной крышкой, полную разноцветных камешков. Потрясешь коробку, и камешки в ней бренчат. А то еще вынешь эти камешки и разложишь перед собой на ветхом, в красных латках, одеяле. Или даже сунешь по нескольку штук в рот и чувствуешь приятный холодок, хотя мама и запрещает это делать и грозится отобрать камешки.
Кастанция – шутка ли сказать! – подарила мне свою куклу с фарфоровой, покупной головой. Не желая обидеть сестру, я ее взял, хоть подарок мне не понравился: я же не баба, чтоб с куклами играть! Так что куклу я засунул куда-то на дальний конец кровати и закрыл одеялом – пускай лежит, пока не выздоровею. А потом верну сестре или отдам Андзюлявичюсовой Забелюке.
В один прекрасный день я почувствовал себя гораздо веселее. Кажется, ничто у меня больше не болит. Я лежу и смотрю в потолок, дивясь, что каждый сук в доске на что-то похож: один – на человеческий глаз, другой – на петушиный гребень, третий – на какого-то зверька, веселого и проворного, – не на ласку ли. Окно чулана оттаяло, и в него видны черные, вылезшие из-под снега лоскуты пашни и солнечное, синее небо. Братья целый день носятся по полю, прилаживают на бурлящих канавах маленькие мельницы, с Часовенной горки мне уже принесли распустившуюся вербу.
Но больше всего я обрадовался, когда однажды дверь чулана отворилась и, в длинной, до пят, сермяге, подпоясанной красным кушаком, в треухе с опущенными по-зимнему ушами, вошел отец. Он только что вернулся из города. Раскрасневшийся, веселый наверно, что-нибудь хорошо купил или продал. Маме он подал прусский платок, тете – кусок душистого мыла, моих братьев оделил длинными леденцами, завернутыми в блестящую бумагу. А мне достался самый роскошный подарок – сдобная утка. Утка эта была средней величины, так с двухмесячного утенка с головой, даже с леденцовыми красными глазами, с шеей, крыльями. Не хватало только лап, потому что их, наверное, трудно было вылепить из теста.
Утка сидела на табуретке у моей кровати, гордо вскинув свою сдобную голову, – вот-вот закрякает – и посматривала на меня своим красным глазом, красивая на удивленье. Сколько ни гляди, не наглядишься.
Подошли братья, хотели потрогать утку, но я схватил ее обеими руками, прижал к груди, и все их мольбы были тщетны – утки я из рук не выпускал. Даже ночью я спал, обняв обеими руками этот подарок, и мне казалось, что утка живая, что она, как все утки, пушистая и теплая. Проснувшись утром, я снова положил ее рядом с собой на табурет, и снова она дружелюбно и приветливо посматривала на меня. Мне казалось, она очень довольна, что я ее так люблю и никому не разрешаю к ней прикасаться. Отец, увидев на следующий день, что утка все еще на табурете, сказал:
– Я думал, ты ее уже съел… Выходит, у тебя есть терпение, сынок, раз так долго выдержал.
– Я ее есть не буду, – ответил я, – утка ведь живая…
– Ну да, верно, она живая, – ответил отец. – Увидишь, еще и яйца будет нести…
Сидевшие за столом мои братья почему-то захихикали, но отец прикрикнул на них:
– Хорошо, что ребенок утку любит. Кто любит скотинку, из того выйдет хороший человек.
– А мы ее все равно зарежем, – спокойно и упрямо сказал Юозас, который вообще любил всякое такое – топил и вешал кукол сестер, однажды даже понес топить котят. Правда, не утопил, вернулся от торфяной ямы в слезах, но все-таки… Да уж, такой может и мою утку зарезать.
– Я тебе покажу резать! – прикрикнул на него отец. – Отведаешь ремня, будешь знать…
Я снова снял с табуретки свою уточку. Нет, ни за что на свете не отдам я ее братьям. Сунул ее к себе под одеяло и только изредка вынимал, чтобы проверить, не хочет ли она поклевать или напиться. Я кормил ее хлебными крошками и поил чаем. Я был уверен, что она и клевала и пила. А однажды Пиюс приподнял одеяло на моей кровати и вытащил оттуда яйцо.
– Утка яйцо снесла! – закричал он и показывал всем находку.
Все в избе покатились со смеху. Я было поверил Пиюсу, но мама отняла у него яйцо и сказала:
– Чтоб у меня не брали яйца из шкафчика! Растащите, а на пасху разговеться будет нечем.
С каждым днем мне становилось все лучше. Правда, сильно чесалось лицо, и мама ласково говорила:
– Дай, сыночек, я тебе обвяжу ручонки, чтоб не болело…
Она обматывала полотенцем мне руки, и я только много позднее узнал, что она это делала из боязни, как бы я не расчесал лицо и не остался рябым.
А моя утка жила со мной в кровати. Никому я не позволял к ней притронуться. Иногда я клал ее под подушку, но братья говорили, что она там задохнется, и я снова вытаскивал ее и сажал на табуретку. Однажды Юозас так долго канючил, чтоб я дал ему эту утку подержать, что я не вытерпел и дал. Через минуту он мне принес ее, разрезав вдоль надвое.
– Ты – дурак. Видишь, утка-то твоя из булки. А тебе кажется, что она живая. Вся уже высохла, как камень. Давай съедим ее скорее, а то еще собаке придется выбросить.
Увидев, что сталось с уткой, я залился слезами. Боже мой, может ли быть горе больше! Моя красавица, моя замечательная утка раскроена пополам, и брат режет ее на мелкие кусочки. Прибежали сестры.
– Ну и дурак, – приговаривал Юозас, показывая им разрезанную утку. – Есть тут из-за чего выть! Еще немного, и заплесневела бы, собака и та бы не стала есть. А теперь мы все ее дружно слопаем. Ну-ка, возьмем по кусочку, – предложил он сестрам.
Мне было и удивительно и досадно, что сестры брали по кусочку от моей утки и как ни в чем не бывало совали в рот.
– Не реви, лучше попробуй, какая вкуснота, – сказал Юозас, протягивая мне утиную голову с красными леденцовыми глазами. Я попробовал. Голова утки и впрямь была вкусной, только малость жестковатой. – Ешь, ешь, – торопил брат. – Твоя утка совсем могла сгнить, хорошо, что я ее разрезал…
Так мы и съели мою сдобную, мою замечательную, живую утку! Но я еще долго ее вспоминал. А когда снова пришла тетя Адомене, как всегда пахнущая ромашкой, я ей сказал:
– Мне такую красивую утку папа привозил из города! Она была из теста, но живая. Мы ее съели.
– Какая жалость, – сказала тетя Адомене. – Ты бы ее мне показал. Ну ладно. Наши утки на яйцах сидят. Когда высидят, ты придешь в Гульбинавас, и я тебе подарю живого утенка. Хорошо?
– Спасибо, тетушка, непременно приду.
Она снова развернула угол платка, вынула кусочек сахара и подала мне. Потом положила руку мне на лоб.
– Не говорила я, что жар спадет? – сказала тетя Адомене маме. – Видите, ребенок скоро будет совсем здоров.
– Я тоже так думала, – ответила мама. – А вот Анастазия сколько вечеров свечу теплила, все твердила, не жилец на этом свете.
– Да и мой Ляксандра, что теперь в Америке, когда-то тоже вот так – уже вроде и хоронили, а вот поправился, да еще таким силачом стал, что никто против него выстоять не мог. И теперь, говорят, самую тяжелую работу там на ихних фабриках делает, только вот писем что-то давно нету.
Мне было так хорошо слушать тетю Адомене! Голос у нее тихий, ласковый, убаюкивающий. И я все больше забывал свое горе – гибель сдобной утки.
За окнами уже маячили ветви деревьев с нежно-зелеными завязями, они звали встать поскорее и бежать в поля, где меня ждут птицы, облака, ивовые свирели. Шла весна.
ВЕЛИКИЙ ГРЕШНИК
Мама принесла мне чистую холщовую сорочку и воскресную одежду. Она, как и та, что я носил каждый день, была сшита из домотканой пестряди, но не сравнить с той – чистая и незалатанная. Я бежал по тропинке впереди мамы, веселый и счастливый – сегодня мне предстоит увидеть и услышать такое, какого еще никогда не приходилось. Мама вела меня в Любавас к ксендзу учить катехизис и готовиться к первому причастию.
По правде говоря, тетушка Анастазия уже хорошенько подучила меня вопросам веры: каждое утро и каждый вечер я вслух твердил молитвы, знал, что такое троица, страшно боялся чертей, краснозубых, сидящих за печью, и ангелов, которые ходят за людьми по пятам. Бывало, бегу через поле или пасу скотину и вдруг испуганно оборачиваюсь – что, если у меня за спиной прячется ангел? Тетя говорила, что ангелы нас охраняют и любят, но ее россказням я не очень верил: откуда знать, что ангелу взбредет в голову? Раз уж он ни на шаг не отходит от человека, лучше поостеречься…
Был светлый, теплый день. Вдоль тропинки цвел горох. Молнией разрезая небо, проносились стрижи; чирикали, стрекотали и пели на всякие голоса птицы, жужжали пчелы, а деревья бросали длинные еще тени на хлеба и луга, на дорогу и тропинки.
Еще издали, от скайсчяйского поместья, отчетливо был виден край местечка и торчащий на высоком холме за деревьями костел с устремленными ввысь башнями. По тетиным и маминым рассказам я уже знал, что в алтаре костела находится чудотворный образ пресвятой девы из Трямпиняй. Да, образ был из нашей деревни! Теперь эти рассказы забыты, но когда-то все говорили, что на Часовенной горке однажды утром нашли висящий на дереве образ пресвятой девы. Люди сняли его с дерева, отнесли в Любавас и поставили на алтарь. Но образ чего-то не успокоился. Ночью он вернулся на прежнее место. И так он проделывал семь или девять раз. Тогда люди всю дорогу от Часовенной горки до Любаваса выстлали холстами и забросали цветами, а ксендзы нескольких приходов несли образ с пением и кадили ладаном. С той поры образ больше в деревню не возвращался. В Любавасе он даже стал чудотворным, как был чудотворным и источник – я еще сам помню, как он журчал из Часовенной горки. Говорят, этот источник излечивал людей от всяких болезней. У помещика-татарина была любимая собака, которая захворала. Барин велел собаку искупать в чудотворном источнике. Собака выздоровела, но источник с той поры утратил свою чудодейственную силу. Наконец он почти совсем иссяк, и люди завалили его камнями и землей. Я не помню, чтобы в мое время пресвятая дева Трямпиняйская сотворила какое-нибудь чудо. Наверное, времена ее могущества тоже миновали. Позже, в первую мировую войну, в Любавасе сгорел деревянный костел вместе с чудотворным образом. Я никак не мог понять, почему всемогущий боженька не спас от пожара костел или хотя бы образ своей матери.
Но так я рассуждал несколько лет спустя. А теперь мы с мамой приближались к местечку. Было тепло. Мы шлепали босиком, как и все, кто шел в это утро в костел. Мы с мамой поспели как раз к мессе. В костеле было скучно, от долгого стояния ныли бока, но я с удовольствием слушал, как поет органист, подыгрывая себе на органе. Может, пел он и не бог весть как, но музыка органа гремела так, что казалось – ее можно услышать даже в нашей деревне.
После мессы мы с мамой уселись под вековыми липами, от которых пахло медом. Честно говоря, нам уже хотелось есть. Через какой-нибудь час вся толпа женщин с детьми собралась во дворе костела у подножия каменного памятника. На этот памятник ксендз, как рассказывала мама, несколько лет собирал приношения. На нем под крестом была надпись не по-нашему: «In hoc signo vinces».[3]
Никто не знал, что это значит.
Итак, у этого памятника теперь появился ксендз, но не тот, который служил перед алтарем. Ксендз – женщины называли его молоденьким – и на самом деле был еще молод, но очень серьезен, черняв, высок, чуть сгорблен в плечах. Он хлопнул в ладоши и довольно тихо, но отчетливо произнес:
– Пустите малых сих ко мне… Пустите малых сих ко мне…
Одни дети шли к нему смело и даже сами, а другие держались за материнские юбки. Ксендз заулыбался и снова хлопнул в ладоши. Потом он опустился на колени, дал знак и нам. Мы тоже опустились на колени. Он говорил молитву, а мы повторяли за ним. От волнения, от непривычки к такой толпе я не мог уловить смысла его слов. К счастью, молитва скоро кончилась, ксендз поднялся, встали и мы.
– А теперь посмотрим, что вы уже знаете, – сказал ксендз и ткнув тоненькой палочкой в рыжего рябого мальчика, стоявшего под кленом, спросил: – Скажи-ка мне, что такое троица?
– Три бога, – не моргнув глазом ответил рыжий.
– Твоя матушка плохо тебя научила, – чуть покраснев, сказал ксендз. – Вот мне сейчас скажет этот мальчик, – он ткнул палочкой прямо в меня: – Он, без сомнения, знает.
Ну, конечно, я знал! Может, раз сто мне вдалбливала это в голову тетушка. И я, не колеблясь, ответил:
– Един бог в трех особах.
– Хорошо, хорошо, мальчик. Только мы теперь говорим красивее – не в особах, а в лицах. Запомните, детки, в лицах. Ну, повторим теперь все: един бог в трех лицах.
– Един бог в трех лицах, – загудели дети вместе с мамами.
– А как они называются? Кто знает, поднимите руку.
Дети оторопело глазели на ксендза. Поощренный первым успехом, я поднял левую руку. Заметив это, ксендз сказал:
– Только правую поднимайте, детки, не левую. Ну, ну, мальчик… – и он опять ткнул в меня палочкой.
– Отец, сын, – смело ответил я, но вдруг позабыл, что дальше, и никак не мог вспомнить, хоть убей.
– Хорошо, хорошо, – улыбнулся ксендз, – ну, а дальше – кто знает?
Теперь подняла руку веснушчатая, худенькая девочка. Все удивились ее смелости.
– Ну, ну, девица…
– Отец, сын и дух святой, – выпалила девочка и зарделась, как земляника.
– Хорошо, девица, хорошо тебя научила матушка. А теперь, детки, повторим за мной: отец, сын и…
– …дух святой, – загудели ученики и их мамы.
– Мамы пускай не повторяют. Мы теперь говорим с малышами, – сказал ксендз.
На следующий день мама не смогла идти в местечко, и я отправился в путь с Юозукасом Андзюлявичюсом. Юозукас хромой, но тихий и хороший мальчик, мы с ним всегда ладили. Правда, он куда хуже меня разбирался в вопросах веры, и я, топая с ним по уже знакомым тропинкам, втолковывал ему катехизис, за что он угощал меня прошлогодними орехами.
Ученье шло без особых приключений. Если погода хорошая – мы занимались под деревьями во дворе, если заладит дождь – сидели в костеле. Внутри звонче, чем на дворе, гремел голос ксендза, и мы даже дышать боялись – до того все было слышно.
Приближалось время исповеди и причастия. Это уже куда серьезнее и страшнее.
Ксендз объяснил нам, как считать свои грехи, как вести себя у исповедальни. Он даже репетировал: сядет в исповедальню, а мы по одному подходим к окошку, крестимся, ладонью или шапкой закрываемся от костела, чтоб те, кому не надо, не слышали наших грехов. Однако мы должны были рассказывать ксендзу вымышленные грехи, так как это – он несколько раз подчеркнул – всего лишь проба, репетиция. Не знаю, как другие, но мне становилось все больше не по себе – ведь я знал, что приближается час настоящей исповеди, когда придется исполнить страшный, неприятный долг – исповедаться в своих грехах.
Как только ксендз возвестил, что в следующую субботу мы пойдем уже к настоящей исповеди, меня охватило беспокойство. Я хорошо знал, что не сказать про какой-нибудь грешок и утаить его – само по себе смертный грех, и если вдруг умрешь с таким грехом на совести, то угодишь прямо в ад, где, как объяснял молодой ксендз, веки вечные слышится плач и скрежет зубовный. А тетушка твердила, что там черти тыкают вилами души нехороших людей, варят их в смоле, поджаривают на сковородах, что бесы там скачут от радости, испуская из пасти горящую и зловонную серу. Еще больше укрепилось все это во мне, когда я глядел в полутьме костела на страшные картины, где изображен был Христос, окровавленный, измученный, влачащий невыносимо тяжелый крест, – и все это за наши грехи! А что я скажу ксендзу, когда приду к исповеди? Не умолчу ли о своих страшных деяниях? Я считал себя великим грешником и чувствовал, как грехи отягощают мою душу.
И вот я перед окошком исповедальни. Сначала все шло вроде гладко. Я восславил Христа, перекрестился, шапчонкой отгородил голову от костела. Но когда настало время исповедаться в своих грехах, мне в голову вдруг полезли всякие небылицы. Ведь я же знал, что не загонял скотины в соседские хлеба, но все-таки сказал про это ксендзу, а тот принялся уточнять:
– Сколько раз это делал?
– Три раза, – ответил я.
– А-а, три, говоришь. Неладно, сынок. А еще? В чем еще согрешил?
Вдруг я вспомнил, что однажды мама, рассердившись за что-то на меня, схватила лежавшую под рукой веревку и хотела отлупить. Защищаясь, я закрылся рукой. Теперь я решил, что тогда совершил страшный грех.
– На родителей руку поднял, – сказал я мрачно.
Ксендз заерзал в исповедальне, подсунул ухо поближе к решетчатому окошку и переспросил:
– Что, что говоришь? На родителей?..
– На родителей руку поднял, – настойчиво повторил я, чувствуя себя закоснелым преступником.
– А сколько раз?
– Два раза, – ответил я не моргнув глазом, и мне уже казалось, что я поднимал руку не только на маму, но и на папу.
– Неладно, сынок! Если таким малышом уже руку на родителей поднимаешь, что-то будет, когда вырастешь? Ведь родители тебя родили, растили, а ты? Ты руку на них поднимаешь?! Знаешь – вот из таких детей, что родителей не почитают, и вырастают разбойники, головорезы. Понимаешь?
– Понимаю, – ответил я, и мне казалось, что лучше бы сквозь землю провалиться, чем еще хоть раз совершить такое страшное преступление. Я уже вообразил себя, отпетым головорезом, для которого нет ничего святого, – кого хочешь могу ограбить и зарезать.
Вдруг я заметил, что ксендз почему-то улыбается, и у меня чуть отлегло от сердца. Однако предстояло признаваться еще в одном грехе.
По правде говоря, идя к исповеди, я никак не мог понять, грех это или нет. Все-таки я решил не утаивать от ксендза, ведь сокрытый грех – самая страшная опасность для души.
– Я домой подковку принес, – сказал я.
– Какую подковку? – спросил ксендз.
– Такую, с башмака, что мужчины носят или солдаты.
– А где ты ее взял? – заинтересовался ксендз.
– Нашел на дороге и принес.
– На какой дороге нашел?
– Что мимо нас в гору идет, – объяснил я.
– Надо отдать тому, чья она была, эта подковка, – сказал ксендз.
– Но я же не знаю, кому отдать, – оправдывался я.
– Надо украденную вещь вернуть. Понимаешь?
– Понимаю, – ответил я, уже всерьез веря, что эту подковку, которая мне так понравилась и с которой я столько играл, я на самом деле украл.
– Для очищения грехов сотворишь «Богородицу»… И кайся в грехах, сынок… Бей себя в грудь…
Я каялся и бил себя в грудь и творил, творил молитвы без конца. Когда я отошел от исповедальни, вроде полегчало, но вместе с тем я понимал, что исповедь получилась нехорошая, что я наплел ксендзу кучу небылиц. К причастию, однако, ксендз меня допустил.
Вернувшись домой, еще в тот же день я свою драгоценную подковку отнес и положил обратно на дорогу.
Несколько дней меня мучили угрызения совести за то, что я наплел ксендзу про несуществующие грехи, наврал, – значит, тем паче согрешил… Грехи днем и даже ночью, во сне, преследовали меня, великого грешника…
ОТЗВУКИ ДАЛЕКОГО МИРА
Как узок поначалу мир человека! Сперва это была изба, огонек в очаге. Стены и окна со всех сторон ограничивали пространство, в котором я узнал маму и папу, братьев, сестер, тетю, куриц, расхаживавших по глинобитному полу, овцу с ягнятами, блеявших зимой в углу избы, кошку, обитавшую за печью, и собаку, лаявшую во дворе. Потом границы этого мира раздвинулись. Когда я взобрался на холм у нашей новой усадьбы, я удивился и обрадовался тому, что мир, казалось, не имеет пределов – особенно на юг и восток он уходит ужас как далеко.
На востоке, сразу под холмом, лежало озеро. Оно сверкало и искрилось на солнце, от него во все стороны уходили луга, кое-где испещренные кустами и невысокими березками. Дальше – деревни. Ближайшая из них – Гульбинавас, в купах деревьев, с приземистыми избами, с божничками, приколоченными на березах, а еще дальше синел большой лес. Говорят, он где-то невообразимо далеко, за самой Калварией. Вот что поразительно: ведь и там живут люди, и туда уходят дороги, а по дорогам этим катятся повозки, поднимая облака пыли, как вот на той дороге, что сворачивает на восток мимо трямпиняйского поместья.
А на юг с нашего холма видно было еще дальше. Не только Часовенная горка, которая торчала чуточку западнее, не только ближнее поместье. Бескрайняя, залитая солнцем равнина тянулась все дальше и дальше на юг, и по пей рассыпались избы и избушки. Чем дальше они, тем меньше. Кое-где на равнине раскинулись сады и небольшие березнячки, сосняки и ельники, заросшие кустарником кручи и дороги, убегающие в неоглядную даль.
– Там уже не наши, – говорил Пиюс, – там поляки живут. Вон едва-едва видно, гляди, там два дерева стоят. Между, ними дорога на Сувалки. Туда я как-то ездил с папой…
Господи, вот бы мне когда-нибудь очутиться там, у тех деревьев, а то и дальше – в самих Сувалках, которые и представить себе нельзя! Это, наверное, невиданно огромный, великолепный город. Границы мира раздвигались…
Не знаю откуда, но и братья, и соседские ребята, и женщины знали уйму сказок. Долгими осенними и зимними вечерами мы, бывало, соберемся в новой избе, сядем на лежанку свесив ноги, и обычно в темноте, а то при неярком свете керосиновой лампы кто-то принимается сказывать сказку. Мы, малыши, сидим затаив дыхание, не шевелясь, не смея даже почесать, где свербит. Сердце ныло не только из-за горестей Йонюкаса и Эляните. Нельзя было сдержать слез и когда Штряймикисова Маре, из помещичьих батрацких, уже не в первый раз рассказывала про бедного петушка, которого схватила лиса и уносила все дальше —
по горам высоким
да по можжевельнику… —
в свою лесную нору. Маре сказывала эту сказку, напевая, и от этого пения становилось еще тоскливее на душе.
А какая сказка была про персидского короля, который плыл по морю-океану, пока корабль не остановил рак! Разумеется, никакой это был не рак, а самый что ни на есть бес, обернувшийся раком. Он говорил, что отпустит корабль, ежели персидский король пообещает отдать то, чего дома не оставил. Король решил, что он все оставил дома, согласился с требованием рака, и тот отпустил корабль. Но что же вышло из всего этого? Вернувшись домой, король нашел только что родившегося сына и понял, что его, беднягу, он и пообещал отдать тому страшному раку. И вот королевский сын растет, учится на ксендза, путешествует по неведомым странам, ночует на бешено вертящихся ветряных мельницах, читает волшебные книги и, в конце концов, после разных уловок избегает грозивших ему несчастий. И мы можем вздохнуть полной грудью. Как хорошо все-таки, что на свете есть справедливость и что ни в чем не повинному парню не пришлось бессмысленно погибнуть из-за козней зловредного рака!..
Порою эти сказки веселы, порою грустны, но всегда они волнуют, от них то сильнее бьется сердце, то текут слезы, и хорошо, что в темноте никто этого не видит. Бывало, лежишь уже в постели, давно все смолкло в избе, а у тебя еще долго стоит перед глазами несчастный петушок, которого лиса несет через высокие горы да по можжевельнику, и тебе его ужасно жалко. А то еще приснится, что ты угодил в ту избу, где собираются двенадцать братьев – черных воронов…
Позднее нам читали сказки из книг. Я помню, как Пиюс читал книжонку, в которой были описаны путешествия знаменитого Синдбада. Какие-то отрывки из «Тысячи и одной ночи», популярно пересказанные в дешевых изданиях, ходивших в то время по деревням, оставляли неизгладимый след в душе, заставляли уноситься воображением в неведомые страны, знакомили с людьми, которые жили иначе, чем мы, жизнью, полной приключений и чудес, таких, что просто дух захватывало от одной мысли о них.
Не помню, когда в нашем доме стали появляться книги и газеты. Но уже сызмалу я понял, что отец свято почитает каждый клочок печатной бумаги и не приведи господи, чтобы кто-нибудь из нас порвал газету или книжку! Все они аккуратно стоят на полке в чулане около печи. Старые газеты подшиты в толстенные книги, каждая книга, которую отец приносит из Любаваса, аккуратно завернута в бумагу. И мы, и соседи, пришедшие на огонек в нашу избу, с нетерпением ждем, когда отец, закончив свои дела у верстака, принесет из чулана книжку, сядет за стол, опустит пониже лампу, выкрутит фитиль и начнет читать.
Никогда не забыть мне это удивительное ощущение – восторг и огромную радость, когда вся изба слушала спокойный, твердый голос отца:
Что это шелестит? – Листка коснулся ветер,
Иль птица, что в гнезде проснулась на рассвете.
Что хрустнуло? – То волк, охотясь и кочуя
Всю ночь, теперь бежит, зари погоню чуя.








