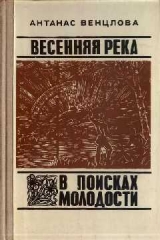
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 43 страниц)
Доктор Немейкша спрашивал, не жалуюсь ли я на что-нибудь, кроме глаз, посылал меня к специалисту по ушным болезням, но и тот как будто бы не нашел ничего серьезного. Проведя несколько недель в госпитале, я наконец вышел на волю. Почему-то до сих пор мне кажется, что в армию я не попал не столько из-за глаз (они мне служат по сей день), сколько из-за «Третьего фронта»…
ВСЕ ЕЩЕ РАЗБРОД
Теперь я все реже встречался с друзьями. Пятрас Цвирка жил в Париже и писал в письмах, что не может привыкнуть к большому городу, тоскует по Литве. Йонас Шимкус, так и не закончив гимназии для взрослых, женился и по-прежнему работал, кажется, у нотариуса. Он много писал в прогрессивной печати (в «Культуре», «Молодежи»), но, увы, все чаще печатался и в «Воскресенье», «Дне», «Новостях дня», «Мире молодых». Пока выходил «Третий фронт», мы, насколько могли, боролись против участия товарищей в беспринципной бульварной печати. Но условия были такие, что молодых писателей просто тянуло в болото – иначе им нечего было есть. Не все шли этим путем. Скажем, Борута еще из Берлина писал нам, что этот путь не для него. «Чертовски хотел бы попасть куда-нибудь простым рабочим, чтобы можно было решить вопрос хлеба, не погубив себя».
Все реже видел я и Райлу. Он был самым обеспеченным из нас (как я упоминал, его родители были крупными хозяевами), он жил, не зная, что такое борьба за кусок хлеба. Видно, с малых лет его баловали, так что и теперь он не стеснялся. При каждом случае он выпивал. Когда мы жили у Блазаса, Райла писал на папиросной бумаге историю фашистского переворота 1926 года и собирался послать ее в какую-то антифашистскую литовскую газету за границу. Дело было секретное, и я не старался узнать, для кого и что он пишет. Написав, Райла тщательно подсчитал строчки и сказал, что должен получить такой-то гонорар. Мне его протест против фашистского режима казался идейным, и я удивился, что он хочет на этом заработать.
Райла гордился своими любовными похождениями и корчил героя, перед которым не устояла еще ни одна женщина. Некоторые из «подвигов» Райлы прозвучали довольно широко. И Корсакас, едва выйдя из Шяуляйской тюрьмы, писал мне: «Наш коллектив не должен стать шайкой пьяниц. В этом отношении особенно трудно будет с Бронисом, о пьяных похождениях которого даже в провинции ходят слухи…»
Райла очень уж ценил жизненные удобства и удовольствия. Отличаясь трудолюбием, во времена «Третьего фронта» он перевел с немецкого толстую книгу Ремарка «Дорога назад» и вообще много писал. Он заранее подсчитывал свои доходы и старался получше уладить дела.
После закрытия «Третьего фронта» Райла продолжал интересоваться социализмом, жизнью Советского Союза, читал труды немецких коммунистов. Он все еще любил помечтать о дальнейшей литературной работе, об издании новых журналов и новых книг. Но его пыл заметно угасал. Еще тогда, когда мы печатали «Третий фронт», Райла любил поговаривать:
– Интересно, кто из нас первым перебежит к фашистам? Думаю, что это будет Венцлова… Понимаете, он родом из Сувалкии, а тамошний народ…
И он принимался доказывать, почему сувалкийцы ближе всего к фашизму.
Этот человек все больше отдалялся от нас и приближался к лагерю, который мы ненавидели всей душой и считали главным бедствием Литвы.
Райла устроился на Зеленой горе, в деревянном доме, который поэт Майронис выстроил для своей подруги. Поселился Райла в квартире этой женщины. Однажды утром я застал его в кровати – он отдыхал после ночной попойки. Закурив сигарету, он со смехом рассказал:
– Иногда сюда заходит сам Майронис. Вот и на той неделе звонит кто-то в дверь. Открываю. А это наш великий поэт стоит и спрашивает, дома ли госпожа. Госпожи не оказалось, и он велел передать ей какой-то пакет. Я взял, понес в комнату и, думаю, посмотрю, что же там такое. Осторожно развернул. Смотрю – конфеты, шоколад, орехи. Даже облизнулся. Не каждый день доводится пробовать такие сладости. Ну и поделил пополам. То есть половину взял сам, а половину снова завернул, отнес в гостиную и положил на столик. Неужели будет спрашивать у нее Майронис, сколько там было плиток шоколада или конфет?..
Мне эта история не понравилась, но Райла продолжал смеяться:
– Ничего, не обеднеет величайший литовский поэт… А мне, студенту, удовольствие…
Мы начали разговаривать о недавно полученном номере «Наковальни», где снова нападали на «Третий фронт». Райла зевнул и сказал:
– Знаешь что, братец, я тебе начистоту скажу. Надоело мне все это. Я пришел к выводу, что капитализм еще крепок, что при нем еще можно жить. Возьму-ка я и продамся фашистам. Так сказать, поверну по капиталистическому пути.
– Ты что, шутишь? – сказал я, удивившись его цинизму.
– Мне не до шуток, – спокойно ответил Райла.
– Ты хочешь с фашистами, которые?..
– А почему бы нет? – ответил Райла. – У них в руках власть. С ними не пропадешь, братец…
– Если ты так думаешь, нам не о чем больше разговаривать, – сказал я и ушел.
Я ходил по улицам и не мог успокоиться. Райла, который всегда казался левее всех нас! Если только не было посторонних, он не стесняясь ругал Сметону и Вольдемараса, издевался над таутининками, неолитуанами, клерикалами, в последнее время любил философствовать о социализме – и он теперь от всех отвернулся, откровенно и цинично перебежал к врагам! Это не умещалось в голове. Правда, «Наковальня» всем нам немало попортила крови, но неужели социализм – это одна «Наковальня»? Неужели нет нового государства – Советского Союза, где растет строй более справедливый, чем наш? Когда о своих сомнениях и разговоре с Райлой я рассказал друзьям, они не слишком удивились, некоторые сказали, что давно этого ждут, а Блазас даже расхохотался:
– Знаете что? Он у меня спрашивал, не пойти ли ему служить в охранку. Я ответил, что если он так подумал, то, без сомнения, пойдет…
Некоторое время спустя в «Литовских ведомостях» появилось сообщение, что бывший член «Третьего фронта» Бронис Райла уже работает в охранке. Мы ждали, что Райла или охранка поместят опровержение в печати (так обычно поступали). Но никакого опровержения мы не получили.
Тогда я написал своему бывшему товарищу короткое, недвусмысленное письмо: по известным ему причинам я порываю с ним дружбу и знакомство и, встретив на улице, не буду с ним здороваться. Несколько дней спустя мое письмо вернулось назад вместе с ответом Райлы. Райла не пробовал объясняться и доказывать, что не стал охранником. Он нападал на меня за то, что я смею придерживаться старых взглядов и писать ему подобные письма – я ведь «ем литовский хлеб»! Подобные рассуждения Райлы пахли упреками «Литовского эха» по адресу литовской интеллигенции, которая не желает поддерживать фашистскую политику; так что я ответил ему: не думаю, что лишь молодчики его профессии имеют право «есть литовский хлеб». Письмо Райлы я отправил вместе со своим ответом. Несколько дней спустя оно вернулось. Не имея желания продолжать споры с этим человеком, я, даже не раскрывая письма, уничтожил его.
Несколько раз ко мне заходила (думаю, что без ведома Райлы) его подруга Данета. Она говорила, что мы – не женщины, которые ссорятся из-за платьев; в политических спорах можно и помириться. Увы, эта красивая девушка с умом маленького ребенка меня не сумела убедить. Встретив на улице бывшего товарища, ставшего охранником, я отворачивался. Остальные сотрудники «Третьего фронта» также прекратили с ним отношения.
Прошло немного времени, и мы услышали, что Райла уже поднимается по ступеням карьеры: сотрудничает в печати таутининков, получая, разумеется, хороший гонорар, болтает по радио, собирается ехать в Париж… В фашистском журнале «Руль», который нас поносил, теперь начали появляться статьи А. Валькинишкиса. Они были полны ненависти к социализму, «Третьему фронту», «культурбольшевизму». Нетрудно было догадаться, что это за новая поганка.
Понимая, что, став таутининком, будет еще легче делать карьеру, Райла в 1934 году вступил в их союз.
В более поздние годы я часто возвращался мыслями к событиям того времени и думал, какие психологические причины направили одного из нас на путь ренегата и предателя. Карьеризм? Без сомнения. Склонность к легкой и приятной жизни, выпивке, женщинам – все это тоже сыграло роль. Но это, наверное, еще не все. Поговаривали, что Райлу арестовали еще и Паневежской гимназии. Может быть, гадали товарищи, его уже тогда завербовали в шпики. Закончив гимназию, Райла уехал в Каунас, и охранка временно забыла о нем. Но когда он стал членом «Третьего фронта», принялся писать статьи о пролетарской литературе, заделался истинным «р-р-революционером», охранка вызвала его и напомнила про старые обещания. Не знаю, так ли было на самом деле. В историю общественной жизни и литературы Райла вошел как ренегат, предатель и охранник. Он сознательно свернул по этому пути, решив, что капитализм еще прочен, что карьеристы могут еще неплохо жить… И правда, Райла некоторое время жил в роскоши. Но он пал морально и как писатель, и как человек (сейчас, в эмиграции, он с тоской вспоминает о безвозвратно минувшем жирном прошлом таутининка и изредка поругивает своих старых знакомых).
Казис Борута после ликвидации «Третьего фронта», в который он поначалу вложил столько надежд, очень волновался и из-за гибели журнала, и из-за того, что последние номера шли уже не в том направлении, в каком ему хотелось бы, но Казис не мог жить без дела. И вот в 1932 году он организовал альманах «Труд». На обложке работы нашего друга и прогрессивного художника Мечиса Булаки были четверо рабочих. Название было написано на литовском, русском, немецком, французском языках и на эсперанто. Этим, без сомнения, подчеркивался интернационализм участников альманаха.
Кроме Боруты в нем участвовали и другие молодые писатели – Витаутас Монтвила, Казис Якубенас. Впервые выступил и не известный никому до сих пор Юозас Балтушис.[85]
В «Труде» Борута, правда, не пытался оживлять умершего «парня», но его манифест состоял из общих фраз, поднимал литературу над партией и агитировал за «активный реализм» – довольно туманное понятие в политическом и эстетическом отношениях. Альманах заявлял свой протест против капитализма, который «мечется на виселице насилия, выстроенной собственными руками» в то время, как «дни свободы стучатся в нашу дверь».
Я согласился участвовать в «Труде» не столько из-за старой дружбы, сколько потому, что это был единственный тогда прогрессивный альманах. Я дал рассказ «Под золотым небом Италии», основанный на впечатлениях о Венеции. Рассказывая об Италии, я, разумеется, думал о Литве, которой заправляли фашисты.
К сожалению, этот альманах, в котором не было боевого духа «Третьего фронта» и в котором участвовали лишь некоторые из его сотрудников, просуществовал недолго: цензура приостановила уже вторую его книгу. Остался лишь исчерканный цензурой экземпляр, который красноречиво свидетельствует о том, в каких условиях находилась тогда прогрессивная, антифашистская литература.
Теперь я чаще встречался с Корсакасом. Он обращал на себя внимание не только студентов, но и профессоров. Корсакас поражал своими способностями на семинарах, а профессор Эдуардас Вольтерис, совсем уже дряхлый, поручил ему вместо себя преподавать историю латышской литературы. Корсакас читал ее так, что студенты битком набивали аудиторию. А Вольтерис дремал за последней партой, лишь изредка поднимая голову и выкрикивая: «Большевик!»
Жил Корсакас близко, и я довольно часто заходил к нему за каким-нибудь советским журналом, трудом по марксистской философии или просто поболтать о литературе или политике. Хотя мой товарищ был моложе меня, меня поражало его умение анализировать действительность, остро и отважно вскрывать ее противоречия. Влюбленный в прогрессивную литературу, Костас продолжал писать свои статьи и уже в 1932 году издал первый крупный сборник. Чувствовалось, что у этого юноши острый, аналитический ум. Он – прирожденный критик, который сразу видит, что в книге хорошо и что плохо, что прогрессивно и что реакционно, легко формулирует свои мысли и выражает их темпераментно, горячо или холодно, с сарказмом, не избегая иронии и даже, если нужно, издевки. Встречаться с ним всегда было интересно.
В эти дни я видел и Нерис, которая жила в Каунасе у профессора Миколайтиса. Увы, наши встречи не были веселыми. Она тяжело переживала закрытие «Третьего фронта» и клуба «Надежда». В Каунасе она на каждой шагу встречала бывших своих друзей и знакомых, и те по любому случаю клеветали на «Третий фронт» и уговаривали ее бросить избранный ею путь, предлагали новую службу. Но поэтесса не сдавалась. Она посылала свои стихи в московскую «Наковальню», – значит, сделала еще один шаг вперед. Она продолжала интересоваться советской печатью, литературой, читала революционных поэтов и старалась все глубже проникнуться наукой марксизма-ленинизма. (После закрытия «Надежды» «Эхо Литвы» писало, что во время обыска были обнаружены письма С. Нерис, в которых она пишет, что проштудировала все сочинения Ленина. Подобные утверждения охранки, конечно, несколько преувеличены. Но, без сомнения, Нерис уже тогда читала его статьи и книги.) Поэтесса продолжала встречаться с некоторыми коммунистами, работающими в подполье. С ней сблизилась ее почитательница Она Шимайте, от которой и мы в годы «Третьего фронта» получали труднодоступную советскую печать и литературу. Позднее Нерис поддерживала близкие дружеские отношения с Шимайте.
Пятрас Цвирка часто писал мне из Парижа (к сожалению, во время войны его письма погибли). Поначалу ему трудно было уехать из-за призыва в армию. Как-то обманув призывную комиссию, Пятрас все-таки уехал, и, когда он был в Париже, в газетах появились заметки, что полиция ищет его как дезертира. Получая скудную стипендию, Цвирка в Париже просто голодал. Но он стал энергично изучать французский язык и вскоре уже читал французских классиков.
Я встретил его осенью 1932 года. Пятрас вернулся, не изменив своим убеждениям, хотя, пока он находился в Париже, среди каунасских журналистов и в реакционной печати было немало догадок и клеветы на него. Он рассказал мне о жизни в Париже и возмущался тем, как стипендиаты таутининков там швыряются деньгами. Большое впечатление на Пятраса произвели сокровища искусства. Он навсегда полюбил Ренуара, Ван-Гога, Гогена и Дега.
Вернувшись из Парижа, Пятрас побывал в родной деревне и, приехав в Каунас, как обычно, рассказывал веселые истории:
– Лежу я утром в своей клети и слышу – кто-то стучится. Сосед, тот, что в Америке попал в армию и воевал на Западном фронте, во Франции. Сразу понял, что хочет поговорить о Париже. «Садитесь, дядя, вот тут, на кровать, поговорим». – «Спасибо, Петрюкас, – говорит он и шарит в поисках трубки. Закурил и спрашивает: – Что ж, Петрюкас, слыхал, ты в Париже был», – и вижу, что не верит он, что Петрюкас Цвирка мог быть в таком городе. «Был, дядя, – говорю я, – видел Париж. Хороший город, дядя». А он все улыбается такой подозрительной ухмылочкой, словно говорит: «Ни черта там ты не был и ничего не видел», – и спрашивает меня: «Ну ладно, раз уж был, то скажи, видел ли там ты вот зеленую девку на углу?» – «Шутите, дядя, – говорю я, – девок-то в Париже тьма-тьмущая. Как я могу увидеть какую-то на углу?» – «Нет уж, Петрюкас, ты сам не шути, – говорит он, – скажи, а вот зеленую на углу видел?» – «Нет, говорю, зеленой девки, да, еще на углу, точно не видел». – «Ну вот, Петрюкас, – дядя прищурился и тычет в меня мундштуком, – вот видишь, а еще говоришь, что в Париже был…» Рассмеялся и ушел, а я долго думал, что это за девка. Видно, он запомнил какую-то статую или рекламу, и Париж без нее – для него не Париж.
Едва тот ушел, как другой стучится. Пригласил войти. Подошел, руку подал и сам сел. Без долгих вступлений спрашивает: «Скажи ты мне, Петрюкас, одну вещь. Только откровенно скажи, от сердца». – «Хорошо, дядя, говорю, если только знаю». – «Ясно, знаешь, ведь такое образование получил, – говорит он и смотрит на меня большими добрыми глазами. – Ты скажи, Петрюкас, есть бог или нет?» – «Нет, дядя, – отвечаю я, – нет. Выдумки ксендзов», – говорю я. Посмотрел на меня дядя несколько раз, пыхнул трубкой, выпустил дым и протягивает мне руку: «Вот уж спасибо, Петрюкас, что сказал, большое спасибо. Теперь уж буду знать» – и, веселый, счастливый, ушел, попыхивая трубочкой. Видно, не был уверен насчет бога, а теперь успокоился…
– Видишь, я в деревне большой авторитет. И давно уже, – смеется Пятрас. – Я тебе рассказывал про мою беседу с капелланом, когда я еще учился в прогимназии?
– Да вроде нет.
– Слушай, – сказал Пятрас. – Учебный год подходил к концу, и наш капеллан на уроке закона божьего сказал: «Вот, детки, скоро будут каникулы. На каникулы я поеду в Рим. Вы знаете, что в Риме, в Ватикане, живет папа, святой отец?» – «Знаем!» – кричит весь класс. «Вот и хорошо, детки, что знаете, – сказал капеллан. – Так вот, очень даже может быть, что в Риме я увижу его святейшество. И хотел бы узнать, что ему передать, что вы хотите сказать папе…» Весь класс молчит, а я малость подождал и поднимаю руку. «Ну, Цвирка, что передать папе?» – «Прошу передать ему от Пятраса Цвирки привет!» – крикнул я. Капеллан покраснел и говорит: «Как ты смеешь, свинья? Могу ли я передавать привет такому большому человеку от какого-то Цвирки?» Я замолчал, а капеллан продолжал: «Вот, детки, если бы вы попросили через меня отцовское благословение от папы, это я понимаю… Это уже дело другое…» Но друзья, когда закончился урок, считали меня героем – что ни говори, я один только знал, что передать папе римскому…
Однажды Пятрас мне сказал:
– Ты помнишь моего «Франка Крука», которого я дал для последнего номера «Третьего фронта»? Я все чаще думаю, что стоило бы из него сделать роман.
– Мы же тебе сразу сказали, когда прочитали его. Правда, Пятрас, садись за роман. Напишешь, я в этом не сомневаюсь.
– Сейчас еще нет. Не все мне самому ясно. Нужен материал, надо все продумать. Но напишу непременно…
ПОСЛЕ УНИВЕРСИТЕТА
Настал день, когда я сдал последний – государственный – экзамен перед комиссией, в которую входили профессора Миколас Биржишка, Винцас Миколайтис, Пранас Скарджюс и Пранас Аугустайтис. Моя дипломная работа «Символизм в литовской лирике», которую я писал, как мне казалось, исходя из марксистских позиций, была высоко оценена Биржишкой и Миколайтисом, хотя они (особенно Миколайтис) и указали, что не согласны с моим методом. Подобная терпимость профессоров удивила меня, потому что, вручая свою работу, я не был уверен в ее судьбе. Я слышал, что некоторые из моих преподавателей пытались выхлопотать для меня стипендию за границу, но, когда этот вопрос рассмотрели выше, там сразу дали понять, что для людей с моими убеждениями стипендий не предвидится.
В последний университетский год мое материальное положение снова сильно пошатнулось. Видно, началась тайная кампания против меня, как редактора «Третьего фронта» и человека, который не умел кланяться. Я почувствовал, что все труднее мне получить работу даже там, где раньше я получал ее без особого труда. Чтобы успешно кончить университет, я почти перестал писать в газеты. Правда, представился случай перевести и отредактировать интересные путевые заметки о Средней Азии К. Арриса; кроме того, меня пригласил перевести свои медицинские новеллы «Врач рассказывает» профессор-швейцарец Ландау (Э. Каукас). Это немного поправило мое финансовое положение, но только временно.
Непременно надо было найти постоянную работу. Не было ни малейшей надежды получить место преподавателя в литовской гимназии в Каунасе – здесь работали верные таутининкам учителя, которые не собирались уступать своих мест. С великим трудом я поступил преподавателем литовского языка и литературы во вновь открывшуюся еврейскую гимназию с литовским языком преподавания, которая обосновалась в неудобном доме, в Старом городе.
Работа преподавателя показалась мне интересной, хоть и утомительной. После пяти или шести уроков пересыхало во рту, в голове шумело, а дома ждали еще стопки тетрадей. Большинство моих учеников плохо владели литовским языком; их приходилось учить не только правильно писать, но и правильно выговаривать звуки. Дисциплину я поддерживал в классе легко, ученики меня слушались. Хуже всего было, что гимназия никак не могла вовремя собрать у родителей плату за учебу, и мы, преподаватели, не получали жалованья два, три, а то и четыре месяца подряд. Директор агроном Гиршовичюс был добрым и воспитанным человеком (он умер уже после войны, вернувшись из гитлеровского концлагеря). Он успокаивал нас, не скупился на обещания, но, как известно, обещаниями сыт не будешь. С грехом пополам я дотянул в этой гимназии до экзаменов. Представители министерства на выпускных экзаменах по литовскому языку даже удивились, что ученики настолько продвинулись вперед. Так что результатами работы я был доволен. Но было ясно, что в следующем году я не смогу работать в таких условиях.
В эти дни я поближе познакомился с человеком, который позднее стал одним из самых близких моих друзей.
На Зеленой горе, неподалеку от Короткой улицы, где я жил по приезде в Каунас, находились два средних размеров здания, обнесенные металлической оградой, перенесенной с фортов, окружавших Каунас. На столбах ограды сидели цементные совы – символы науки – работы скульптора Винцаса Грибаса.[86]
В одном здании находилась галерея М. К. Чюрлениса с экспозицией его произведений, а в другом – Художественное училище. Второе здание сразу, едва в него войдешь, каждого вовлекало в атмосферу художественной лаборатории – коридоры были увешаны рисунками и картинами, а перед лестницей стояли копии знаменитых античных скульптур.
Управившись с уроками, я часто заходил в мастерскую Юозаса Микенаса. Не знаю, чем я заинтересовал этого молодого художника, недавно вернувшегося из Парижа, но он решил вылепить мой бюст. При каждой встрече он возвращался к этой мысли, которая возникла у него, кажется, тогда, когда нас познакомил его старый приятель Пятрас Цвирка.
Юозас Микенас удивительно красивый человек – рослый, прямой, с выразительным лицом, высоким умным лбом. Был он тих, задумчив, но в его глазах почти всегда светилась приветливая и оценивающая улыбка, а во всех его движениях чувствовалась большая внутренняя сила. Взглядом своих внимательных темно-голубых глаз он словно ощупывал предметы и лица.
Мне было странно, почему подружились такие разные люди – Цвирка и Микенас, который был старше его на восемь лет. Может быть, именно потому, что Пятрас был подвижным, экспансивным, а Юозас – спокойным, сдержанным, взвешивавшим каждое слово. Они как-то дополняли друг друга.
Когда я приходил позировать, Микенас, преподававший тогда в Художественном училище мозаику и фреску, встречал меня с улыбкой, но не говорил ни слова. Потом один-два вопроса, одна-другая фраза, и казалось, что разговор иссяк. Когда мне надоедало сидеть в одной позе, я принимался рассказывать о каком-нибудь приключении из жизни писателей и видел, что максимальный результат моего рассказа – теплая улыбка на лице скульптора. Я не помню, чтобы он хоть раз расхохотался так весело и звонко, как Цвирка. Если спросишь о Париже, о художнике Деспийо, у которого он учился, о Майоле, он ответит коротко, без деталей, словно из этих лаконичных ответов мне все будет ясно. Изредка он задавал какой-нибудь вопрос и мне – о ликвидированном «Третьем фронте», о Казисе Боруте или Саломее Нерис, и по его интонациям можно было понять, что он наш журнал читал, интересовался им, что его вообще волнуют общественные вопросы, хоть и не обмолвился о них ни словом. Работал Микенас внимательно, на длинных сеансах он со всех сторон изучал мое лицо, прищурив глаза, смотрел на натурщика и сравнивал его с изображением, рождающимся в глине. Мне портрет казался и похожим и творчески переосмысленным. Микенас просил меня приходить еще и еще. В его мастерскую я ходил несколько недель. Наконец работа была завершена и вместе с портретами Пятраса Цвирки и Антанаса Гудайтиса[87]
экспонирована на выставке 1934 года.
С той поры мы подружились с Микенасом. Он не раз показывал мне свои новые работы, хотел узнать мое мнение о них, и мне такое внимание было приятно. Однако он все еще был недоволен первым моим портретом и обещал сделать лучше. (Этот бюст во время войны сохранился в Каунасе, в Верхней Фреде, у моих родных. После войны Микенас забрал его и в 1954 году вылепил новый портрет.)
Когда позднее, уже поселившись в Клайпеде, я приезжал в Каунас, мы непременно встречались с Микенасом, который становился все знаменитее. Он не переставал интересоваться и моими работами, путешествиями, замыслами. В 1936 году в одной группе мы побывали в Советском Союзе. Мне кажется, что эта поездка заставила Микенаса задуматься над ролью художника в жизни, над его задачей в эпоху, когда крепчала угроза фашизма. Дружба связывала Микенаса не только с Цвиркой, но и с Борутой и другими прогрессивными писателями.
Мою монотонную и довольно печальную жизнь разнообразили и украшали встречи с девушкой, с которой я познакомился в университете. Меня восхищала не только ее внешность, не только улыбка, почти не сходившая с ее лица, но и ее начитанность, живой ум. Она интересовалась литературой и искусством, и у нас никогда не иссякали темы для разговора. Были и другие причины, которые все теснее связывали нас.
Рано покинув родной дом, лишь на каникулы возвращаясь в деревню, я жил, как умел, в одиночестве, и уже почти забыл, что такое тепло дома. И вот зимой, переехав в страшно холодную комнатку над лестницей, единственной стеной примыкавшую к квартире богатого домовладельца, я почувствовал себя очень плохо, температура подскочила, и я слег. Дня два я никому не мог сообщить, что со мной, я почти ничего не ел, у меня не было даже кипятка. По ночам я бредил, а днем собирался с силами и ждал, когда смогу встать и пойти в город искать еду. И вот однажды у своей кровати я увидел ее. Она трогала мой горячий лоб и пыталась надеть на меня теплое шерстяное белье. В комнате появился и горячий чай, и лекарства – все то, о чем я сам не мог позаботиться. Когда я начал выздоравливать, я видел рядом с собой все то же лицо с крохотной родинкой на щеке.
Поправившись, я провожал ее в далекую Верхнюю Фреду, через весь проспект Витаутаса, через Зеленый мост, потом в гору, по шоссе, обсаженному гигантскими деревьями. Иногда дорога была грязная, шел дождь, но я не мог отпускать ее одну в такой долгий путь – почти каждый вечер мы шли рядом и разговаривали обо всем на свете.
Мне казалось, что я буду счастлив, если эта девушка станет моей женой. Но как мы будем жить? Я знал, что она выросла в обеспеченной семье. А что я могу ей предложить? Беспокойную, непостоянную жизнь, вечную, нехватку денег, трудные условия учителя, неясное будущее молодого писателя, каждую книгу которого реакция будет встречать в штыки. Это будущее могло обернуться даже тюрьмой, которой я пока еще счастливо избегал.
Все это я откровенно высказал своей подруге. Она не испугалась: она любила меня – и этим все сказано. Даже когда я сказал, что не соглашусь венчаться в костеле, она ответила, что не может от меня этого требовать, потому что сама она – атеистка.
В то время лишь в Клайпедском крае существовало гражданское бракосочетание, и те граждане, которым совесть не позволяла лицемерить, отправлялись в ближайшее местечко Клайпедского края – поначалу, как положено, подать на оглашение, а потом, по истечении положенного срока, и сочетаться браком. И вот весной, когда все вокруг цвело и зеленело, мы спустились на пароходе по Неману в Смалининкай и подали на оглашение. В газете некоторое время спустя появилось обязательное объявление. Из-за этого объявления зашумел весь Каунас. Казалось невероятным, что девушка из «хорошей семьи», даже, как многие думали, дочь верующих родителей, собирается выйти замуж за «безбожника и большевика». На объявление тотчас же откликнулась клерикальная газета «Утро». Позднее я узнал, что столпы клерикалов недвусмысленно атаковали отца моей подруги, который тогда преподавал классическую филологию на факультете теологии и философии и, скорей всего, ничего не знал о нашей поездке в Смалининкай. Все торопились вмешаться в дело, которое, как нам казалось, касалось лишь нас…
Видя и слыша все это, мы совсем не собирались расставаться. Напротив, я все больше ценил свою подругу за ее смелость. Я знал, что эта девушка, Элиза, которая казалась такой хрупкой, – сознательный, упорный и волевой человек.
Теперь я снова жил в центре, на улице Донелайтиса. Владельцем дома был знаменитый адвокат, крупный деятель ляудининков – Миколас Шляжявичюс… Но видел я его очень редко. Он сидел в своем кабинете, а я с ним дел не имел. Гораздо чаще я встречал его жену Домицеле, высокую, статную даму интеллигентной наружности. Раз в месяц я отправлялся в ее гостиную, обставленную заграничной мебелью, платить 45 литов за комнату. Дом был выстроен в современном духе. Хотя в нем было всего лишь два этажа, с первого на второй вел лифт. Горничную или сторожа владельцы дома вызывали по телефону. В восемнадцати комнатах жили два Шляжявичюса, их воспитанница Марите (детей у них не было), зять Мацкявичюс и многочисленная прислуга.[88]
В подвальном этаже жила вдова недавно умершего видного художника Каетонаса Склерюса. Дальше, в самом конце коридорчика, находились две крохотных комнатки, видно, кладовки (в этом коридоре вообще было много кладовок, в которых стояли банки с вареньями, грибами и прочими продуктами). Комнатки были низкие, в каждой было по одному окну, с решеткой, словно в тюрьме (чтобы воры не залезли). Эти комнатки сдавались, в одной из них уже жил студент Юлюс Бутенас,[89]
а во второй обосновался я.
Юлюс Бутенас интересовался литературой и общественной жизнью. Он собирал материал и писал монографии о Винцасе Кудирке, Повиласе Вишинскасе[90]
и других деятелях прошлого. Он всегда подробно знал все события в студенческой среде и даже в городе. Однажды утром Бутенас постучался ко мне в дверь и сообщил, что только что была совершена попытка переворота. Таких переворотов в то время было сколько угодно – чуть ли не каждый генерал мечтал править Литвой, и офицеры то и дело пытались свергнуть Сметону. Но президент держался крепче, чем могло казаться со стороны. Поговаривали, что даже не он сам, а его оборотистая жена Зосе спасает их в самых сложных и опасных положениях. Выйдя на улицу, мы увидели толпу у типографии, люди показывали на ворота полицейского участка, которые свалил танк. Это был знак, оставленный ночным «переворотом».








