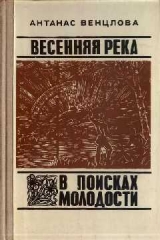
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 43 страниц)
– Скажите, пожалуйста, а чей этот дом?
– Хотите с владельцем познакомиться?
– Нет, – замычал прохожий. – Просто интересно…
– Могу вас проинформировать. Живет здесь странное семейство. Его фамилия – Калпокас, жены – Дубенецкене, а дочки – Юозапайтите… Правда, лучше с такими не связываться?
Теперь мы следовали дальше с Пятрасом Калпокасом. Он останавливался у киосков, где были выставлены образцы конфет и шоколада, говорил по-итальянски речь, и в каждом киоске маэстро одаривали сластями. Перепадало конфет и нам.
Набрав конфет и всякой чепухи – игрушек, гвоздей, печенья, мы, наконец, оказались у киоска бисквитной фабрики «Неаполь». Маэстро долго говорил по-итальянски, спел «Смейся, паяц», наконец стал декламировать терцины «Божественной комедии», но владельцы киоска притворились, что его не узнают, и ни песни, ни речи не оказали никакого воздействия. Попросту говоря, мы ничего не добились. Потом мы отправились в радиоцентр Варнаускаса. Здесь маэстро встретили дружелюбно и вручили ему полную бутылку итальянского вина. Прислонившись к стене радиоцентра, маэстро пил, пока бутылка не опустела.
Тогда он попросил самого Варнаускаса разрешить ему выступить по радио.
– Просим, маэстро, просим… – Варнаускас уступил ему место перед микрофоном.
Пятрас Калпокас пространно благодарил различные фирмы, которые столь щедро снабжали своими изделиями его и его друзей. Потом продекламировал что-то по-итальянски и стал последними словами поносить фирму «Неаполь», ее владельцев и все ее изделия. Ругань разносилась из громкоговорителей по всей выставке. Варнаускас поначалу спокойно слушал, но потом понял, что дело может окончиться плохо, и силой оттащил маэстро от микрофона. Но маэстро уже сам устал, сел в углу студии за столик, подпер голову рукой и крепко заснул…
После этой короткой вставки пора вернуться к прерванному повествованию. За короткое время я написал несколько довольно больших рассказов. Это были «Настазе», «Каунасская поэма» (которую я позднее назвал «Выстрелом в департаменте»), «Вниз по лестнице». В этих рассказах, особенно в «Каунасской поэме», было немало деталей, которые я заметил, работая в Министерстве сельского хозяйства. Я принес «Каунасскую поэму» в редакцию «Литовских ведомостей», ее сразу же напечатали. В министерстве многие читали этот рассказ и тут же занялись поисками прототипов. Кое-кого из них можно было узнать, особенно одного референта. И референт вдруг стал со мной преувеличенно вежливым и холодным. В этих рассказах я, без сомнения, занимался сюжетными и стилистическими исканиями. В них переплеталось то, что я знал, с тем, что я себе представлял. «Конец парня» был написан запутанными, нарочито сложными, даже комичными фразами: «По асфальту неба ветер волок окорок тучи». Это казалось образным. Однако этот стиль быстро надоел. В «Настазе» я бросился в лирику и занялся остросексуальной темой, которая мне, молодому наивному юноше, казалась отважной, «эпатирующей» мещан и прокисших эстетов. Но я ошибся и сам дал случай этим мещанам посмеяться. В рассказе «Вниз по лестнице» мне хотелось изобразить нездоровую атмосферу города, которая отравляет даже самых невинных. Может быть, глупо самому комментировать слабые свои сочинения, но хочется вспомнить и заново пережить все, чем я тогда жил. Я уже собирался издать первую свою прозаическую книгу и, закончив новый рассказ «Человек между пилами», собирался ее так назвать. Но прошло еще немало времени, пока эта книга вышла из печати.
Мои рассказы печатали «Студент» и другие газеты. Хоть и редко, некоторые редакции начали платить мне гонорар. Мои знакомства и связи стали шире; меня как стилиста ценили агрономы, много их статей и книг прошло тогда через мои руки. Это была скучная работа, но она делала меня независимым, разрешала учиться, больше думать о литературе, меньше дорожить службой, писать. Я удивился, когда заметил, что уже второй месяц подряд могу отложить про запас несколько десятков литов. Балис Сруога писал в «Студенте», что собирается организовать экскурсию в Альпы, и я мечтал об этом путешествии.
Кажется, осенью 1926 года я пришел к своему товарищу по гимназии Антанасу Янушявичюсу, который жил в общежитии, и застал у него незнакомую девушку. Янушявичюс был родом из той же волости, что и я, и, хотя я был атеистом, а он – верующим, мы дружили во время каникул, да и в Каунасе довольно часто встречались. Девушка была в очень скромном, даже гимназического покроя платье. Она посмотрела на меня большими глазами. Мне показалось, что она прекрасна. Она была красива той неповторимой красотой юности, которая почти отнимает дар речи у молодого человека. Это случилось и со мной, когда приятель представил меня Саломее Нерис, сказав, что я тоже пишу стихи. Я был ошеломлен, и, когда приятель ушел в коридор за кипятком, оставив меня наедине с Нерис, я не знал, что говорить. Не потому, что я уже считал ее великой поэтессой, но потому, что этой незнакомой девушке раскрыли мой секрет. А она смотрела на меня теплым взглядом больших глаз и, кажется, совсем не осуждала меня за то, что я пишу стихи. Она меня о чем-то спросила, я от волнения покраснел – я не привык говорить с девушками. Это было тем более трудно, когда передо мной за столиком сидела поэтесса, которую печатали многие газеты и фамилию которой хорошо знали все, кто интересовался литературой.
Янушявичюс долго не возвращался, мне поневоле пришлось отвечать, и мы успели выяснить, на каких факультетах учимся, где кончали гимназию. Нерис сказала, что читала мои стихи, но умолчала о своих впечатлениях. Она расспрашивала, много ли я написал, что читаю, и, когда мой приятель вернулся с металлическими кружками, наполненными кипятком, мы уже разговаривали с Нерис, как старые, добрые друзья. Моя робость испарилась, и мы все попивали кипяток, в котором плавали чаинки. Сахар мы ели вприкуску, чтобы было дешевле. Я то и дело посматриваю на новую знакомую, мы разговаривали об университете и профессорах. Нерис расспрашивала меня о Креве, Тумасе, Сруоге, и я предложил ей прийти к нам их послушать.
Мы вместе покинули комнату Янушявичюса. Оказалось, что Нерис намного ниже меня, и теперь, когда мы шли по Лайсвес-аллее, я видел обращенное ко мне ее лицо. Я подумал, что хорошо бы подружиться с такой девушкой, но мы уже подошли к улице Даукантаса, и она, подав мне руку, сказала:
– Мы встретимся, правда? Мы ведь учимся в том же здании.
Кажется, под впечатлением первой нашей встречи я посвятил Нерис стихи, напечатанные в сборнике «На улицах рассвет».
Как и раньше, я много читал. В мои руки попадали классики, писавшие четко, последовательно, понятно, воссоздававшие широкую картину жизни, проникавшие в психологию персонажей. Но читал я также, например, «Голый год» Бориса Пильняка и другие его произведения. Эти книги были написаны удивительно запутанным стилем, – за смесью метафор, сравнений, за обрывками фраз иногда трудно было уловить мысль автора. Да и сама мысль была запутанной, без логической последовательности. Каким путем идти? Кто прав? Классики пишут прекрасно, ничего не скажешь, – но они не наши современники. Пильняк и другие пишут по-новому, не так, как все, но они сами закрывают себе путь к читателю – их могут одолеть только чудаки или такие любители, как я. «Я считаю, – писал я Райле летом 1928 года, – что для прозы изысканность стиля – как собаке пятая нога. Простой, естественный рассказ. Иногда могут быть номера, цифры, переходы на другую строку. Но ничего лишнего! Хороший пример – Эренбург. Раньше он проповедовал конструктивизм, а сейчас пишет стилем Толстого».
И еще из того же письма – чтобы показать настроения тех лет.
«Мы с тобой осенью устроим новый «поэзо-концерт», от которого зачихают все академические крысы. Цитадель мещанства надо взорвать пироксилином нахальства, если уж иначе нельзя».
Я читал и остроумнейшую книгу Корнея Чуковского «От Чехова до наших дней», и воспоминания Айседоры Дункан, и Есенина, и «Графа Монте-Кристо». Не только от нетребовательности и отсутствия плана – меня подстегивал голод новых впечатлений, новых знаний. Желание разобраться в новых проблемах литературы и искусства заставляло читать теоретические труды – «Теорию прозы» Шкловского, «Культуру и стиль» Иоффе. Правда, в этих книгах я обнаружил не столько марксизм, который меня все больше интересовал, сколько формализм и вульгарную социологию. Но эти книги заставляли думать, не успокаиваться.
…У Казиса дела обстояли плохо. Моему непоседливому другу стало жарко и в Риге. Осенью, в октябре, я получил от него письмо, написанное в поезде Берлин – Вена: «В Берлине просидел около недели. Остаться не удалось. Полицейские, гады, выгоняют. Еду в Вену, сам не знаю зачем. Хотел поехать в Париж, но не впускают. Настоящий нужник эта Европа: куда ни ткнешься, одно и то же… Получается, что лучше было бы уж в Каунасской тюрьме. Жаль, что добрые люди не позволили мне туда угодить. Там бы я продолжал свой «Дом № 13».
Что же случилось? Возможно, латвийская охранка заинтересовалась деятельностью Казиса. Скорее всего, не без помощи литовской политической полиции – давно уже известно, что охранки соседних стран часто помогают друг другу охотиться за революционерами… В голову лезли всякие мысли. Было жалко бездомного друга, который нигде не может найти спокойного места. Еще сильнее становилась ненависть к тому строю, который изгнал моего друга из Литвы и заточил в тюрьмы много молодежи.
Недели две спустя я снова получил письмо – уже из Вены. «…Я устал, рассеян, душа без места…» Но Казис все равно не забывал о литературной работе. Он просил прислать ему новые газеты и журналы. «…Надо исподволь проникать в «Культуру», это единственный журнал, который читают в деревне». И снова тоска: «О, эта литовская деревня! Она мне снится».
Как мне понятны и близки чувства Казиса! Может быть, не с той остротой, как в первый год жизни в Каунасе, но все равно я по-прежнему мучительно чувствовал, что лишился своей деревни, что вокруг меня – тупые, опустошенные люди, карьеристы, бегущие туда, откуда им помахали деньгами. И жизнь и любовь у них – серые, плоские, ничтожные… Пойдешь в университет – серая скука, заглянешь в кафе Конрадаса выпить кофе – сидят напыжившись крысы желтой печати и воображают, что от них зависит судьба если не мира, то хоть Литвы. Проституирование мысли, идей, совершенно такое же, как проституирование тела на Неманской. Хотелось издеваться над жизнью этих ничтожеств в своих книгах.
Хотелось искать нового, экспериментировать, написать то, чего еще никто не написал. Втроем – Райла, Моркунас и я, – коллективно обсудив план и потом, разделив между собой отдельные главы, мы написали повесть с торжественным названием «Panterral explositor», – как можно судить по заглавию, это была история одного американского мультимиллионера, который изобрел способ уничтожить мир. Фантастика и приключения переплетались в повести с наивной критикой капиталистического мира и разоблачением его жестокостей. Повесть вскоре показалась нам неудачной, и мы ее уничтожили. Много лет спустя я узнал, что в 1924 году чешский писатель Карел Чапек написал на подобную тему роман «Кракатит».
Осенью я пришел в большую аудиторию университета на вечер памяти Льва Толстого. Долго и скучно говорил Миколас Биржишка. Но особенно запомнилось нам выступление Винцаса Креве-Мицкявичюса. Он недавно побывал в Советском Союзе на юбилее Толстого. Теперь он рассказывал свои впечатления о той стране, о которой мы так мало знали, сталкиваясь обычно лишь с самыми дичайшими слухами.
– Увидев комсомольцев, я убедился в том, что это честная, открытая, идейная молодежь, – говорил Креве. – Они пользуются широким правом критиковать то, что подлежит исправлению в их строе. Жизнь студенчества просто завидная. Здания университетов прекрасные, студенты живут в роскошных общежитиях, шестьдесят процентов из них получают стипендии… советская власть укрепляется. Молодое поколение поддерживает ее… Вообще жизнь молодежи и состояние учебных заведений в СССР оставили у меня благоприятные впечатления. В этом отношении мы стоим куда ниже их.
Услышать такие слова с университетской трибуны, да еще из уст одного из популярных профессоров, было дело необычное, особенно сейчас, когда Литву сковал фашизм. Новые правители Литвы искали вдохновения в Италии, в доктринах Муссолини, в подвигах чернорубашечников. Мир Востока, Советский Союз был чужд, враждебен, ненавистен для них. И тут один из самых знаменитых писателей выступает с совершенно новыми, смелыми мыслями. Нет, конечно, его слова не превратили нас в комсомольцев! Его речь прозвучала, и многие тут же забыли о ней. А в более поздние годы, когда я все больше разочаровывался в существующем строе, когда душа и ум тревожно искали истину, слова Винцаса Креве оказали на меня большое влияние.
СТУДЕНЧЕСКИЕ ШАЛОСТИ
На Зеленой горе я прожил почти до конца 1928 года. Но всему приходит конец. Сообщение с центром было неудобным. Автобусы не ходили. Возвращаясь поздно вечером домой по немощеным улицам, я слышал жуткие крики пьяниц. На краю города жила беднота, неподалеку находилась знаменитая «Бразилка» – район вконец обнищавших людей. Для многих алкоголь оставался единственным утешением в беде. Осенью целый день улочки были в тумане, а вечером, возвращаясь из города, я вечно опасался полных воды канав. Вместо тротуаров, рядом с канавами лежали какие-то доски.
До центра приходилось добираться пешком. Для молодых это было веселой прогулкой. Но мы чувствовали свою отрезанность от Каунаса. Женщины, жившие в нашем доме, все чаще мечтали не только о кино или театре, но и о балах в «Метрополе». Как только моим хозяевам удалось продать дом (он был построен большей частью в долг, и хозяин надеялся расплатиться, получив гонорар за книги по агрономии), мы перебрались в дом на углу улиц Гедиминаса и Жемайчю. В новом каменном доме Страздасы сняли квартиру с центральным отоплением (это была редкость в Каунасе по тем временам). Здесь получил комнату и я. Жизнь сразу стала удобней – в нескольких шагах и университет и служба.
Я встретил на улице Теофилиса Тильвитиса, и он пообещал зайти ко мне. Мы уже вместе участвовали в литературных вечерах, но видел я его редко – я служил в одном учреждении, он – в другом (в налоговой инспекции), по вечерам я находился в университете, которого он не посещал. Тильвитис был высокий, краснощекий человек, он вечно улыбался. Его ярко-голубые глаза глядели спокойно, с добротой. Но в них почему-то не чувствовалось остроумия, которое ключом било из его «Трех гренадеров», где молодой поэт так удачно пародировал видных поэтов, романтиков и символистов, что нельзя было без улыбки читать эту книжицу. Уже вышла и его футуристическая поэма «Распродажа души» – угловатая, острая, смелая книжка, далекий отзвук раннего Маяковского. Тильвитис на самом деле любил Маяковского, да и все представители «Четырех ветров» постоянно вспоминали, читали и декламировали его.
Встретившись на улице, мы заговорили о Маяковском, которого я читал еще в Мариямполе. Обоих нас Маяковский интересовал не как поэт Октябрьской революции, а как новатор формы. Нам казалось, что наша задача – громить при помощи новой формы отживших романтиков и неоромантиков, как в свое время Маяковский громил эстетов и символистов типа Бальмонта.
Выяснилось, что Тильвитис тоже не любит клерикалов. Я уже слышал, что они выгнали его из гимназии. Прочие его взгляды для меня оставались неясными, да я ими и не интересовался – Тильвитис привлекал меня как поэт.
Он говорил о жизни, о непонятных силах, которые заставляют человека любить. Тильвитис был еще не женат тогда и смотрел на брак очень серьезно и считал, что через него должен пройти каждый настоящий мужчина. Мы говорили и о театре, об опере – Тильвитис в то время мечтал о карьере актера или певца и даже где-то учился этому.
О литературной работе мы говорили мало. Тильвитиса не интересовало то, что я пишу, и я не посмел показывать ему свои произведения (я тогда писал рассказ «Человек между пилами»).
Мне показалось, что с этим талантливым, своеобразным поэтом сблизиться нелегко, – от него исходит какой-то холодок. Тильвитис тогда был на устах у всех, кто интересовался литературой и поэзией. Обо мне этого нельзя было сказать.
…Условия в университете по-прежнему были невыносимы. Как и раньше, мы теснились в первых двух этажах небольшого здания, а на третьем находился факультет теологии и философии. Я часто встречал товарища по гимназии Антанаса Янушявичюса. Он был атейтининком и даже редактором их журнала. Разговаривать с ним становилось все труднее. Я видел молоденькую студентку, которая торопливо пробегала в окружении почитателей по лестнице, – Саломею Нерис, с которой я сам недавно познакомился.
Изредка поднимался по лестнице на теологический факультет Майронис – дородный, очкастый человек, у которого уже мало осталось поэтической легкости и вдохновения. Все литературные вопросы мы обычно обсуждали на лестничной площадке, и довольно часто в наши споры встревал вспыльчивый седой человек – Юозас Тумас. Любителей литературы становилось все больше. В разговорах стал участвовать Антанас Мишкинис[42]
– любитель ввернуть острое слово. Он уже тогда боготворил Казиса Бинкиса и считал его лучшим литовским поэтом. Появился низенький, веснушчатый Йонас Александравичюс,[43]
который подписывал свои стихи псевдонимом «Коссу». Прихрамывая, ходил по коридорам на переменах Бернардас Бразджёнис,[44]
писавший слабые эпигонские стихи, еще не похожие на его яростные апокалиптические вирши.
Университетская жизнь, чем дальше, тем больше погружалась в рутину. После нескольких лекций в душных аудиториях кружилась голова, и хотелось бродить по городу, полному осеннего тумана или снежинок, в мелькании которых мчались извозчичьи сани. Обдавали теплом рестораны и кабаки, сверкали заграничными товарами витрины магазинов… Мимо шли люди. Одни торопились, другие тащились медленно, потирая руки без перчаток… Было скучно, постыло, хотелось движения, шума, неожиданных шалостей…
Случай вскоре представился. Приближалось 15 февраля – семилетний юбилей университета. Дата не особенно внушительная – обычно студенты праздновали ее, сложившись на пиво в ресторане, неподалеку от нас. В этом году «Студент» напечатал специальную статью, в которой призывал всех прикинуть, чего не хватает студенчеству, что ему нужно, и тем или иным образом все высказать. Высказать, конечно, не в стенах университета, а публично, на улицах и площадях.
Но правде говоря, я забыл о 15 февраля, но, проходя мимо Центрального здания университета, увидел уже на улице огромную толпу студентов. Они о чем-то горячо рассказывали, спорили, размахивали руками:
– Полиция… Представляешь, гады, нас – бананами… Арестовали…
Оказывается, студенты, то ли послушавшись призывов «Студента», то ли вняв чьим-то уговорам, сегодня утром собрались в актовом зале университета. Здесь они устроили митинг, а потом повалили толпой на улицу. Одни хотели спокойно пройти по Лайсвес-аллее, другие собирались двинуться к театру и потребовать, чтобы удешевили билеты для студентов. Так или иначе, толпа была большая, и она прошагала по центральной улице до перекрестка, у которого находился полицейский участок. Из участка выскочили полицейские и стали нагло разгонять студентов. Безоружные студенты вступили в схватку с полицией – началась драка. Власти таутининков как огня боялись любых демонстраций, и это шествие им, наверное, показалось чем-то серьезным. Полиция оказалась сильнее и разогнала студентов. Многие вернулись в университет, притащив с собой с улицы одного «заложника» – полицейского.
Я вошел в большую аудиторию, где студенты один за другим поднимались на трибуну, протестуя против полицейского произвола. Сказалось, что несколько студентов уже сидели под арестом. Кто-то потребовал избрать делегацию и послать ее в участок с требованием выпустить арестованных.
Я стоял на виду, и меня тоже избрали в делегацию. В нее попали и Райла и еще несколько студентов. Когда мы вошли в участок, мы увидели сидящего за столом приземистого начальника Гоштаутаса – краснолицего, с бычьей шеей. Зло взглянув на нас, он промычал:
– Какого черта? Демонстрация, да?
– Мы требуем отпустить арестованных товарищей! – сказал я, сделав шаг вперед.
– Ах вот как! Вы уже требуете? Бунтуете, да?
Он тут же вызвал полицейского и велел запереть нас в канцелярии.
Мы долго сидели в неуютной комнате, курили, рассказывали анекдоты. За стеной страшными словами ругались пьяные проститутки. Зарешеченное окно выходило во двор, за дверью стоял полицейский с винтовкой. Нас клонило ко сну, но делать было нечего – мы взобрались на канцелярские столы и задремали. Поутру нас отпустили домой.
У меня был билет на дневной спектакль. В перерыве я увидел в фойе Тумаса и подошел к нему:
– Профессор, вчера полиция арестовала наших товарищей… Блазас и другие сидят в кутузке. Вы не могли бы замолвить словечко, чтобы их выпустили?..
Тумас явно нервничал, он даже покраснел.
– Знаю, знаю, – раздраженно сказал он. – Демонстрация против власти… А Блазас всем студентам затуманил мозги.
Я объяснил, как все получилось: студенты, не вынося духоты в аудиториях, вышли, чтобы спокойно пройтись по улицам, и тут полиция… Потом мы пошли требовать, чтобы отпустили друзей, и тогда Гоштаутас нас, как каких-нибудь бандитов…
Тумас слушал меня и постепенно отходил. Вскоре он уже хохотал. Ему показалось смешным, что студенты сами арестовали полицейского и затащили в университет.
– Что поделаешь, голубчик, после спектакля придется идти к коменданту… Что они там, на самом деле… Молодежи не понимают….
Обретя надежду, что друзья будут выпущены, я вернулся в зал досматривать последнее действие.
Но товарищей не выпустили. Мало того. Ночью кто-то долго стучал в нашу дверь. Наконец служанка открыла, и в мою комнату вошли два охранника. Одного из них, с выпяченной челюстью, я часто видел на Зеленой горе, когда там жил. Они велели мне встать и одеться, а сами стали рыться в моих книгах, переворошили чемоданчик под кроватью, прощупали постель. Разбуженный среди ночи, я чувствовал себя неважно. Мы вышли на улицу. Перед домом стоял вооруженный полицейский. Страха я не испытывал, было смешно и мерзко. «Вот как ведут себя у нас со спокойными гражданами», – думал я. Меня отвели на Лесную улицу, в здание охранки. Сидевший за столом субъект зевал, курил, потом долго меня расспрашивал о том, что я знал и чего не знал, и, составив протокол, велел мне подписаться.
Под утро полицейский повел меня в какой-то двор у гарнизонного костела. Миновав двор, мы оказались в длинном коридоре, в одной стене которого было несколько дверей, а в каждой двери – крохотное оконце. Другой полицейский, дежуривший у столика, отпер одну дверь и втолкнул меня в камеру, которая была битком набита людьми. Скорчившись на нарах вдоль стен, а кто и лежа просто на полу, все спали. Когда я вошел, кто-то открыл глаза:
– О, доброе утро, еще один к нам! Что слышно в городе?
Я увидел Блазаса, Райлу (его, как и меня, арестовали во второй раз) и еще нескольких студентов нашего факультета. Были тут и незнакомые лица. Меня встретили шутками и прибаутками, уступили краешек скамьи. Я чувствовал себя сносно, даже вскоре перестал ощущать страшную духоту.
В углу камеры сидел молодой студентик Шоломас Абрамивичюс. Он угощал всех сахаром, который вчера принесла его мама. Блазас серьезно сказал:
– А ты, Шоломас, не бойся. Они только смеются, что тебя расстреляют… Без суда у нас никого не расстреливают. Вначале суд, а потом, если уж надо…
Камера хохотала. Оказывается, кто-то сказал, что первокурсника Шоломаса, которого вместе с другими случайно задержали во время демонстрации, расстреляют, и это так напугало паренька, что тот стал звать маму. Мама вчера, как нарочно, пришла, принесла ему сахар и еще что-то. Шоломаса выпустили в коридор, и, когда он бросился в мамины объятия, полицейский крикнул:
– Нельзя, нельзя, – и грубо растащил их, чем привел Шоломаса в еще большее смятение.
Позавтракав густой и вязкой кашей, мы сидели в камере. Делать было нечего. Кто-то придумал, что для того, чтобы убить время, каждый должен рассказать о своей первой любви. Истории были всякие – то длинные и сентиментальные, то циничные, выдуманные, но все равно время шло быстрее.
Днем в соседнюю камеру привели юную девушку. Кто-то увидел ее сквозь окошко в коридоре, а потом кто-то процарапал дырочку в дощатой перегородке, и вскоре завязалась беседа с красавицей. Она плакала и рассказывала, что ее без вины арестовали. Она служила в Каунасе у какой-то барыни, которая обвинила ее в воровстве. От надзирателя мы узнали, что девушка заражена и ее повезут в Алитус лечиться. По правде говоря, она этого и не скрывала…
Потом в коридор вошел следователь. Снова вызывали по одному из камеры в коридор, допрашивали у столика, составляли протоколы. Все это было похоже на игру. Как будто старались убедить себя и нас, что мы – какие-то важные государственные преступники.
Ночью нас донимали клопы, мы лежали в одежде, где кому повезло – одни на нарах, другие прямо на грязном полу. Хуже всего, что нечем было дышать, и мы то и дело просились в уборную, чтобы в коридоре втянуть в легкие хоть несколько глотков чистого воздуха.
Родные и знакомые, узнав, где мы сидим, стали пересылать передачи. И моя хозяйка, добрая Страздене, на следующий день прислала мне белого хлеба, масла и сыра. Продуктами мы делились, и никто не оставался голодным.
Просидев так четыре или пять суток, мы вышли на волю. В коридоре нам вернули галстуки, перочинные ножики, даже деньги. По-видимому, охранке и полиции не удалось сделать из нас политических деятелей – слишком уж наивные юноши оказались случайно в одной камере.
Выпустили нас под вечер. Улицы оказались удивительно прекрасными, в воздухе кружились снежинки, звенели бубенцы извозчиков, в белой вьюге сверкали окна магазинов… Удивительно легко дышалось – казалось, что в легкие втягиваешь не воздух, а мед. Кто-то из нас предложил отметить освобождение в ресторане Урбонаса. Мы сложились и заказали приличный ужин.
Вернувшись в университет, мы узнали, что его руководство получило письмо от министра просвещения, в котором содержались обвинения против тридцати трех студентов (в кутузке сидело почему-то лишь тринадцать). В университете был устроен суд. Прокурором был назначен проректор Винцас Чепинскис. Свою обвинительную речь он начал довольно сурово, но чем дальше, тем мягче становились его обвинения. Профессор начал доказывать, что студенты живут тяжело и скученно, что в аудиториях не хватает воздуха – поэтому не удивительно, что они вышли на улицу пройтись. В конце своей обвинительной речи проректор предложил нас оправдать – позднее я понял, что таким образом он протестовал против грубого поведения полиции и попытки властей наказать нас. В конце концов университетский суд назначил одним из нас, так называемым зачинщикам, выговор до мая месяца, а тем, кто шел требовать, чтобы выпустили арестованных, – выговор на две недели.
В министерстве я узнал, что с первого марта могу не приходить на работу. От благосклонных сотрудников я узнал, что министерство получило данные от охранки о моей поездке в Ригу и встрече с эмигрантом Борутой. Охранке не понравилось также, что моя «Земельная реформа» вышла в альманахе под его редакцией. А теперь – новый случай, который-де показал меня в «истинном свете». Мне снова посоветовали подать заявление о том, что я ухожу из министерства «по собственному желанию». Так я покинул Министерство сельского хозяйства во второй и последний раз.
Работа в этом учреждении обогатила меня – я узнал многое. Я почувствовал скуку и серость чиновничьей жизни, узнал убогие развлечения моих сослуживцев, их мечты продвинуться и увеличить свое жалованье. Кое-кто из моих бывших друзей, уже успевших записаться в неолитуаны, заметно поднимался по лестнице карьеры, а некоторые становились даже референтами, занимая места уволенных чиновников, работавших во времена «истинной демократии». Мы до сих пор вспоминали с ехидством старого референта времен христианских демократов, безграмотного Боркиса, который по ночам резался в карты и пил, а потом, придя в министерство, обнимал в своем кабинете стол и спокойно храпел. Он не проснулся, даже когда пришли новые власти, чтобы его сменить. Теперешние неолитуаны были бойчее, элегантнее, но, пожалуй, наглее атейтининков. А взятки у мужиков они брали не хуже их – ведь и им надо было не только жить (на это жалованья бы хватило), но и покрасоваться, и выпить, а то и завести любовницу… Я без сожаления покинул эту среду, твердо решив не уезжать из Каунаса, не бросать университета. Я уже мог, хоть и с трудом, прожить на гонорары.
Два раза в неделю мне надо было отмечаться в полицейском участке. Когда я пропустил несколько таких визитов, начальник участка в бешенстве начал пугать меня тюрьмой. Власти не хотели оставлять меня в покое.
Атмосфера вокруг была мерзкая. В начале мая Каунас, да и не только Каунас, потрясло неслыханное известие – перед театром было совершено покушение на премьер-министра Вольдемараса. Вольдемарас уцелел, погиб лишь его адъютант Гудинас. Поначалу не было ясно, кто произвел покушение. Охранка хватала каждого подозреваемого. В суматохе были арестованы даже клерикалы, но их вскоре выпустили. Позднее выяснилось, что одним из тех, кто участвовал в покушении, был студент Александрас Восилюс,[45]
родом из Мариямполе. Я вспомнил, что еще в третьем классе гимназии часто встречался с учениками, жившими в деревянном доме по другую сторону двора. Одним из них был Андрюс Булота[46]
(позднее участник гражданской войны в Испании), а другим – как раз этот Восилюс. Это были серьезные пареньки примерно моих лет, они вечно читали на балконе своего дома толстые книги, и я не сблизился с ними лишь потому, что они на следующий год переехали в другой дом. Потом мы уже редко встречались…
Теперь Восилюса поймали в лесу, у границы. Он был тяжело ранен, – чтобы не сдаваться живым, он попытался подорваться на гранате. В Каунасе говорили, что его подвергли жестоким пыткам и, наконец, расстреляли. Я ходил по городу, видя все как в тумане, а по ночам не мог заснуть.
Тюрьмы снова заполнили левые. Арестовали Витаутаса Монтвилу. Военный суд приговорил его к 10 годам каторжной тюрьмы. К тому же сроку приговорили и начинающего поэта, студента-юриста Казиса Якубенаса. Становилось все мрачнее. На улице сразу же после покушения я встретил Гербачяускаса. Он взял меня под руку и сказал:








