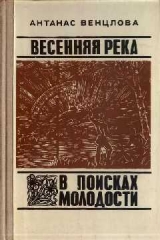
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 43 страниц)
– Что ты, хозяйка, такую чепуху!.. Я тебе две иголки…
– За столько вещей – две иголки? Как тебе не стыдно, Зялмонас? Ну, ниток тонких добавь еще катушку, и шут с тобой!
Отец приносит из клети свой старый, латаный-перелатапый полушубок.
Из ведерка, стоящего на задке телеги, Зялмонас извлекает две селедки, с которых капает соль и ржавая жидкость, и сует их отцу.
– За тулуп – две селедки? У тебя в голове помутилось, Зялмонас! – кричит отец. – Я же в город отвезу.
– В город, в город… Думаешь, так тебя там и ждут, в городе, хозяин? Что ты там получишь, в этом городе? На, бери еще, – он вытаскивает из ведра третью селедку.
Торг иногда продолжается долго. Перочинные ножики, которые показывает Зялмонас, нам не по карману. Только Пиюс, долго копивший деньги, может купить себе такой ножик. Мы бросаемся поглядеть, но он не дает, говорит, еще поломаете или куда-нибудь денете… Но, пожалуй, лучшая вещь досталась Забеле. Не знаю, с чего это тетя на сей раз так сорит деньгами – она покупает ей фарфоровую кукольную головку, к которой можно пришить туловище, набив паклей, и кукла готова. Забеле, схватив куклину голову, скачет в избу.
Закончив торговлю, Зялмонас с трудом взбирается на свою тележку. Все довольны не только покупками, но и тем разнообразием, которое внес в нашу жизнь этот новый человек. Никогда не знаешь, когда он приедет. Но Зялмонас – всегда долгожданный гость.
Однажды после полудня мы увидели человека, который направлялся к нам не по дороге, а напрямик, по полевым тропкам, казалось, пришел он из дальних краев – до того тяжело переставлял ноги. Сгорбившись, он втащился во двор, что-то буркнул в нос. Наверное, восславил Христа, потому что тетя Анастазия, процеживавшая молоко во дворе, ответила:
– Во веки вечные, аминь…
Мама какое-то время глядела на пришельца, потом узнала его и воскликнула:
– Винцукас! Откуда же ты взялся? Слыхали ведь – в Мерику уехал…
А, это мамин двоюродный брат, о котором она часто рассказывала нам как о смелом, смышленом парне. Теперь это мужчина в летах, в его волосах светятся серебристые прядки. Он смотрит на маму равнодушно, словно не слыша ее слов, потом нехотя сует ей руку и молчит.
– Давай зайдем в избу, Винцукас, – говорила мама взволнованно, предчувствуя недоброе. – Небось проголодался за такую дорогу…
Гость ничего не ответил, и матери пришлось взять его за руку и ввести в избу! Сидя на скамье, гость, кажется, дремал. Одежда на нем была поношенная, хотя, видно, сшитая когда-то из покупного сукна. Штаны продраны, и в прорехах белеет голое тело.
Мать тотчас зажарила яичницу на сале и подогрела оставшиеся от обеда щи. Гость ел жадно, давясь. Когда он поел, мама села рядом, стала гладить ему плечо и, глядя полными слез глазами на него, заговорила:
– Выходит, вернулся, Винцукас, ты из этой Мерики? И не боялся ездить по океану? Что же с тобой, горе мое? Что с тобой сталось?
– Ничего, – наконец проговорил гость сиплым, натруженным голосом. – Иногда, Эльзбетеле, я ничего, все помню. Вот и тебя сейчас узнаю, припоминаю – в Кятурвалакяй по воскресеньям мы с тобой хаживали, и вообще… Ну и как пасли детьми, и как ты служила у Блюджюсов в Скардупяй…
– И я, Винцукас, помню… И как дождь пошел, как гроза нас настигла. Ты был мал еще, так я тебя жалела…
– Да уж, да уж, Эльзбетеле, как тут не вспомнить, – откликнулся гость все так же натужно и, тяжело закашлявшись, плюнул на пол.
Потом он огляделся и, словно испугавшись чего-то, негромко принялся рассказывать:
– Ездил я в Америку, Эльзбетеле… Через много воды плыли, понимаешь? И уголь копали под землей, в темноте… Стачка, понимаешь? Босс закрыл все, говорит, идите куда хотите, хоть на край света… А еды нет, денег нет… Ехал я ночью на поезде через штейт Пенсильвания. Дружок говорит: «Проехали мы этот город…» Ну, как он там, не могу вспомнить… Чудное такое название. Ну, неважно. И говорит он: «Надо нам прыгать…» Понимаешь, Эльзбетеле? Вот и прыгнули. И у меня с головой с тех пор… И работы никакой не могу с тех пор. Вернулся домой, брат выгоняет… Как же, по-твоему, Эльзбетеле? Думаешь, приятно, чтоб чужие собаки на тебя лаяли?
И гость заплакал, всхлипывая, жалобно, как маленький ребенок. Мама все гладила его плечо и приговаривала:
– Ничего, Винцукас, ничего. Переночуешь у нас, мягко тебе постелю. И кушай себе на здоровье… что бог послал. И живи тут, коли тебе лучше будет. Неужто мы звери?
Гость перестал плакать, вытер рукавом слезы. Он сидел за столом притихший, и мать снова не могла вытянуть из него ни слова. Переночевав, он ушел на следующее утро, ничего не сказав никому.
– Вот господи, – вздыхала мама, глядя из двора на пригорок, через который в сторону Александраваса уходил гость – сгорбленный, высоченный и худущий. – Хоть залатала, зашила ему ночью одежонку… А то ходит по миру… можно сказать, голышом… Кому он нужен без здоровья, без денег? Горе горькое, да и только…
В красном углу, рядом со святым Рохом, которому пес лижет израненные ноги, рядом с моим покровителем Антонием Падуанским и другими святыми, висела и мамина покровительница святая Елизавета. Это красивая барыня, в руках у нее корзинка с розами. Не раз мама рассказывала, как святая, тайком от скупца мужа, носила в этой корзинке нищим подаяние – хлеб, мясо и другую еду. Муж однажды поймал ее и хотел было выругать или жестоко наказать. Но, открыв корзинку, он увидел там не милостыню, а розы. Святая поняла, что бог спас ее от гнева мужа за ее благие деяния.
Мама тоже старалась следовать примеру святой Елизаветы. По воскресеньям, отправляясь в костел, она непременно брала с собой корзинку, в которую, если уж не находила ничего получше, клала хотя бы хлеб, нарезав его на одинаковые ломти. Летом она обычно намазывала хлеб маслом и прибавляла кусочек сыру, говоря при этом:
– Хоть проглотить легче… За душонки, что в чистилище мучаются, помолятся…
В местечке, у кирпичных столбов ограды двора костела, и в хорошую погоду, и в дождь торчали десяток, а то и несколько десятков нищих. Я помню, один был с огромной рыжей бородой, слепой – милостыню за него принимала маленькая девочка, прикорнувшая рядом с ним на мостовой. Другой нищий – с отвратительными гнойными язвами на ногах. Впоследствии я его не видел – говорят, он был арестован за надувательство. Оказалось, он был совсем здоров, но не хотел работать и сидел с нищими, обмотав ноги свиными кишками, чтоб выглядеть пострашнее и разжалобить сердобольных. Отойдя от костела, он сдирал эти кишки и снова оказывался здоровым… Сиживали здесь старухи, слепые и глухие, с морщинистыми, как сушеная груша, личными, со скрюченными руками, искривленными позвоночниками.
Мою маму они очень уважали и, едва увидев ее, принимались повторять на разные голоса:
– Дай боже здоровья всему семейству… Молитвы за души в чистилище сотворим… За живых, мертвых, старых и малых…
Мать раздавала нищим милостыню, и, миновав кирпичные столбы, мы поднимались наверх, в тенистый двор костёла, где стоял памятник с латинской надписью…
Нищие ходили и по деревням. Перевесив через плечо котомки, замотав ноги онучами, с увесистыми дубинками, чтоб обороняться от собак, они плелись по дворам, собирая милостыню, разнося разные, чаще всего выдуманные вести о войнах, моровых поветриях, китах, которые людей глотают, о кораблях, тонущих в море. Некоторые из них были смиренные и тихие, беспрерывно молились (во всяком случае, их губы непрестанно дрожали в ожидании милостыни или горячей еды).
Каждого нищего в нашем доме принимали, кормили, а если надо было, укладывали на ночь.
Я вспоминаю одного нищего, еще не старого, запустившего густую рыжеватую бороду, хромого на левую ногу, чуть косого. Говорил он много, каким-то высоким, визгливым голосом, слышным еще издали. Некоторые звуки он произносил по-особенному.
– Да будет вочхвалсн Иичуч Хричточ! – кричал нищий, едва открыв дверь избы.
Сев на лавку, он с места начинал городить про свои похождения:
– Приходжу в Бартининкай к Куодайтичу, так чобак напучкает, палкой деретчя, Чпрачивает: такой молодой, а работать не моджешь? А как мне работать, коли чилы човчем нету…
Отец, не вытерпев, иногда, гляди, и скажет:
– Ничего, ничего! Я бы еще подумал, стоит ли с тобой тягаться… Здоров ты как бугай…
Нищий еще жалобнее стонет, жалуется на свои беды, рассказывает, как брат женился, забрал хозяйство, а его выгнал к собакам. Трудно разобрать, что в его словах правда, а что вранье.
– В Одечче в окияне кит заявилчя… – рассказывает он, а мы только диву даемся. – Это удж такая рыбка, ч гумно трямпиняйчкого помечтья. И почел члух, что этот кит хричтиан будет глотать… Тогда вычли на берег окияна кчендзы с кропильничами да как начнут чвятой водичкой кропить… Члава богу, обочлочь, уплыл кит в Японию…
Еще в потемках притащился к нам незнакомый рослый, невероятной худобы человек с тяжелым заплечным мешком, который придерживали на спине перекрещённые на груди тканые лямки. Он устало снял мешок, сел на лавку, подпер рукой давно не бритый подбородок и как-то резко, почти зло принялся спорить с отцом:
– Ерунду говоришь, хозяин! Будто не видишь, что это за чай? Бери весь ящик, и года на два хватит – и самим, и ксендзу, когда приедет с колядой. Прусский платок жене купи. Не скупердяйничай.
Он развернул и разостлал на столе чудо-платок, от которого вдруг озарилась вся изба. Платок был ничуть не хуже того, что на маминой покровительнице святой Елизавете с образа. Мама с восхищением несколько раз примеряла платок. У окна на гвозде висело крохотное зеркальце, правда, почти стертое с тыльной стороны, но мама, поднеся его поближе к лампе, любовалась собой…
– А ты, Эльзбета, и греха не ведаешь, – раздался голос тети Анастазии. Она пряла и даже издали не желала смотреть на соблазны сей юдоли слез.
– Будто я для себя? – уныло говорила мама. – Девочки ведь растут, не в чем в костел пустить, как у людей… Вот, говорю, купили бы, вот и носили, бы…
Торговались долго. Несколько раз купец складывал свои товары в мешок, лежавший рядом с лавкой. Мать принесла ему завтрак – дымящийся свекольник, свежий хлеб, кусок скиландиса. После завтрака торг продолжался. Так ни о чем не столковавшись, отец ушел на гумно молотить, а мать не вытерпела – принесла из горницы старый платок, в уголке которого было завязано несколько гривенников, с трудом вырученных за сыры, масло, кур, и подала купцу…
Мы глядели и диву давались, когда мама повязывала этот платок и отправлялась в нем в Любавас, несмотря на попреки тети Анастазии. Она сразу молодела, забывала все свои заботы. А когда она наряжала в этот платок Кастанцию, мы тоже не могли налюбоваться – такой красавицей становилась наша старшая сестра.
Потом мы услышали, что этого купца застрелили жандармы, когда он переходил прусскую границу с контрабандой.
ЗАБЕЛЮКЕ УМЕРЛА
Мы в тесноте завтракали за столом, когда отворилась дверь и вошел Андзюлявичюс. Он снял шапку и какое-то время стоял у двери, как будто не зная, с чего начать.
– Просим, просим к нам… Чем бог послал… – Мать, вскочив с места, стала вытирать передником лавку у стола.
Андзюлявичюс провел тыльной стороной ладони по лицу, словно вытирая его.
– Пришел я, значит, попросить, Тамошелис, – обратился он к отцу. – Гробик… часом, гробик не смастеришь?.. Забелюке-то наша сегодня ночью померла…
– Господи милосердный, – перекрестилась тетя, едва не поперхнувшись. – Прими душу христианскую… Да вроде и неслышно было, чтоб болела… Кажись, когда это я еще ее в Любавасе видела… Такая большая выросла…
– Не стало Забелюке, – мрачно и тихо сказал гость.
Андзюлявичюс ждал, пока отец встанет из-за стола. Он все еще стоял у двери, понурив взлохмаченную голову, опустив длинные руки, убитый горем.
– И дощечки свои прихватил, – сказал он. – Я сейчас…
Он вышел в сени и внес под мышкой несколько сосновых досок. Сложил их на верстак. Губы у него тряслись, ему трудно было говорить.
– Хорошо, сосед, – сказал отец. – Сделаю. Не знаю только… как насчет длины… Кажись, она была одного роста с нашей Забеле.
– Она была меньше, она была меньше! – закричала наша Забеле. – Мы еще весной мерялись. Вот, на целую пядь…
– Замолчи! – прикрикнула мама. – Будет она еще спорить, свое твердить!.. Бедная Забелюке… Такая хорошая была девочка… И к первому причастию, помню, с нашим Юозукасом вместе ходила… А как это она? – спросила она у Андзюлявичюса.
– Одному господу богу известно. Горло перехватило, кашляла бедняжка, задыхалась, пока совсем не задохнулась.
– Меду надо было с молоком, – сказала мама. – Как на наших ребят что-либо такое находит, то мы уж первым делом…
– Давали, все давали – и меду, и молока… Но, видать, господь порешил забрать ее к себе… Так и моя жена говорит…
Все мы знали Забелюке. Но ни один из нас не плакал. Все это было до того неожиданно, что мы просто ничего не поняли. Как будто земля за гумном провалилась – даже испугаться не успели.
А когда начало смеркаться, тетя сказала:
– Пойдем отпевать, сынок, попоешь с нами.
Повторять не пришлось. Я мигом обулся и надел пиджачок, подбитый паклей. На голову нахлобучил шапку с козырьком и сам принес из чулана книгу псалмов – знал, где тетя ее держит.
Была осень. Над пашнями стелился волнами туман, да такой, что в десяти шагах ничего не разглядишь. У ворот стояли голые уже липы, что посадил отец, когда мы переехали сюда из старой избы. На сучьях уныло каркали вороны. Сырость проникала во все прорехи одежды, студено лизала тело. Меня трясла дрожь, но я, не отставая, бежал за тетей, которая вышагивала впереди в своем праздничном черном платье, в большом платке, с КНИГОЙ в руке.
На косогоре ноги увязали в мокрой глине. Клумпы вытаскивались из нее с трудом. Но оттого, что пришлось месить эту глину, сразу стало теплей, даже вроде пот прошиб. За пригорком, в темноте замаячил небольшой хутор Андзюлявичюсов. Рядок верб торчал у едва различимого хлева. За гумном замигал крохотный огонек лампы в окне избы.
Когда мы вошли в избу, на всех лавках сидели люди, дети же сбились в темноте у печи. Освещенная скудным светом лампы, Забелюке лежала в гробике, что сколотил мой отец, поставленном на две высокие скамейки. Она лежала в белом платьице, длинная, пожалуй, длиннее пашей Забеле, только совсем бледненькая, с серьезным личиком. У меня вдруг что-то сдавило горло, как будто я слова больше не смогу вымолвить. Забелюке была такая хорошая девочка! Я вспомнил, как она, когда была еще меньше, пригоняла к озеру пяток гусей и, бывало, пока гуси ныряют и плещутся в Рукаве, она сплетет из васильков и колосьев венок, наденет на голову и спрашивает:
– Красивая я в веночке?
Я стеснялся говорить, что она красивая, хоть она и выглядела как королева из сказки. Она сама знала уйму сказок и иногда рассказывала мне такие, каких я еще не слышал. Я был моложе Забелюке и сказок знал меньше, чем она. Иногда она напевала тоненьким тихим голоском. Песни ее были обычно печальные – про пропавших овечек, про надвигающуюся тучку…
А теперь ее не стало…
У Забелюке не было кукол, Андзюлявпчюсы слишком уж были бедны и не могли ей ничего покупать. Пока была поменьше, Забелюке сама делала кукол из ярких лоскутков. Вместо головы она клала камешек, завернутый в белую тряпочку.
А теперь Забелюке не стало…
Мы вошли в избу, опустились на колени у порога, помолились. Мне в голову непрерывно лезли мысли о Забелюке. Кто-то поднялся из-за стола, указал место для тети Анастазии. Она взяла меня за руку и потащила за стол.
Рядом с тетей сели Йонас Аугустайтис из Гульбинаваса, Скамарочюс из Будвечяй и еще какая-то незнакомая мне женщина из батрацкой трямпиняйского поместья, молодая и красивая, с пронзительным голосом. Вскоре в избе раздалось заунывное, жуткое пение:
Душе не напрасно
Твердить ежечасно,
Что мы, человеки,
Живем не вовеки
На свете…
Продрав бренны вежды,
Глядите, невежды:
Вот смерть уже скачет,
Как остов на кляче,
По свету…
И даже ребята,
Что, ровно ягнята,
И блеют и просят,
Их смерть тоже скосит
Со свету…
Я глядел в открытую книгу и старался петь наравне со всеми. Как я пел, не знаю, но когда длинная-предлинная песня кончилась, Микулёнене из Гульбинаваса сказала:
– Вот боже ты мой! Такой малек, а поет будто ксендз! И читает, видать, бегло, не наслушаешься. Верно говорю, Анастазия?
Тетя Анастазия была явно довольна, что меня хвалят:
– Да, уж читать-то мальчик читает… И поет тоже, как видите. Да и набожное дитя… Каждое утро и вечер все что ни на есть молитвы творит.
– Скажите только! – подивилась Кярялявичене из Будвечяй. – Ведь только господу во славу такой ребенок. Вот, правда, в ксендзы надо бы пустить…
По улыбке тети я понял, что разговоры женщин ей – как маслом по сердцу. Но она сказала:
– Куда уж нам в ксендзы? Из таких нищих…
– Ну уж не говори, Анастазия… Оно конечно, не поместье у Тамошюса, но коли бы сына на ксендза пустил, каждый сосед рубль-другой бы подкинул… Ведь для всей округи честь…
Я слушал эти разговоры и не знал, радоваться мне или нет.
Андзюлявичене, худая, высокая женщина со впалой грудью, в темном платке, заменила догорающую восковую свечу в головах гробика новой и, схватившись за голову, заголосила, раскачиваясь над покойницей.
– О Забелюке, доченька, – плакала она. – Ну, почему ты умерла? Ох, не будешь ты мне подсоблять сено грести, ткать холсты!..
О Забелюке, доченька! Ну почему ты нас, стариков, оставила? Не жалко тебе старого папеньку, ни матушку, ни юных братцев?
О Забелюке, доченька! Почему ты ушла из распрекрасного дворца с зеркальными окошками, с медными дверьми? Будто не хорошо тебе у нас было? А дождалась бы лета, мы бы с тобой в Сейпы поехали, епископа бы увидели…
О доченька моя родимая! Чего убоялась – то ли времечка тяжелого, то ли работ тяжелых? Не бояться бы тебе: я бы тебя научила – полегчали бы работы, хоть времечко и тяжелое…
О доченька родимая! Трудно тебе было гусей пасти, за свинками смотреть? Помнишь, ты пустила свиней в картошку, тебя отец поколотить хотел, а я не дала: не бей мою доченьку, мою единственную!
О, помню я, как ты шла в Любавас к исповеди, до чего ж нарядная, с заплетенными косами!
Голос Андзюлявичене, то высокий и звонкий, то вдруг как бы обессиленный, жалобно и дико звенел в мрачной избе. Плача над Забелюке, она рассказывала теперь про всю ее недолгую жизнь, про ее маленькие радости, мечты и надежды. И у всех пыла душа от плача матери.
Вместе с тетей я вернулся домой. Долго не мог заснуть. В ушах у меня звучал плач матери Забелюке. Даже закрыв глаза, я видел Забелюке, лежавшую в гробике, сколоченном из белых сосновых досок, видел ее живую, как она плела венки, тихо напевала, рассказывала сказки… И никак не мог поверить, что никогда больше мне ее не увидеть… Забелюке умерла…
ТЕТЕНЬКА
Отец когда-то купил в Гульбинавасе клочок земли. Земля там была неважная, но хороша тем, что участок упирался в торфяное болото, правда изрядно уже подчищенное прежним владельцем. Каждый год мы добывали там торф – дрова достать становилось все труднее. Наш торфяник лежал за озером. Мы, детвора, ходили туда по ягоды – там росла малина, черника и ежевика. Идем и боимся, как бы не выползла из-под пня гадюка, хотя никто не слышал, чтобы там водились змеи.
Мы страсть как любили бегать промеж заполненных водой торфяных ям, любили глядеться в четырехугольные их зеркала, где отражаются вверх ногами хилые березки, кусты, плывущие по небу облака. Пустошь эта казалась таинственной и дикой – ни звука не услышишь, только изредка на хуторе Трячёкасов, за болотом, тявкнет собака или запоет петух.
Часть луга отец распахал и устроил здесь грядки. На них посадил капусту. Капуста на торфе росла прекрасно. Настала осень, капуста завилась в тяжелые тугие кочаны. Нашим все как-то недосуг было ее убирать, – казалось, что кочаны все еще тяжелеют, твердеют, а может, просто времени не было за другими работами. Появилась уже первая изморозь, и тогда решили: на следующий день после обеда пойдем рубить капусту.
Но каково было наше удивление, когда мы с отцом, явившись на огород в Гульбинавас пораньше других, увидели, что две грядки лучшей капусты уже подчищены – только кочерыжки торчат. Кругом рассыпаны обломанные серебристые листья.
– Ну, разве не гады! – крикнул отец, увидев разоренный огород. – Ей-богу, тут ночью побывали воры…
– Но у нас ведь воров нет! – сказал я, потому что не раз слышал такие разговоры взрослых. – Папа, а вы очень некрасиво сказали…
– Что это я сказал? – удивился отец. – А как еще назвать такого человека, коль не… – Он взглянул на меня, усмехнулся и не повторил некрасивое слово «гад».
На самом деле в нашем краю воровства не знали. Правда, народ, собравшись вечерком в пашей избе, иногда говорил и о ворах. Но воры эти были где-то далеко. Шли толки, что в Айстишкяй, где живут мои крестные, у одного крестьянина воры ночью увели из хлева лошадей. Лишь на третий день он нашел лошадей в Вартялинском лесу. Поговаривали, что в клеть Стасюкявичюса из Будвечяй пробовали пролезть воры через крышу, но, так и не успев ничего украсть, удрали, заслышав приближение людей. То у одного, то у другого в нашей деревне ночные озорники, собравшись к девкам, бывало, вытащат из колодца молоко, опущенное туда на ночь, и выпьют. А вот воровства крупного не водилось.
– Ну и дурак же вор! – сказал вскоре отец, обнаружив на лугу следы колес но изморози. Выходит, вор ночью приехал, срубил капусту, свалил в телегу и спокойно уехал. Вору и в голову не пришло, что останутся его следы. – Что ж, пойдем, поглядим, куда ведет эта колея! – сказал отец.
С минуту думал, подошел к молодой березке, вытащил из кармана крепкий складной нож, срубил березку у самой земли и, обстругав веточки и листья, справил себе гибкую, хлесткую палку.
Какое-то время мы шли по лугу, потом колея свернула на пригорок и за ним, по косогору, вдоль пустых пашен и залежей повела на тот конец Гульбинаваса. Мне было страшновато. Каков с виду этот вор? Наверное, бородатый, в сермяге до пят, подпоясанной веревкой, а на лицо, разумеется, он напялил овчинную маску с красными глазницами, какие надевают парни в заговенье.
– Ну что ты скажешь? – сказал отец, останавливаясь на пригорке и глядя на усадьбу в ложбинке, подальше от дороги, вдоль которой рассыпались избы остальных жителей Гульбинаваса. – Что ты скажешь? Колея-то ведет во двор Тетеньки…
Отцовы слова поразили меня. Тетенька вышла замуж в Гульбинавас три года назад за вдовца, но неудачно. Ее муж вскоре умер, и теперь она сама хозяйничает на этом хуторе, даже привезла откуда-то своих родителей. Мужнины дети – взрослые и давно разошлись по свету – кто в зятья, кто в город, кто даже в Америку уехал. Никого из них я не видел. А вот Тетеньку знал хорошо, как и все жители окрестных деревень. Это приземистая бабенка, красивая, любезная, разговорчивая. Без нее не обходились ни работа, ни свадьба, ни крестины – всюду слышен ее звонкий голос, всегда она найдет любезное слово для детей, а иногда не только слово – и длинную, завернутую в блестящую бумагу конфету… Женщин постарше она кличет тетеньками, мужчин – дяденьками, вот за ней и укрепилось прозвище Тетенька. Неужто Тетенька украла нашу капусту? Нет, тут что-то не так. Хоть и тяжело так думать, но отец, наверное, ошибается.
Однако колея свернула на узенькую дорожку, которая через край луга вела прямо во двор Валинчюсов. Отец снова постоял минуту, почесал в затылке, о чем-то подумал и, опираясь на березовую палку, решительно зашагал во двор. Здесь тоже отчетливо виден был след, ведущий к запертому гумну. Отец шел прямо по этому следу. Дверь гумна была задвинута изнутри, отец подергал ее и огляделся. Двор был пуст. Только курицы кудахтали где-то на сеновале, а у другого конца хлева затявкала маленькая желтая собачонка. Услышав собачий лай, кто-то в избе припал к окну. Это глядел седой косматый старик. «Наверное, отец Тетеньки», – подумал я. Вскоре из избы появилась и сама Тетенька, как всегда опрятная, любезная. Она заулыбалась нам своим румяным лицом, в улыбке блеснули красивые здоровые зубы.
– Пожалуйте, дяденька, в избу, – обратилась она к отцу, словно не замечая, до чего он свиреп и разъярен.
– Не в избу, а гумно отопри! – крикнул отец.
Женщина, кажется, еще больше покраснела, потом, взглянув на палку в отцовской руке, что-то поняла, даже румянец как-то поблек. Она покорно направилась к гумну и открыла сбоку дверцу. Мы с отцом вошли на гумно и тут увидели на току одноконную тележку, доверху нагруженную кочанами капусты.
Отец, увидев свое богатство, поглядел на Тетеньку и не выдержал. Он схватил ее, уже дрожащую, перепуганную, за руку и со всего маху раз, потом другой съездил березовой палкой по седалищу. Я видел, что он не бьет куда попало. Тетенька теперь проворно кружилась вокруг него, подскакивала, а он все не выпускал ее руки и время от времени огревал по мягкому месту да прикрикивал:
– Будешь знать воровать! Будешь знать воровать!
Тетенька перепугалась не на шутку и сладеньким голоском, будто играя, канючила:
– Дяденька, прости! Прости, дяденька! Я больше не буду…
Отцу, видать, скоро наскучило это занятие. Злость понемногу проходила. Слова Тетеньки показались ему даже смешными. Сдерживая улыбку, он, как мог суровее, сказал:
– Запрягай лошадь – и поехали…
– Куда? – удивилась Тетенька. – Никуда я не поеду…
– Ах, не поедешь? – Отец снова схватил женщину за руку и обкрутил, словно в танце, вокруг себя. – Ах, не поедешь? – повторил он и замахнулся палкой.
– Поеду, поеду, дяденька, только не бей, смилуйся… – залепетала Тетенька и полезла целовать отцу руку.
Мне было жалко Тетеньку, от которой я не раз слышал любезное слово, а как-то даже получил конфету.
– Не бейте, папа, не бейте! – кричал я, хватая отца за полу полушубка…
– И он еще тут, лягушонок, будет заступаться за воровку!.. – крикнул отец. – Ну, пошла, закладывай лошадь, и поедем… – снова сказал он ей.
Тетенька обрадовалась, что отец больше не грозится. Тут же она привела из хлева бойкую буланую лошадку и, сняв с гвоздя хомут, принялась запрягать ее. Услышав шум, отец Тетеньки, седой лохматый старик, присеменил к гумну и, отворив малую дверцу, слезящимися глазами удивленно уставился на нас.
– Что тут творится? – спросил он, откашлявшись. – Какую это карусель выдумал, Тамошюс? Чего распоряжаешься в чужом доме?
– Видать, и ты захотел по хребту? – крикнул отец. – Пока вас тут не было, про воровство ничего и не слыхивали! Откуда капуста, а?
– Не обзывай, не обзывай! – крикнул старик. – Моя дочка тебе не воровка!..
– А это что? – показал отец на капусту, сваленную в тележке. – Может, твоим потом выращена? На чужое добро позарились.
– Папенька, – как ни в чем не бывало обратилась к старику Тетенька, – пошел бы ты лучше в избу. Мы уж тут с дяденькой столкуемся.
Старик замолк, сплюнул и поплелся обратно. Мы же втроем уселись на тележку и покатили домой…
Отец сидел рядом с Тетенькой на мешке, набитом соломой, а я – на задке. Тележка бойко катилась по проселку мимо Шелковой горки, по мостику через крохотный безымянный ручей, потом мимо помещичьего сада…
– Ты уж прости, дяденька… – продолжала канючить Тетенька. – Вот сама не знаю, что мне в голову взбрело… Первый раз в жизни.
– Смотри у меня, чтоб был и последний! Не хочу тебя жандармам… по судам… весь век ни с кем не судился… Срам же перед людьми… – говорил отец.
– Летом на рожь приду, денек-другой подсоблю… Я ж завсегда для добрых людей…
Когда мы въехали во двор, лошадь остановилась сама. Тетенька живо спросила:
– А куда капусту сложим, дяденька?
– Куда ж? Ясное дело, в избу потащим, – с усмешкой ответил отец. – Погоди, позову женщин, подсобят…
Из избы вышла мама.
– Что это вы так быстро с капустой? – удивилась она. – Мы-то с Анастазией только после обеда собирались в огород…
– Ничего, – сказал отец. – Тетенька подсобила, и видишь, как быстро управились. Бочку-то вымыли? Хоть сегодня можете шинковать…
– Отмыли-то еще вчера… Погоди, позову девочек, быстрей стаскаем…
Отец, покуривая трубку, уже ходил во дворе вокруг тележки, а Тетепька вместе с выбежавшими из избы девочками брала кочаны под мышки и носила в избу. Когда работа была кончена, мать сказала Тетеньке:
– Ну уж спасибо большое за помощь. Просим как-нибудь забежать свежего квашения попробовать… Сварю щей с сальником…
– Спасибо уж, спасибо, тетенька… Ах, и своя есть. Еще свою капусту в этом году не убирали…
Сев в пустую тележку, Тетенька крикнула:
– Значит, до свидания, дяденька…
Отец взмахнул рукой, словно отгоняя от себя назойливое слово, которое он хотел крикнуть Тетеньке. И сказал только:
– Езжай, езжай подобру-поздорову! На этом дело и кончилось.
КАК Я НЯНЧИЛ БРАТА ПРАНАСА
Так уж было заведено в нашей семье, что старшие смотрели за младшими. Меня качала, носила и учила есть Кастанция. Она была у нас старшая. А меня приставили к Пранукасу, младшему брату, который родился вместе с другим братиком. Этот Пранукасов братик оказался слабенький и вскоре умер. Поэтому мама, позднее, когда Пранукас уже подрос, иногда в сердцах обзывала его «полдвойняшки».
Пранукас лежал в ивовой плетеной зыбке. Зыбка висела на очепе – гибкой жердине, накрепко привязанной веревкой к потолочной балке, недалеко от кровати, в которой спали мама и отец. Качался тот конец жерди, к которому была прикреплена зыбка. Днем, едва только Пранукас принимался кричать, я спешил к зыбке и качал его вниз-вверх или в стороны. Когда мне это надоедало, я принимался трясти люльку так, что мама, сидя за прялкой, кричала:
– Сдурел ты, что ли? Еще ребенка выронишь!.. Ребенка я, конечно, не ронял. Если Пранукас все равно не затихал, мама, расстегнув ворот, давала ему грудь или совала в рот тряпочку с завернутым кусочком сахару. Потом в избе появился даже резиновый рожок, который Пранукас сосал с удовольствием. К рожку присоединялась резиновая кишка, в нее же засовывали стеклянную трубочку, которую опускали в бутылку с молоком. Ребенок сосал молоко, по словам отца, как барич. Мне оставалось только придерживать бутылочку, чтоб не разлилось молоко.
Пранукаса принес аист, это было для меня ясно и неоспоримо. У аиста его взяла тетя Рачювене из Гульбинаваса и принесла к нам в избу. Так она поступала со всеми детьми в деревне. Мне лично казалось, что дети водятся не на болотах вокруг озера, как об этом толковали, но скорей уж в аистином гнезде – на колесе телеги, которое мужики приладили на крыше гумна.
Ходили слухи, что иногда тетя Рачювене находит детей в огороде под капустным листом. Всякое бывает.
Так или иначе, Пранукас рос, и хлопот у меня прибывало. Он уже кое-как держался на тоненьких ножках, и его засунули в так называемую стоялку. Это был снаряд, который отец смастерил несколько лет назад для нас, старших. Им пользовался и я, и Юозас, и кажется Забеле. Снаряд этот был совсем простой. Внизу – несколько дощечек, в них просверлены четыре отверстия, туда вставлены четыре колышка. Наверху они держали круглый обод – колесо от прялки (разумеется, без спиц и ступицы). В это колесо засовывают ребенка, под мышками у него обод колеса, он не может упасть, и все выглядит довольно мило. Иногда ребенку в стоялке нравится, и он так стоит битыми часами, а бывает, он сразу же начинает проявлять нетерпение и нелюбовь к дисциплине. Тогда бери его на руки, носи, суй ему всякие игрушки.








