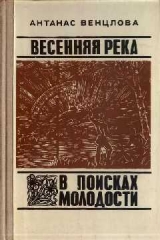
Текст книги "Весенняя река. В поисках молодости"
Автор книги: Антанас Венцлова
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 43 страниц)

Антанас Венцлова
ВЕСЕННЯЯ РЕКА
(перевод с литовского В. Чепайтиса)
Как мало шума производят подлинные чудеса! Как в общем просты основные события жизни! О моментах, которые я хочу передать, можно рассказать так мало, что мне нужно снова пережить их в грезах…
Антуан де Сент-Экзюпери
Книга детстваОГОНЕК ОЧАГА
Человек приходит из сна. Он просыпается не сразу и еще не понимает, что сон кончается и начинается явь. На ресницах еще виснет сладкая дрема, но вокруг уже слышатся звуки, новые и поразительные. Качаются деревья. Летят облака. Улыбаются или злобно морщатся люди. Вокруг – непонятный мир.
Изба кажется невыносимо большой – ни конца ей, ни края. По углам таятся тени, они съеживаются и снова расползаются, как подошедшее хлебное тесто. На дворе темным-темно. Становится зябко, неприютно, и хочется зареветь.
Но беззвучно горит огонек очага. Это он загоняет в углы темные тени. Это он освещает лица людей, и они веселеют. Огонек – я понимаю это гораздо позже – разложен на куче камней, которая и называется очагом, над пламенем висит чугун, поначалу он безмолвствует, потом принимается булькать, попискивает, как-то чудно скулит. Изредка к нему подходит кто-нибудь из женщин, мешает поварешкой или, зачерпнув варева, дует, осторожно пробует. Чугун пыхтит, шипит и жалуется. А я сижу на коленях у сестры и гляжу, как весело трещит огонек. Искры щелкают и скачут, разлетаются по избе и гаснут на твердо утоптанном полу. Сестра не то поет, не то приговаривает:
Те-ре-ре-ре-рерь!
Не пролезу в дверь…
Брошусь в дымволок —
Ушибу пупок,
Выкинусь в окно —
Разобью яйцо…[1]
Смысла слов я еще как следует не улавливаю. Знаю, что такое окно, что такое дымволок, но где лежит это яйцо, которое можно разбить, мне не ясно. Широко открыв глаза, я гляжу в чернеющую в потолке дыру.
Со двора входят люди. Они огромные, в сермягах, в заячьих треухах. Они топчутся у порога, от клумп откалываются плотные ломти снега. Потом снимают сермяги, и первым ко мне подходит отец. Я его уже знаю. И хорошо и страшно, когда он приближает ко мне лохматую голову и лицо со щекочущими заиндевевшими усами. Он берет меня на руки. Я иду охотно – мне уже надоели объятия сестры и ее песенка про дымволок, которую я слышу десятки раз каждый божий день. Отец поднимает меня, даже не поднимает, а подкидывает и ловит руками. До того хорошо – как будто снова возвращаешься в теплый сон, где летаешь, падаешь и никак не можешь упасть на землю. А отец звонким, приятным голосом выкрикивает:
Вот большой мужчина,
Мужчина-молодчина…
Потом он опять отдает меня сестре, а сам – крупный и большой – шагает к столу. Там, взяв в охапку большой круглый каравай, разрезает хлеб. Мама между тем разливает по глиняным мискам похлебку. Похлебка дразняще пахнет, дымится, вся изба наполняется ее запахом.
Отец спускает подвешенную под потолком на проволоке лампу, снимает стекло и вытирает его пальцем. Выкрутив фитиль, берет из очага горящую щепку, подносит к лампе и зажигает. Пламя взлетает вверх. Отец подкручивает фитиль, надевает стекло. Лампа озаряет избу желтым унылым светом, в котором все-таки видны головы людей. Я уже малость их различаю. Люди сидят за широким деревянным столом. Они крестятся, берут ложки и хлебают из двух мисок – старшие сидят на одном конце стола, младшие на другом. Рядом с отцом сидит тетя Анастазия, мама, дальше – сестра Забеле (Кастанция держит меня на коленях), братья Пиюс и Юозас. Отец о чем-то рассказывает, все слушают, изредка вставляя вопросы. Тетя Анастазия ругает моих братьев, навалившихся на миску. Мальчишки брызгаются, колотят друг друга ложками по лбу. Наконец отец принимается молча шарить у пояса – вот он снимет ремень! Это движение, видно, хорошо понятно всем, и за столом снова тихо.
Вечер, люди топчутся по полу, галдят, отец пристраивается вить веревки. Кудель мало-помалу тает, вьюха ходит быстро, и на нее накручивается тонкая веревочка. У отца в зубах висячая с длинным чубуком трубка, из нее с пыхтеньем валит дым. Иногда дым добирается даже до меня, ест глаза и горло, и я кашляю. Мама говорит:
– Бросил бы ты свою смоктелку – видишь, дышать нечем…
– Ничего, легкие крепче будут… – говорит отец и снова пыхтит, а когда трубка гаснет, идет к очагу, роется в догорающих головешках и прикуривает от уголька или кладет в головку кусочек пылающего торфа.
После ужина я перехожу с рук сестры на мамины. Мама пахнет молоком, как тетя – яблоками, а отец – еловой хвоей. На руках у нее мне тепло, уютно, я не боюсь темноты, притаившейся по углам.
Мама напевает песенку. В ней мало слов. Песенка тоже какая-то уютная. Мне чудятся зайчата, бегущие по полю, барашки, кудрявые и мягкие, добрые утята и рябые курочки. Я снова возвращаюсь в сон, из которого недавно явился, и не знаю, где лучше – во сне или наяву. Глаза смежаются, и я погружаюсь в теплое, тенистое царство сна.
ПОЖАР
Много позднее я понял, что случилось на самом деле. Об этом событии долго рассказывали все – отец, мама, Кастанция, тетя Анастазия… Для всех это было бедой. А для меня – что-то неожиданное и даже радостное…
Кастанция держала меня на руках. Я глядел, как в старом нашем садике вылезают из летка в колоде пчелы и с жужжанием взмывают в воздух.
– Пчела кусается! – кричу я, размахивая рукой. – Пчела плохая!
– Нет, пчелки хорошие, – говорит мне Кастанция, – они принесут сладкого-пресладкого меду…
За изгородью вдруг что-то засветилось. Кастанция закричала, из избы выскочила тетя Анастазия. Мы уже были в переднем дворике, и я все вертел головой, стараясь разглядеть, что творится там, где стоит дом Кастантаса Бабяцкаса. День погожий, – наверное, весна, может, осень, небо – синее, спокойное. И все чаще слыхать, как во дворе Бабяцкасов кто-то кричит, громко и все одно и то же:
– Спасите, горим! Спасите, горим!
Вдруг сквозь листву деревьев я увидел, что из окон избы Бабяцкасов валит дым; вылезают длинные красные с белым языки и лижут соломенную крышу. Снизу, из-за дороги, где стоят деревенские хлева и сенные сараи, уже бегут люди, торопливо взбираются на наш пригорок и незнакомый, длинноволосый без шапки человек кричит:
– Багор где? Куда багор дели?
Что такое багор? Но вот появляется отец, он тащит длиннющую палку с каким-то железным крюком на конце.
– Вот багор! – кричит он. – Только тут багром не управишься!
На пригорок, где стоят наша и Бабяцкаса избы, прибежали женщины с деревянными ведрами. Ведра болтались на коромыслах, а коромысла качались на плечах у женщин. Из ведер на сухую тропу плескалась вода. Какой-то человек повалил изгородь нашего садика со стороны Бабяцкасов. Теперь женщины тащили воду прямиком через садик. Когда опрокинули в огонь ведро, вверх ухнули клубы пара и дыма. А пламя струилось по крыше, выложенной большими зелеными лепешками мха, и вскоре вся изба побагровела, затопленная пламенем.
– Глядите, чтоб не перебросилось! – кричал отец.
– Может, бог даст… Ветра-то нету… – успокаивала мама, снимая с изгороди давно высохшее белье.
А мне было страшно весело. До того все это было неожиданным и красивым, что я только боялся, как бы Кастанция не унесла меня отсюда. Светло, даже в глазах рябит, а теплынь, как у очага. И впрямь Кастанция повернулась и понесла было меня вниз по тропинке вдоль избы, но я закричал и заплакал:
– Не хочу, не хочу…
– Ну и храбрец ты у нас, – сказала Кастанция и, отойдя подальше от пожара, снова остановилась. Над ее плечом я увидел, как рухнула крыша и вверх взлетел рой искр. Это еще красивее, чем когда дом просто горит.
А люди все носились вокруг. Бабяцкене плакала, держа в охапке перину, давно вытащенную из огня, а Андзюлявичене тараторила с кем-то:
– Поглядели мы в окно – а дымищу-то!.. Думаю – хлеб Бабяцкасы пекут. А мой-то и говорит: «С вечера ж не ставили, что они там пекут?»
– Что уж тут поделаешь! – говорил отец. – Надо только глядеть, чтоб другие избы не загорелись…
Когда крыша обвалилась, огонь вроде спал. Мама, кажется, только теперь увидела, что неподалеку стоит Кастанция со мной на руках.
– Чего тут глаза вылупили? – вроде рассердившись, прикрикнула она на Кастанция. – В избу идите!
– Да он не хочет… – попыталась отвертеться Кастанция.
– Не хочу, не хочу! – крикнул и я.
Но кто меня послушает? Несмотря на крики, меня затащили в избу и усадили на кровать. Ужас как нехорошо в полутемной избе после светлого двора. Почему-то меня одолела дрема. Увидев, что я тру кулаками глаза и зеваю, Кастанция сунула мне под голову подушку, накрыла ноги какой-то тряпицей, и я тут же заснул.
В КОРЫТЕ
– Нет, – сказала мама, – сегодня уж непременно выкупаем этого ребенка, а то все некогда да некогда… Ребенок-то вторую неделю в корыте не бывал…
Я забрался за жернов и сижу там, затаив дыхание. Потом высунул голову, огляделся. Мама поставила к очагу скамеечку, принесла из сеней корыто. Плеснула кипятку – моет, оттирает тряпкой. Да, видно, меня опять засадят в это корыто.
А я туда не хочу. Правда, посидеть в теплой воде да всласть пошлепать по воде руками – неплохо, по не приведи господи, если мама начнет намыливать голову и лицо!..
– Куда этот ребенок делся? – спросила мама у тети, которая подкладывала под котел новые поленья.
Не знаю, то ли тетя на самом деле меня не разглядела за жерновом, то ли притворилась, что не видит, но ответила:
– А пес его знает… Может, в поместье убежал или даже на Часовенную горку…
– Никуда он не убежал, – сказала Забеле, чистившая картошку. – Залез за меленку и сидит. Думает, никто не найдет…
Я зажмуриваюсь, думая, что теперь-то меня уж точно никто не увидит. Но вот мамины руки берут меня под мышки и легонько приподнимают. Ничего не поделаешь, все снова пойдет, как в прошлый раз! От судьбы не уйдешь!
Разумеется, так хитроумно рассуждать я тогда не мог. Но чувствовал, что надвигается что-то неизбежное. Мама, видно, поняла мои опасения.
– И чего ты боишься, как дурачок? Будто тебе что сделают? Выкупаю, и самому приятней будет.
– Не хочу! – закричал я и – в слезы.
– Хватит, хватит, будет тут реветь как теленок! – стыдила меня тетя. – Такой большой парень – ну просто срам!
В это время мама налила в корыто воды, горячей и холодной, сунула палец, попробовала и добавила еще кружку.
– Вода будто квасок. Плескайся на здоровье…
Она сняла с меня через голову безрукавку и рубашку, снова взяла под мышки и, приподняв, посадила в корыто. Нет, пока ничего страшного не было, и я перестал реветь.
– Говорила ведь я? – сказала мама. – Вот выкупаемся, как большие, чего ж тут хныкать!
В корыте на самом деле хорошо. Я шлепаю по воде руками, а мама пригоршнями черпает воду и льет мне на спину, на грудь, на голову. Теплые струйки текут по телу, и мне до того хорошо, что, кажется, сидел бы тут хоть два дня.
Забыв, что бывает потом, я даже засмеялся – до того хорошо в корыте! Ясно, мама ведь хочет мне добра, она своего сына не обидит. Но не тут-то было! Гляжу – мама берет со скамеечки рядом с корытом кусок мыла. Намыливает мне голову, плечи, грудь. Потом, положив мыло на место, принимается руками намыливать голову… Пока еще полбеды. Терпеть можно. Но вот она мылит лицо, уши, шею. Хуже всего, конечно, лицо. Не только перестаешь видеть, что делается вокруг, но мыло еще набивается в глаза, а оно кусачее! Кажется, вот-вот задохнешься, и начинаешь вопить сильней, чем до купанья.
– Мама, задохнусь! Задохнусь! – ору я во все горло и так бьюсь, что чуть не опрокидываю корыто.
– Ничего, не задохнешься! – смеется мама. – И не скачи тут у меня! Всех купала, пока были малые, и никто еще не задохнулся. Неужто оставлять с грязным носом? Да и шея такая, что впору горох сеять… Хорошо ли ходить таким? И в голове, не приведи господи, еще живность заведется…
– Не заведется! – ору я, весь в мыле, и сам едва слышу свой голос.
– Заведется не заведется, а выкупаю, и все, – говорит мама. Она меня уже не мылит. Зачерпнув горстью воды из корыта, она умывает лицо, нос, рот, и я чувствую, что опасность миновала. Я больше не реву и даже смеюсь.
– Ну, не говорила я? – спрашивает мама. – Смех один! А ты уж – задохнусь!
Нет, ясно, мама у меня хорошая. Вот и теперь она больше не скребет ногтями мою голову, а льет на нее теплую воду. Вода, правда, течет по лицу, по носу, но это уже пустяки. Я больше ничего не боюсь. Мамины руки снова прикасаются к спине, к груди. Потом она ставит меня на ноги. Тетя придерживает, чтоб я не вывалился из корыта, а мама, взяв в руки тряпицу, трет мне спину. А ведь хорошо человеку быть чистым! Теперь я это отлично понимаю. Кастанция уже несет чистый рушник. Его набрасывают мне на голову, и я не вижу, кто меня вытирает. Рушник подогрели у очага, он шершавый, по это тоже не пугает.
– Бэ-э, бэ-э, – дразнит меня Забеле, вспомнив, как я недавно верещал.
– Перестань! – ругает ее мама. – Видишь, ребенок совсем не кричит. Хороший мой мальчик…
Я стою на сухой скамеечке. Мама надевает чистую сорочку.
– Мой сыночек теперь чистый и красивый, как куколка… – говорит она.
Сравнение мне не очень-то нравится, но я ничего не говорю.
РАДУГА
Впереди широкое, необъятное поле цветущего льна. В глазах синь и от неба, и от этих крошечных цветочков. Тетя побрела по льну, а я сел на меже и смотрю, как она, нагнувшись, полет.
– Печет, как на сковороде, – слышу я мамин голос. Она забралась в лен еще дальше, я ее не вижу и начинаю думать, кто и что печет на сковороде. Нет, никак не могу понять. – Послушай, вроде гроза гремит.
Тетя выпрямляет спину и, приложив ко лбу ладонь, смотрит вдаль.
– Пожалуй, и не дополем! – говорит она. – А другим разом ходить в Концы – опять целый день проходишь…
Я не понимаю, о чем они говорят, тетя и мама. Мне есть хочется, но я раскладываю камешки, которые мама принесла и высыпала передо мной.
На краю неба вдруг что-то сверкает… Немного погодя наверху грохочет, трещит, словно окованная железом телега прокатилась по небесам туда, к нашей избе.
– Нет, пора домой собираться, – слышу я голос матери. Она появляется на краю поля, поправляет передник, повязывает голову красно-зеленым платком. Снова мама кажется мне самой красивой на свете, и я, протянув к ней руки, кричу:
– Кушать, мама, кушать!
– Пойдем домой, там поешь… – говорит она и берет меня на руки. – Проголодался, мой маленький…
Бросает работу и тетя. Мы бредем и бредем по меже. Я понимаю, что домой, но за пригорками да кустами избы не видать. Мне уже кажется, что пошли не в ту сторону, но я ничего не боюсь – знаю, что с мамой и тетей не пропаду.
– Глянь-ка, а ведь не успеем, – говорит мама. – Словно ночь наползает.
Я не знаю, что это наползает. Вдруг набегает холодный ветер, шелестят тополя на меже, шумят так, что даже не по себе становится. Солнце скрывается, поля мрачнеют, а на голову падают первые капли. А мы идем и идем, все быстрее и быстрее. Мама тащит меня за руку, потом пускает вперед, но я бегу, наверно, не торопко. Тогда тетя хватает меня на руки, правда, ненадолго, – видно, я тяжеловат. Мы выбираемся на дорогу, по которой ветер крутит песчаные вихри. И тут же на дорогу обрушиваются такие хлесткие капли, что песок мгновенно оседает. Снова полыхает по всему небу молния, гром бухает рядом, где-то у нас над головой. Мама и тетя крестятся. Мы посреди поля, а туча уже прямо над нами, льет, по словам мамы, как из ведра, и у меня за воротом мокро и холодно.
Перед нами несколько высоких деревьев. Они шумят и стонут, листья дрожат и, сорванные, несутся по полю. Но вот мы уже и под деревьями.
– Спаси и сохрани, спаси и сохрани, – бормочет тетя, непрерывно крестясь и шевеля губами; так она делает, когда молится.
А ливень все бушует. Вода хлещет с неба прямо потоком. Сквозь водяную завесу не видать ни изб, ни деревьев деревни Гульбинавас, ни льна, хоть мы еще не так далеко от поля. Мама стоит под деревом, и я всем телом ощущаю ее ногу, к которой прижимаюсь изо всех сил. Мамина рука у меня на голове, и я не боюсь ничего – ни дождя, ни грозы. А дождь льет ливмя. Я смотрю во все глаза и вижу, как ниже нас на дороге бурлит только что возникший ручей, как скачут и пузырятся дождевые капли, как мутный поток хлещет с пригорка на дорогу, а с нее – вниз, на луга. Луг сразу превращается в болотце – в ложбину бойко натекает рыжая, глинистая вода, и кажется, вот-вот на пашне разольется озеро. Интересно и страшно.
Мама ничего не говорила, только гладила ладонью мою мокрую голову и еще сильнее прижимала меня к себе. Я стучал зубами – не от страха, скорее от того, что промок до костей. А дождь все клокотал и клокотал, и казалось, конца не будет тому клокотанью. Пылали молнии, с коротким страшным треском ломалось небо, словно разверзаясь над нами. Вдруг что-то резко щелкнуло, будто Пиюс бичом, и нас ослепил огненный шар. Мы испуганно присели и увидели, как раскололся тополь шагах в десяти от нас и половина его рухнула наземь.
– Господи, смилуйся! – услышал я тетины слова и увидел, что она снова поспешно и часто крестится. А мама еще сильнее прижала меня к себе.
Гроза пошла на убыль так же неожиданно, как и началась. По земле постукивали уже лишь редкие капли. Ручей, низвергавшийся с пригорка, обмелел. Но луг за дорогой по-прежнему был залит водой и под порывами ветра то и дело покрывался рябью. В воде скоро отразился клочок прояснившегося неба. Тотчас засверкало все вокруг, гроза погромыхивала уже где-то далеко над Акмянинай… Мы вышли из-под деревьев мокрым-мокрехонькие. По лицу у меня струилась вода, и от радости, что все обошлось и мы все трое живы, я фыркал и смеялся.
– Еще бы малость, и могло прямо в наше дерево… – сказала мама, снимая с влажных волос промокший платок.
– На все божья воля, на все… – сказала тетя, и ее губы снова беззвучно зашевелились. Видно, она все еще молилась.
Мы поднялись на пригорок. Отсюда среди зеленых садиков уже виднелись серые наши дома. Почему-то они страшно манили меня. Да еще мне снова захотелось есть.
– Глянь, – сказала мне мама и остановилась, – глянь, какая радуга.
Я остановился и поглядел в сторону озера. Там исполинской дугой изогнулась в небе удивительная разноцветная лента. Один ее конец, казалось, пьет воду из нашего озерца, а другой уткнулся где-то в Акмянинай, у ветряной мельницы Вайчюлиса, куда папа меня однажды брал с собой. Я тут же забыл про грозу и ливень. Сотни вопросов лезли мне в голову: из чего сделана эта лента, почему она так называется, может, потому, что дождя больше нет и мы рады… Но и мама и тетя торопились домой. Ну что ж, обо всем этом я расспрошу при случае, скажем, когда они сядут прясть лен. Тогда у них времени хоть отбавляй, и они охотно пускаются в разговоры. Я снова пошлепал впереди них босиком, скользя по глинистому проселку.
А радуга на продвинувшейся вдаль, но все еще посверкивающей, погромыхивающей туче сияла просто удивительно. Так бы и бежать к ней по лугам и пашням – хотя бы к тому ее концу, который пьет воду из нашего озерца…
КАЧЕЛИ
Мы ни минуты не сомневались в том, что это выдумка Юозаса Бабяцкаса. Того самого, что позднее переехал из старой деревни за озеро и, устроив там кузню, до конца своих лет обтягивал колеса шинами и затачивал сошники. Был он горазд на всякие затеи. И вот как-то на той круче у дороги, что ведет из Будвечяй в Скайсчяй и еще дальше – в Любавас, мы увидели нескольких мужиков. Они ходили вокруг березы, сломанной ветром в прошлое лето, и, задрав головы, сдвинув шапки на макушку, глядели на обезглавленный ствол. Береза была старая, замшелая, стояла она здесь так давно, что даже дед Андзюлявичюса не помнил ее молодой, а вот теперь торчала печальная, покалеченная, словно солдат, вернувшийся с японской войны.
И вот Юозас Бабяцкас взобрался на ствол, привязался веревкой, чтоб не упасть, вытащил из-за пояса ножовку и принялся пилить верхушку. Что он там делает? Мы прибежали босиком, но с еще красными от холода ногами по подсохшей тропе к обломанному дереву. Скоро все выяснилось. Юозас Бабяцкас, или, как мы его называли, дядя Бабяцкас, выровнял обломанный ствол и сделал на нем зарубину.
Дело было в страстную субботу, в канун пасхи, когда над всеми избами дым стоял столбом – в луковой шелухе варились яйца, а бабы и ребятишки готовили краску для писанок.
Пасха выдалась солнечная и светлая. На деревьях уже набухали почки, бледно-зеленые и нежные. По искалеченному дереву струилась белая его кровь – березовица. Вернувшись сразу после «Христос воскресе!» из Любаваса и разговевшись, чем бог послал – увы, во многих избах мясо досталось лишь больным и детям, – вся деревня, молодые и старые, собралась на обрыве. Теперь на дерево вскарабкался молодой веселый парень – работник Асташаускаса – и звонким голосом крикнул стоящим внизу мужикам:
– Давайте сюда! Не видите, что я уже наверху?
Кто-то еще полез на дерево, таща за собой целый ворох веревок. Веревки уже связаны, и работник Асташаускаса легко зацепил большую петлю, где полагалось, – так, чтобы она не соскользнула из зарубки. Вскоре сверху на веревках свисали четыре хомута.
– Кто первый? – крикнул Юозас Бабяцкас.
В один из хомутов впрягся мой отец, во второй – сам изобретатель, а в остальные два – кажется, гульбинавасский Варнагирис, который потом уехал в Америку, и вроде бы Кярялявичюс из Будвечяй, что живет у озера. Всех разбирало любопытство, что получится, но никто больше не хотел залезать в хомуты. Даже мы, мальчишки, которые, как известно, вечно наперед суются, теперь стояли, кто развесив губы, кто сунув в рот палец, и глазели на мужиков. А они примерялись, как сидится в хомуте, и проверяли, все ли прикручено, как надо.
– Не знают, что и выдумать в святой день, в самую пасху! – возмущалась наша богомольная тетя, позднее всех вернувшаяся из костела. – Греха не боятся…
– Что хы там бурчишь, Анастазия, – крикнул Бабяцкас, – иди-ка лучше к нам! Вот мы тебя поднимем – прямехонько на небеса! На землю и ворочаться не захочешь… Сажай сестру, Тамошюс!
Тетя Анастазия плюнула и, ничего больше не говоря, засеменила по тропинке домой. И тут началось самое интересное.
Когда все как следует уселись в хомутах и крепко уцепились руками за веревки, Бабяцкас дал команду, и мужики один за другим побежали кругом. Поначалу их ноги касались земли. Но вот то один, то другой повисал на миг в воздухе над крутизной, под которой шла дорога. Вдоль дороги стояли в два ряда высокие березы, тополя и липы. Даже в полдень сюда не заглядывало солнце, и, хотя тропки на склоне уже просохли и затвердели, на дороге по-прежнему была страшенная грязь. Никто не решался ходить по ней, даже телегу из этой лужи могла вытащить разве что четверка буланых барина Аушлякаса – в деревне таких крепких лошадей ни у кого не было.
И вот, затаив дыхание, я стою в сторонке от березы среди ребятишек. Хомуты вместе со смельчаками уже отделились от земли, и люди летели, не касаясь ее ногами, одни за другими. Ужас до чего интересно и чуточку страшновато! А им, видно, нравится. Быстро проносятся разрумянившиеся лица. С кого-то уже слетела фуражка. Вздымаются все выше и выше, летят все быстрее. Я слышу голоса:
– У-ха! У-ха! Эх, и летим!
– А ты еще нажми, нажми! – кричит Бабяцкас.
– Пару, мужики, больше пару! – различаю я голос отца.
На самом деле страшно, но и чертовски хочется самому влезть в хомут, схватиться за веревки и понестись кругом, кругом, слыша, как звенит в ушах ветер, видя, как кружатся избы, деревья, Часовенная горка. Да-да, и Часовенная горка, на которой стоят необыкновенно белые березы.
– Эх, ух! – кричит Юозас Бабяцкас. – У-у-ух!
– Пару, пару! – повторяет отец.
И мужики кружатся так быстро, что кажется, будто они летят как птицы, не встречая преград. А им еще больше хочется привлечь внимание всех деревенских – те стоят поодаль и не спускают глаз со смельчаков.
По небу неслись небольшие, тяжелые, еще набухшие дождем весенние тучи, но склоны Часовенной горки уже голубели подснежниками, а на солнцепеке улыбались желтые калужницы, провозвестницы всамделишной весны. Из-за туч высунулось солнце, и к нему упрямо тянулись тысячи почек, суля вскоре застлать зеленым покрывалом деревья, кусты и пажити. Сердце трепетало от радости весны, от нетерпеливого ожидания только что рождающейся, новой, никогда не виданной жизни.
А наши мужики все летели и летели по кругу. Толпа подзадоривала их, подстегивала, смеялась. Они все неслись и неслись мимо, уже кружилась голова от этого мельканья, устала вытянутая шея, и стало страшно за отца.
Но вдруг лопнула и оборвалась веревка хомута, в котором сидел Юозас Бабяцкас. И отчетливо было видно, как он с минуту летел по воздуху прямо туда, где под обрывом тянулась черная дорога, затопленная глубокой жидкой грязью, вымешанной лошадиными копытами. Летел он неторопливо, как это бывает во сне. Но сон кончился. Я услышал, как Юозас Бабяцкас всем своим грузным телом шмякнулся в грязь, аж брызнули в стороны черные струи.
Люди на круче ахнули. Вниз по косогору с воплем пустились его молодая жена и дети, а потом и все остальные.
И тут мы увидели, что Юозас Бабяцкас вылезает из грязи. Он не походил на человека, но мы знали, что это он. Живой, здоровый, только измазанный с головы до пят. Рукой он сгребал и бросал наземь грязь с лица, с глаз. И наш испуг сменился смехом. Когда жена и соседи затащили его за руки на кручу, с него все еще стекала и отваливалась комьями грязь, но бойкие глаза Бабяцкаса уже смеялись.
– Знаете, братцы, – весело сказал он, – я-то думал, что пасху допраздную у Авраама за печкой. А вот мы вроде опять встретились…
– Конечно, в нашей деревне веселей, чем на том свете, у Авраама, – сказал отец. – Верно, Юозас?
– Известно, веселей! – ответил Бабяцкас. – И молодую женушку жалко было оставить горюшко горевать, – добавил он, окончательно рассмешив всех.
Радуясь, что пасхальная затея хорошо кончилась, мы шумно проводили Бабяцкаса домой. А на его качелях всю эту весну, чаще – по воскресным вечерам, качались и взрослые и дети. Но больше никто не падал.
КОЛЕСО
О, как мы любили те зимние дни и вечера, когда отец, бывало, перенесет из сарая верстак и примется за свою работу! Вот и в этом году тоже происходило великое переселение. Отец, освободив угол в избе, сперва перенес вместе с моими братьями верстак. Потом они потащили пилы, струги, токарный станочек, я же бегал; из сарая в избу и таскал рубанки да фуганки, сверла да буравы, долота да стамески. Отец изредка поглядывал на меня, и по его глазам, по улыбке в краешке рта я видел, что моя работа ему по душе.
– Гляди, не урони в снег сверло или стамеску! Потом до весны не найдешь, а мне за зиму непременно надо колесо сработать. Каждый струмент нужен, чтоб был под рукой.
И я продолжал носить инструмент – не в охапку, а по одной штуке – один фуганок, одно долотце, один бурав.
– Ну и помощник, – посмеялся надо мной Юозас, но отец одернул его:
– Не все сразу. Пускай ребенок старается. Вырастет – будет мне помощником.
От таких слов мне еще больше хотелось помочь отцу, и я без устали бегал из сарая в избу.
Вот верстак в углу избы. Над ним висит керосиновая лампа, здесь она светит ярче, чем над столом. От множества инструментов и брусков свежего дерева изба просто сверкает. Хорошо пахнет дубом. Отец говаривал: дуб – дерево серьезное, он идет на вещи серьезные, прочные, вечные.
На печи еще с прошлого года сохнут кленовые бруски и дощечки – осиновые, березовые; не знаешь ведь, что в дело сгодится.
Отец подкручивает винты, проверяет, крепко ли зажат кусок дерева, подправляет молотком снизу струганки да фуганки, потом проводит каждым из них по доске: настраивает свой столярный снаряд, как музыкант инструменты. Работает он не спеша, даже не выпускает изо рта трубки, болтает с женщинами, часто выходит во двор и опять возвращается. Но мы чувствуем, что приближается серьезное и ответственное дело.
Отец все чаще замолкает. Он долго прилаживает хорошо высушенный дубовый брусок на станке, зажав его меж двух железных прутьев, так, чтоб выпасть он не выпал, а только вертелся. Пиюс крутит рукоятку токарного станка. Поначалу брусок аж свистит, но отец из кучи стамесок выбирает одну, на длинном черенке, с косым лезвием и, удобно приспособившись, приставляет стамеску к бруску. Дерево взвизгивает иным голосом – по правде, раньше у него и голоса-то не было, а теперь оно попискивает, захлебывается, урчит, и крохотные стружки, словно искры, далеко отлетают от верстака.
На помощь Пиюсу приходит Юозас, они крутят, запарившись, меняясь, а то и оба сразу, отец же, не отзываясь ни словом, положив на верстак угасшую трубку, упорно и крепко держит стамеску, медленно скользя ею по бруску. Неровный вначале брусок постепенно округляется. После обеда его края становятся тоньше. Потом чурку снимают с веретена, зажимают в тисках и в ней долго, осторожно навертывают буравом дыру. Дыра должна быть как раз посередине, ровная, чтоб колесо не вихлялось на оси. Но у отца глаз меткий, все он делает точнехонько. Недаром он славный на всю округу мастер.
Но ступица еще не кончена. С боков надо выдолбить четырехугольные продолговатые гнезда, в которые загоняют спицы. Гнезда должны быть одинаковыми, на ровном расстоянии друг от друга. Спицы же будут из хорошо просушенного дуба, гладко обструганные рубанком, не отличишь одну от другой. Работа кропотливая, идет медленно, хотя отец работает напористо, даже жилет расстегнул, а в избе не жарко. Работает он днем, но часто и по вечерам. Бывает, я засыпаю в своем чуланчике, а в избе все еще раздаются то тоненькое попискивание ножовки, то удары молотка, и я даже с закрытыми глазами вижу доброе лицо отца, его большие, тяжелые, но такие добрые руки.
Мама и тетя Анастазия не поспевают выметать и сжигать щепу и опилки. Под верстаком набралась высокая куча стружки. Она пахнет лесом и каким-то лекарством, хоть лекарство редкий гость в нашем доме. Стружки шуршат, а если возьмешь их в руку – тут же крошатся.
Среди стружек попадаются отличные дощечки. Мои братья, добравшись до верстака, мастерят каждый свое: Пиюс – ветряную мельницу, а Юозас – пильщиков досок. Отец, застав их у верстака, незлобиво поругивает, зачем, мол, таскают гвозди. Он держит их в очень занимательном ящичке, разгороженном на несколько отделений. В одном лежат длинные и тонкие гвозди, в другом – короткие и потолще, с большими шляпками, в остальных – еще какие-то. Мне ужас до чего хочется, чтоб Пиюс смастерил и для меня такую красивую укладочку, какую он уже сделал для Альбинаса Бабяцкаса, но у брата нет гвоздей. Я прошу гвоздей у отца, но тот смеется:
– Гвозди я покупаю. Задаром никому дать не могу. Покупайте у меня, коли приспичило.
Долго я ломаю голову, откуда достать денег. На помощь приходит мама. Когда отец отдыхает после работы, вытянувшись на лежанке, она вынимает у него из кармана кошелек, вытаскивает оттуда копейку и дает мне. Зажав в кулаке эту копейку, я бережно, будто драгоценность, несу ее папе. Он берет копейку и серьезно говорит:








