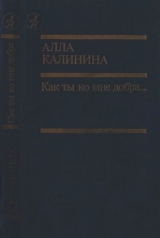
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 40 страниц)
Мама все глядела на него искоса, испуганно и отчужденно, она хотела еще что-то сказать, что-то важное и убедительное, но передумала и вышла из комнаты, осторожно притворив за собой дверь.
Роман снова погрузился в работу. За это время он написал две статьи и отправил их в центральные журналы. Шеф долго держал статьи, цеплялся к каждому слову, придирался и правил, но Роман видел, что статьи ему понравились, даже очень понравились, и он просто заново и гораздо серьезнее, чем раньше, присматривается к нему. Та мысль, с которой Роман возился последнее время, начинала проступать как новая идея и, возможно даже, новое направление в его исследованиях. Это уводило его в сторону чистой теории, но было захватывающе интересно и волновало перспективами, в которые страшно даже было верить. Будущее, то, что должно было случиться потом, было слишком прекрасно.
Глава 10
За высокими стенами казармы, за тяжелыми воротами, у которых расхаживал очередной стриженый часовой из новеньких, тоже бежало и бежало время, такое однообразное и незаметное для Жени Елисеева, что казалось – ничего и не изменилось вовсе. Но менялось многое. Недавние мальчики становились мужчинами, забывались шалости, проступали конфликты, назревали проблемы, которые надо было решать по-новому, жестко и бескомпромиссно. Скоро уже должны были присваивать им звания и рассылать по гарнизонам во все концы страны. В последний раз в курсантской своей жизни ехал Женя в отпуск к родителям.
И теперь уже смешным и маленьким казался ему родной городок, и знакомый овраг смущал его своей трогательной неуместностью и щемящей запущенной красотой, и домик стоял на своем месте, и рядом с ним тот же старый тополь со скворечней, та же изгородь уползала вниз, и вдруг подумалось Жене, что, может быть, он навсегда сросся с косогором, этот дом, всегда был здесь и всегда будет. Женя стоял у калитки на зеленой неезженой улице, пытаясь справиться с волнением, которое нахлынуло на него не оттого вовсе, что приехал он домой, а оттого, что понял вдруг, как близка разлука, как скоро станет этот вечный домик далекой неразличимой точкой его воспоминаний, как огромен мир, в который он скоро должен уйти. Он очнулся и толкнул калитку, поднялся на глухое крыльцо, отворил дверь.
– Смотри-ка, Женька! – сказал отец и качнулся ему навстречу. Он был пьян.
– Что это ты спозаранку? – сердито нахмурился Женя и слегка отстранил отца от себя. – А мать где?
– Да вот же я, сынок! Родную мать не заметил?
Она и правда стояла рядом, тихая, маленькая, постаревшая, темные круги под глазами, жесткие складки у рта, на лбу – вот оно, время.
– Знаешь, Женя, – сказала мама, приникая к нему, – а мы ведь бабушку вчера схоронили, вот какие дела.
– Не дождалась она тебя, – язык у отца заплетался, тяжелел, – все говорила: «Приедет мой охвицерик, внучок мой Женичка, я его ростила…» А ты не ехал все, – добавил он с упреком.
Женя насупился: а он и не знал об этом и так плохо, так случайно помнил бабушку, он только и помнил в деревне, что своего дружка Ваську Новского. А бабушка-то, оказывается, его растила, и правда, наверное, так оно и было. Сколько же нужно всего человеку, чтобы вырасти, сколько людей, и вещей, и событий, что он их и охватить-то не может. Он ничего не чувствовал, только печаль да легкую обиду, что вот он приехал домой, подтянутый, крепкий, взрослый, а его вроде никто и не заметил, не до того им было, а он не мог разделить их горя. Вот что значило быть взрослым, они уже жили каждый в своем, каждый сам по себе. Но и это была только половина правды.
Мать накрывала на стол. Женя смотрел задумчиво, как она двигалась по комнате, как летали ее руки, как, потянувшись, открывала она дверцы буфета, и самого себя словно видел он со стороны, как он смотрит, как вешает китель на спинку стула, – в этом была их связь, в общей памяти на все эти мелочи, известные только им и только для них важные. Вот что значит быть дома. Но где он будет скоро – его дом? Куда его пошлют, с кем разделит он свою судьбу, с кем заведет свой, новый счет домашних мелочей, которые будут потом держать в памяти его дети? А будут ли его дети помнить и любить его мать? Или даже не заметят ее смерти, так же как он не почувствовал смерти своей бабушки… Такая странная начиналась жизнь.
И отпуск получался неудачный. Женя валялся дома, скучал, видеть никого не хотелось. Иногда он остро жалел, что не поехал вместо всего этого в Москву, к Тане. Но неписаный солдатский закон требовал в отпуск являться домой, и он знал, что это правильно, то, что он приехал сюда. Пока… пока это еще его дом.
Мать тоже мучилась, занятая какими-то своими заботами, они о чем-то тихо и много говорили между собой с отцом, и только перед самым отъездом узнал Женя, что и для родителей его наступал в жизни перелом.
– Вот что мы надумали, сыночек, – сказала мама, подсаживаясь к Жене на диван, – а ты послушай и скажи свое мнение. В деревне сейчас полегче стало, хотим мы туда подаваться на старость насовсем. Отец твой так хочет, и я не против. Что ты нам на это скажешь?
– Я-то? – удивился Женя. – Чего ж я скажу? Езжайте, раз решили.
– Значит, твоих возражений не будет?
– А чего же мне возражать? Все равно я уеду скоро.
– Вот и я думаю. Зачем тебе дом-то? Продадим да поедем.
– Продадите дом? – Женя сглотнул, сердце его неожиданно сжалось такой отчаянной болью, что стало ему душно. Так вот к чему были все эти странные грустные мысли, он предчувствовал разлуку, он ощущал ее в воздухе, он ею дышал. Снова увидел он себя стоящим у калитки на зеленой травянистой улице. Значит, скоро в вечном домике на склоне оврага будут жить другие люди. И черемухи, ивы, и липы, и тополь со скворечней, и весь городок – все будет уже чужое, навсегда!
– Ну что ж, – сказал он, помолчав, – вам виднее, как лучше.
– Нам-то иначе никак не поднять хозяйство, – сказала мама, – дом-то у бабушки совсем плохой, того гляди свалится, крышу надо перекрывать, двор прогнил.
Отец молчал, он был совсем трезвый, взвинченный и все ходил, ходил по комнате, останавливался у окна, поворачивался, снова ходил и вдруг сказал хрипло:
– Ты уж прости нас, Женька.
А мать заплакала.
– Да что ты, батя, – принужденно улыбнулся ему Женя, – ваше же все, мне ничего не надо. Уеду к месту назначения – все равно женюсь, обзаводиться мне нечего, у нашего брата жизнь казенная.
– Женишься? Смотри! Что ж, и невеста есть? – грустно спросил отец.
– Есть, – пожал плечами Женя и достал из чемодана Танину карточку.
– А матери-то ни полсловечка, – упрекнула мама.
Они осторожно брали карточку, осторожно передавали другу другу.
– Издалека? – спрашивала мама.
– Нет, она в Москве живет.
– Вона! Где ж ты с нею познакомился-то?
– Да так вышло, – замялся Женя.
– Молоденькая. Ну вот и ладно, будете детишек к нам присылать на молочко парное.
Женя слушал, странно это было, он ведь никогда об этом не думал, а сейчас вдруг решил – правильно, так все и будет. Чего ж еще-то ждать? Надо строить свою жизнь. Нельзя человеку без этого, пора.
Он уезжал из отпуска на два дня раньше, не дотерпел. Отец договорился с соседом-шофером, который гнал грузовик в областной центр.
Женя вышел на улицу ранним летним утром с тощим вещмешком на плече. Даже на память нечего ему было взять из дома, только последний взгляд на зеленые клубы ив, на кривую изгородь, уходящую вниз, на родной свой домишко и родителей, понуро стоящих у скрипучей калитки. Он легко прыгнул в кузов, сел на ящик, и, подпрыгивая на колдобинах и держась за борт крепкой загорелой рукой, жадно смотрел, как в клубах пыли уносится назад его родной городок, почта, магазин канцелярских принадлежностей, темная резная старинная школа, грязная автобусная станция, кирпичная больница вдали возле парка, и они выехали на шоссе – навсегда.
И все уже было другое – густые леса с далекими таинственными просеками, березовые ясные опушки, мост через Клязьму. Впереди над дорогой сгущались тучи; ветер, жестко хлеставший его, вдруг стал пронзительный и острый, и ясная белесая лента шоссе впереди зарябилась первыми каплями дождя.
Шофер подал к обочине, высунулся из кабины.
– Женьк, – крикнул он, – давай сюда, вымокнешь!
Женя упрямо потряс головой.
– Все в порядке, – отмахнулся он, – солдату непогода не страшна. Дуй, Коля!
Черт его знает почему, но он не мог сейчас в кабину. Прощание с домом, новое пронзительное одиночество, ненужная сейчас мучительная свобода – вот что терзало его, вот к чему он должен был привыкнуть здесь, наверху, под теплым дождем и ледяным, воющим от скорости ветром.
Он замерз, зубы его стучали, пальцы побелели. Он стоял теперь, глядя вперед, накинув тяжелую от дождя шинель; по лицу его текла вода, а он все не мог, не мог отвести глаз от темной блестящей дороги, болот, пузырящихся дождем, темных угрюмых лесов, хмурого неба. Он не подозревал, какой долгой памятью обернется для него этот дождь, как страшно вторгнется он в его будущую жизнь.
Пока он только чувствовал, что продрог до костей. Он долго колотил по крыше кабины, пока Коля его не услышал и не пустил к себе.
Вечером в казарме стало ясно, что Женя заболел. Его ломало, крутило плечи, локти, кисти рук, тянуло ноги, горло распухло, стало тяжело глотать.
– Ангина, – сказала ему докторша в санчасти, – да еще какая махровая! Где же это ты, Елисеев, умудрился среди красного лета? Належишься теперь. Шум у тебя в сердце какой-то нехороший.
– Ерунда, – с трудом просипел Женя, – меня никакая болезнь не возьмет, я жилистый.
Но встал он не скоро. Он исхудал, еще недавно такая ладная форма болталась на нем, узкие серые волчьи глаза потемнели и ввалились на бледном скуластом лице, волосы смешно по-деревенски отросли.
«Пугало», – скупо улыбался сам себе Женя, глядя в большое зеркало в просторной белой умывалке. Ему запретили спортивные и строевые занятия, и теперь он часто оставался в казармах один, рылся в библиотеке, много читал, слонялся по красному уголку, писал Тане длинные смешные покровительственные письма про свою жизнь и про товарищей. Больше писать ему было некому. Про родителей он знал, что они переехали в деревню, строятся, обзаводятся хозяйством. Васька Нос из деревни уехал, и они ничего о нем не знали. Писал Жене, как всегда, отец, коротко, суховато, по делу, и отвечать ему было легко – полстраницы исчерпывали все, к чему он проявлял интерес. Но, написав это обязательное коротенькое послание, Женя чувствовал тоску, разочарование и одиночество, и от него надо было спасаться работой, шуткой или хотя бы мечтами о будущем. А будущее это рисовалось упрощенно и ясно, как на детском рисунке. Уже несколько его товарищей вернулись из летних отпусков женатыми, таинственными и счастливыми, у других были невесты; все говорили о том, что ехать к местам назначений лучше уже с семьей, и солиднее, и легче устраиваться; и все отчетливее понимал Женя, что судьба его вот-вот решится почти без его участия, и то, что в тоске расставания с домом и с родным тихим городком выдумал он для успокоения родителей, обернется для него серьезным решением, выбором без выбора, который потом уже нельзя будет изменить. Он знал, что не любит Таню, он никогда еще никого не любил. Но ведь ему было уже двадцать два года, чего он мог ждать еще? И надо было кончать с мечтами и начинать наконец жить, как положено человеку, мужчине, без шуток, в полную силу и всерьез.
Глава 11
– Ну, мои дорогие, – сказал Логачев, оглядывая всех сквозь блестящие стекла очков, – пусть этот Новый, пятьдесят третий год будет счастливым и принесет всем нам много-много радости, пусть мы все будем здоровы…
Он был веселый и очень молодой в новом черном костюме с запотевшим бокалом шампанского в руке.
Вета пила шампанское в первый раз, оно перехватило дыхание, ударило ей в нос, защипало, а потом внутри стало тепло, сладко и очень приятно. А как только она поставила бокал, раздался телефонный звонок. Она выбежала в коридор и прижала к уху тяжелую трубку.
– Вета, дорогая, с Новым годом, – услышала она голос Романа, – с новым счастьем!
– И вас тоже, – сказала Вета; ей показалось, что сейчас все можно и даже нужно говорить, и она говорила торопливо и путано, сама не слыша себя: – Пусть у вас все будет хорошо, и пусть в этом году вы будете вспоминать обо мне чаще. Ведь это глупо, что мы сейчас не вместе, правда? Пусть все-все изменится… Вы слышите меня?
– Да, – сказал Роман.
– И позвоните мне скорее…
– Хорошо. Вот я звоню вам…
Она так давно не слышала его смеха, высокого, сдавленного и счастливого.
– Нет, – сказала она, – нет, не так. Не так. Раньше вы совсем по-другому говорили со мной, все было по-другому. Или вы забыли?
– Я ничего не забыл, – сказал он шепотом. – Я уже давно-давно жду вас.
– А я вас, – сказала она. – Я жду, жду, жду, и мне уже надоело ждать.
– Мне тоже, – сказал он. – Я целую вас.
– Да, – выдохнула Вета, – да-да-да!
– С Новым годом, моя девочка!
– Да! С новым счастьем!
И раздались частые гудки.
Она влетела в комнату, налила себе полный бокал и выпила единым духом. Ей стало жарко.
– Роман? – спросил папа.
– Конечно, Роман, Ро-ома-ан! – пропела она и закружилась по комнате. – Роман. Ведь мы любим друг друга! И все равно я выйду за него замуж.
– Ну до этого еще надо дожить, – вставила свое мнение Ирка.
– А по-моему, за это надо выпить, – сказал папа, – надо выпить, раз выяснилось, что моя дочь собирается замуж.
– Надо, – сказала Вета, – но я уже больше не могу, у меня голова кружится. – Она смотрела на папу, как он обнял маму за плечи, они оба были такие молодые и веселые. И в затуманенном Ветином мозгу навсегда отпечаталось это мгновение, их смеющиеся лица, движение руки, блеск папиных очков. Больше никогда уже Вета не видела его таким. Никогда.
* * *
Вокруг Логачева происходило что-то, чего он не понимал, что просто не укладывалось в его голове. Какая-то никому не известная доктор Тимошук обвиняла врачей в массовом вредительстве, и ей почему-то поверили. В газетах черным по белому писали об убийцах в белых халатах. Прошла волна увольнений, всюду появились агенты «Джойнт», тяжелые больные выписывались из больниц, шарахались от врачей, скандалили и писали доносы.
Но самое страшное произошло вчера. Кузьмин исчез еще на той неделе. Это было невозможно, непостижимо, это могло случиться с кем угодно, только не с ним. Логачев еще надеялся, что произошла ошибка, что старик заболел и отлеживается где-то, но вчера его, Логачева, вызвал проректор и, не глядя ему в глаза, предложил временно исполнять обязанности Кузьмина.
– Вы же понимаете, – сказал он, роясь в ящиках стола, – клиника должна работать.
– Но в каком положении окажусь я, заняв его место?
– Временно, – сказало начальство, – временно, Алексей Владимирович. Я надеюсь, вы меня поняли?
Он понял. Он давно все понимал, но не имел мужества додумать до конца.
Он кинулся звонить жене Кузьмина, но она не захотела его принять.
– Я знаю, – сказала она, – от этого ничего не меняется, больные ни в чем не виноваты, и кто-то должен оперировать. Просто вам доверяют.
– Анна Акимовна, это недоразумение, поедемте вместе в министерство.
– Я была в министерстве, – сказала она, – я везде была. А вы не тревожьтесь. Василий Васильевич вас очень ценил.
Это прозвучало страшно, и он вдруг понял и услышал, что она плачет.
– Я приеду… – сказал он.
– Нет, пожалуйста, не надо. Я очень устала. Очень-очень устала.
Как просто, оказывается, все уничтожить, разрушить построенное трудом, талантом, всей жизнью человека…
Он метался по знакомым, пытаясь найти любых людей, которые могли бы помочь. Везде было глухо. Логачев не спал ночами, худел, стыдился себя. Что он мог сделать? За Кузьмина он готов был положить правую руку, но никто не хотел знать его мнения.
А потом уволили его ассистента Витю, без ведома Логачева, хоть он и принял на себя позор быть завкафедрой вместо Кузьмина. Витя в клинике не появлялся, зато примчался его ближайший друг Володя и бахнул Логачеву на стол заявление «по собственному желанию».
– В знак протеста? – устало спросил Логачев. – А больные?
– А черт с ними, с больными. Пойду мести улицы. Не все же могут так, как вы…
– Не все, – кивнул Логачев, – это верно. – И написал на заявлении своим мелким четким почерком: «Возражаю. А. Логачев».
Он отодвинул от себя листок и выпрямился на жестком стуле. Ему было душно, сжимало горло, язык и челюсти ныли.
– Идите готовить больных на завтра, – сказал он, не понимая, что делается с Володиным лицом, почему оно такое белое и куда ползет, поворачиваясь у него в глазах. Он не чувствовал, что лежит на полу. Боль наплывала медленно и сильно. И только она одна оставалась, а все остальное было гадко и неважно и не имело к нему отношения.
Инфаркт у Логачева был обширный и тяжелый. Его выхаживали долго и с большим трудом, ночи напролет товарищи дежурили у его постели, но у него развилась аневризма, и дела его оставались плохи.
Трогать его было нельзя, и он по-прежнему лежал в своем чистом, пустом и голом кабинете и смотрел в высокое окно, через которое ничего не было видно, только небо, белесое холодное зимнее небо, но когда оно начинало наливаться мутной синевой, чернеть и глохнуть, он с тоской ощущал, как важен для него даже этот бледный безрадостный свет, и, лежа длинными бессонными томительными ночами, он ждал как спасения той поры, когда окно начинало все явственнее проступать в черноте кабинета и постепенно за закрытой дверью возникало знакомое во всех мелочах деловое, но еще сонное больничное утро, хлопали двери, слышались шаги, звякала посуда, простуженными голосами переговаривались сестры. Это означало еще один день жизни. Он много думал. Думал о работе, обо всем, что произошло, думал о детях, но больше всего о себе. Всю свою жизнь он прожил в твердой уверенности, что говорить о себе, заниматься собой дурно и стыдно, он был человеком долга, и позади была война, были больные, напряженная, все поглощающая жизнь хирурга, а ведь это не только искусство, это тяжелый физический труд, без разбора дня и ночи, праздников и будней, нескончаемые усилия, не знающие предела, и громадность ответственности. Лежа долгими ночами на жесткой больничной койке, он понял, что ошибался, думая, что все еще впереди; время подступило вплотную, прижало так, что неизвестно, будет ли завтра, доживет ли он до той поры, когда заголубеет высокое пустое черное окно. Время – вот чего он никогда не понимал, а сейчас оно единственное имело значение, время, которое у него еще оставалось на все-все, чего он не успел, и это время полно было одышки, неожиданных подскоков температуры, страха, мучительного ночного одиночества, но и надежды, и страстных клятв самому себе, и бесконечной нежности к этому слабому серому зимнему свету и к этим белым мухам, которые сегодня все гуще кружились за стеклом.
Принесли завтрак – тарелку дымящейся манной каши с желтой блестящей лужицей подтаявшего масла посередине и стакан чая, крепко пахнущего веником. Сестра зажгла свет, и сразу окно стало далеким и сиреневым. Он пытался есть, но есть не хотелось, его мутило, он с трудом выпил несколько глотков чая и снова лег. Он никогда не знал, что это так тяжело – лежать в больнице. Снег все валил, и переплеты рамы уже обвело толстым валиком, серым и пушистым, как беличий мех.
Потом пришел Володя. Он сел возле его постели и сделал вид, что не спешит.
– Ну, как дела? – спросил он тем глупым фальшивым голосом, которым излишне сердобольные врачи разговаривают с тяжелыми больными.
– Хорошо, Володя, – ответил Логачев. – Сегодня я немного поспал, и температура почти нормальная.
Он поймал себя на том, что ему хотелось говорить о себе. Он понимал, что это глупо. Володя не был его лечащим врачом, его вели терапевты, но он не мог удержаться. Он говорил и говорил. А Володя терпеливо слушал. Между ними установились новые отношения: виновато-преданные со стороны Володи и нежные, полные доверия, но и ревниво-требовательные со стороны Логачева. Как изменился Володя за это время! Он остался сначала ухаживать за Алексеем Владимировичем, но постепенно впрягся в работу. Собственно, ему повезло. Никто теперь не стоял за его спиной, никто не держал его за локоть, и он полной мерой вкушал опьяняющее счастье хирургической свободы. Он работал с наслаждением, не боясь и все наваливая на себя ответственность, ему и в голову не приходило, что он делал именно то, в чем совсем недавно так страстно обвинял своего учителя. Потому что теперь, когда это касалось его, это имело совсем другой смысл. По молчаливому договору он ничего не рассказывал Логачеву о работе, о больных, и Логачев был этому рад, он не мог сейчас думать о других, он был занят собой.
– Вам ничего не нужно? – спросил Володя, косясь на часы. – А то мне в операционную.
– Погаси свет, – попросил Алексей Владимирович, – и, знаешь что, подвези меня поближе к окну…
– Кокну? – удивился Володя. – Пожалуйста. – Своими худыми жилистыми руками он легко повернул тяжелую кровать на скрипучих колесах, толкнул и уткнул ее в другой угол. Ему это ничего не стоило – сдвинуть кровать, подойти к окну, сбежать по лестнице, крестом бухнуться в сугроб, в пушистый, нежно сминаемый глухой снег.
А Логачев, он уже никогда не побежит, но зато теперь он видел в окне дерево, вернее – его верхушку, голые смерзшиеся ветки старого тополя с длинными пустыми еще и вялыми почками.
– Все, спасибо, – сказал он, – иди, Володя. У меня все в порядке.
И Володя ушел, а он остался в пустой палате ждать обхода и думать. Он думал о том, что, пока можно видеть хотя бы верхушку дерева в окне, пусть даже пустое окно, жизнь еще не кончена, она еще имеет смысл, за нее еще стоит цепляться.
А потом пришла Вета. Она была высокая, румяная, взрослая и почему-то без халата. Она принесла завернутые в бумагу цветы, а глаза у нее были очень светлые, зеленоватые, тревожные и уклончивые. Логачев смотрел, как ее тонкие пальцы нервно раскатывали бумагу и на свет появилась ветка мимозы. Цветы были в том совершенном расцвете, который и продержаться-то может всего несколько часов, когда желтые невзрачные шарики так свежи и распушены, что сливаются в воздушное соцветие и пылят, издавая сладкий огуречный запах, а серебристая тонкая листва еще мягка и не шуршит. Логачев радостно и жадно потянулся к цветам глазами, но Вета уронила их на тумбочку, скомкала бумагу и решилась:
– Папа, я сейчас стояла в очереди… Там говорили… ты слышал?
– Что? – спросил он испуганно. – Что случилось?
– Сталин, – сказала она. – У тебя есть радио?
И в эту минуту где-то в коридоре на полную мощность рявкнул репродуктор. Послышался топот бегущих ног. Передавали бюллетень о состоянии здоровья… И Логачев с тяжелым стеснением в груди почувствовал, что в этот момент с болью и скрипом поворачивалась история его страны, может быть всего мира, и что время – это что-то огромное, гораздо большее, чем он в силах сейчас понять.
* * *
Вета шла по улице в толпе, она всех давно потеряла. Воздух над бульваром был сиреневый и странный от горящих где-то костров. Они то бежали, спотыкаясь и растянувшись по улице, то вдруг останавливались, и тогда от сгущения людской массы делалось жарко и страшно. Где-то сзади вспыхнул истерический нервный смех. Вета оглянулась, она видела смеющиеся лица, а глаза были тоскливые и испуганные. Какие-то трое перетаскивали через заборчик бесчувственное тело женщины, ее положили на бульваре прямо на снег, хлопали по щекам, и никого это не удивляло.
Зачем они шли, Вета не знала. У нее не было любопытства или желания увидеть его мертвым. Просто она испытывала потребность быть в этот день со всеми, на улице; сама не понимая того, впервые в своей маленькой еще детской жизни она по-настоящему ощущала причастность к своему народу, его истории, общность их судьбы, она была как все и вместе со всеми, и как для всех этот день должен был что-то изменить и перевернуть, так и для нее. Улица впереди оказалась перегороженной грузовиками, а за машинами виднелся колышущийся строй солдат.
Толпа остановилась и стала угрожающе уплотняться. Было уже совсем светло. По-прежнему тягуче и мрачно неслись над бульваром унылые марши. Вету прижало к стене дома. Она уцепилась за решетку, ограждающую подвальное окно. Кто-то лез уже выше на подоконник, вжимаясь в оконную раму; казалось, над головой вот-вот лопнут и посыплются стекла. Серо-черная мерзлая, колыхалась внизу траурная толпа. И вдруг окно сверху распахнулось. Парень в кепке, висевший над нею, протянул ей руку.
– Лезь сюда, – сказал он, – нас выпустят во двор. – Он рванул ее вверх, она спрыгнула в тишину и сумрак чужой комнаты, кто-то проводил их по длинному пустому коридору, за ними еще и еще молча двигались люди.
Она шла дворами. Странная была Москва, пустая, угрюмая, обездвиженная, только все тянулась откуда-то издали траурная музыка да гуськом перебегали улицы молчаливые и потерянные черные фигуры.
Мама открыла ей дверь. Лицо у нее было перепуганное и бледное. Но она ничего не сказала, а почему-то стала стаскивать с Веты пальто, словно она была маленькая.
В столовой Ирка, сгорбившись, сидела за пианино и играла гаммы.
– Ты что? – удивленно спросила Вета.
– Ничего, – угрюмо ответила Ирка, – потому что у меня завтра урок.
– Знаете что, – попросила Вета, тоскливо оглядываясь вокруг, – поедем к папе. Что он там один!
И мама тут же молча стала собираться, и Ирка тоже с грохотом захлопнула пианино и встала.
– А мы доберемся, Вета? – спросила мама тихо.
– Туда доберемся.
И вот они уже шли, тесно сбившись в кучку, зябко подняв плечи, им хотелось быть вместе, всем вместе.








