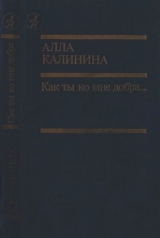
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 40 страниц)
Глава 11
В том, чтобы работать по двенадцать часов в сутки, не было никакой необходимости. Елисееву это просто-напросто нравилось, нравилась тишина в клинике, когда разбегались поденщики-торопыги, нравился особый больничный уют с запахами лекарств и кухни, с желтым светом, тускло отраженным в мокром от вечерней уборки, покоробленном линолеуме, с успокоившимися, притихшими больными. Он еще раз не спеша обходил своих больных, сначала в реанимации, потом в палатах; сидел, задумавшись, на краю постели, задавал вопросы, слушал, щупал осторожно, едва прикасаясь пальцами. Нужды в этом не было, но он так привык, это нужно было ему, ему так нравилось, он успокаивался, добрел, копил в себе самодовольство, что вот ничего не забыл и не упустил. Смотреть больных, приготовленных на завтра, не имело смысла, они уже получили предоперационную подготовку и спали, но он все равно заходил и к ним; улыбаясь, смотрел в их влажные лица. Соседи шептались между собой: «Вот ведь какой внимательный!» А он думал о своем, каким завтра пойдет доступом, с чего начнет и чем кончит, на чем особенно надо фиксировать внимание. Потом кто-нибудь из больных непременно ловил его в коридоре, тревожно, тайно задавал вопросы, заглядывал в лицо, и Елисеев отвечал не торопясь, но непременно сохраняя во взгляде улыбку, чтобы можно было вывернуться, если больной уж очень пристанет, совсем не все им надо было знать; больше того, он был уверен, что им не надо говорить ничего. Чем меньше они будут знать, тем лучше для них, меньше поводов для фантазий и страхов, больной должен доверяться врачу слепо, не спрашивая и не проверяя его, с такими больными легче работать, путаные же их знания неизбежно рождают сомнения, а сомнения разъедают все – и души, и раны.
Потом Елисеев возвращался в опустевшую ординаторскую, садился на продавленный замызганный диван и вздыхал с удовольствием и облегчением. Немедленно являлись сестры, оживлялись, начинали хлопотать, громко смеяться и вертеться по комнате.
– Евгений Иванович, чаю?.. Евгений Иванович, а у меня сегодня котлеты такие вкусные!.. Евгений Иванович…
Его имя звучало гораздо чаще, чем в этом бывала нужда, и это тоже ему нравилось, хоть он и не показывал вида и даже себе в этом не признавался. Сестры любили его за то, что был он сдержан и солиден и никого из них не выделял особо, но больше всего – за то, что он не торопился домой, это сближало их, рождало неясные романтические мечты и странным образом накаляло, взвинчивало обстановку в ординаторской. Особенно это чувствовалось, когда дежурила Нина, неизменная его соратница и поклонница, про которую умудрилась дознаться даже равнодушная ко всему Лиза. Елисеев тогда не соврал ей, у них с Ниной действительно никогда ничего не было, ничего, кроме того, что Нина вот уже несколько лет продолжала осаждать его своей затянувшейся, ставшей притчей во языцех любовью. Но и к этой любви тоже Елисеев привык и, если бы однажды заметил, что Нина к нему переменилась, наверное, был бы огорчен и обижен не на шутку. Нина как бы стала его собственностью, а дни ее дежурств – торжеством его богдыханской власти. Нина стирала и наглаживала его халаты, кормила его, развлекала музыкой и разговорами, сдавала в ремонт его тапочки, бегала за газетами и выхаживала его больных, как собственных родственников. А он принимал все это как должное и не отвечал ей ничем, почти ничем. Нине исполнилось уже двадцать четыре года, она была маленькая, курносенькая, серенькая, но фигурка у нее была точеная, круглая, ладная, ноги крепкие, и вся быстрая-быстрая, верткая, ловкая, про таких говорят: с лица не воду пить. Да и не так уж плохо было у нее личико, только простовато и как-то небрежно, без отделки, сработано. И, словно понимая это, Нина и сама не пыталась его украшать: губы не красила, волосы не накручивала, а причесывала гладко и закладывала за маленькие ушки, в которых болтались две слезки из искусственного жемчуга. И получалось все мило, хоть на самом деле влюбляйся, но Елисееву это было ни к чему. Он и так всем был доволен. Заглядывал в ординаторскую дежурный врач, и за чаем они снова перебирали все дела и новости, а потом Елисеев раскладывал свои бумаги и часа два еще занимался.
После защиты диссертации делать в ординаторской по вечерам стало совсем нечего, но и отказаться от своей свободы Елисеев уже не мог, все равно сидел. Иногда звонил по телефону своему сыну Юрке. Они давно уже не виделись. И похоже было, что видеться им теперь уже было незачем. Юра отвечал на вопросы Елисеева угрюмо, односложно. Голос у него стал взрослый и совсем чужой. Но Елисеев делал вид, что не замечает этого, потому что, если бы он заметил, хрупкие их отношения могли бы прерваться вовсе, и тогда он почувствовал бы себя виноватым в том, в чем на самом деле вовсе не был виноват, и объяснить это Юрке было бы уже невозможно, он дал бы сыну основание не только дуться на него, как дулся он сейчас неведомо почему, но и возненавидеть его за какое-нибудь случайное резкое слово. И он терпел, веселым голосом болтал глупости, потом осторожно опускал трубку на рычаг.
В ординаторскую изредка заходили коллеги, улыбались, кто с удивлением, а кто и с подозрением и непонятной игривостью. И вдруг стала все чаще заглядывать к нему и засиживаться в ординаторской еще одна женщина, Римма Григорьевна Зайцева. Это было уже совсем неожиданно и странно и в то же время совершенно очевидно: она искала именно его, Елисеева, и даже не пыталась этого скрывать.
Римма Григорьевна была красавица, первая женщина в отделении, а может быть, и во всем институте, балованная, богатая, генеральская дочь и жена генерала. Была она, правда, уже не первой молодости, лет тридцати восьми, а злые языки прибавляли и больше, но она была еще хороша, одевалась броско, по последней моде, на пальцах у нее и в ушах всегда сверкало что-нибудь такое, что другие женщины, встречая ее в коридоре, выворачивали шеи и начинали спотыкаться. Но Елисееву-то все это было безразлично, Римма Григорьевна ему не нравилась. К тому же была она близка к начальству, из кабинета завотделением не вылезала и могла влиять на многие события, и это тоже было ему не по нутру. Он понимал, что она ошиблась, приняв его за ловца, ищущего приключений, а кто он был на самом деле? Скорее всего – праздный гуляка. Но в этом не хотелось ему признаваться, и бегать от нее было смешно, и вот он сидел рядом с нею на диване и вел скользкие, рискованные, глупые разговоры, вдыхал запах каких-то невероятно горьких и терпких духов и искоса посматривал на нее. Она была тонкая, худая той изысканной модной худобой, ради которой девчонки теперь замаривали себя голодом, лицо у нее было удлиненное, и голубые глаза не такие бледные, прозрачные, как у Лизы, а яркие, выпуклые, полуприкрытые тяжелыми веками с длинными, густо намазанными ресницами. Цвет волос у нее изменчив. Елисеев помнил ее и яркой блондинкой, и русой, и даже шатенкой с медно-красным отливом, но сейчас она вдруг стала золотистой, темно-медовой, и это действительно было красиво, и даже временами казалось Елисееву, что вот этот цвет и есть ее, натуральный. Но какое все это имело значение, он не был расположен к флирту, он его только терпел, стараясь не подавать Римме никаких надежд, а на самом деле распалял ее все больше и больше.
Сестры по-прежнему влетали в ординаторскую, но, покружившись, исчезали с деловым видом. Нина бледнела, смотрела на Римму с ненавистью, но Римма пересиживала всех, а потом со вздохом придвигалась к Елисееву и говорила насмешливо:
– Ну, королевич Елисей, вот мы и остались наконец одни. Вы ведь, кажется, хотели мне что-то сказать?
– Что же я могу сказать тебе, Риммочка? – в тон ей отвечал Елисеев. – То, что ты самая красивая женщина института, ты знаешь и без меня, а что я равнодушен к красоте, наверное, уже догадалась…
– Нет, Женечка, ты к красоте не равнодушен, неправда. И остался ты только из-за меня.
– Не понимаю, чего ты, собственно, от меня ждешь? Я человек маленький и для тебя совершенно не эффектный, стоило ли на меня менять самого Николая Николаевича?
– Женя, это сплетни! Я ведь понимаю, что ты нарочно меня дразнишь.
– А я понимаю, что ты шутишь…
Он лениво поднимался и начинал собирать портфель, идти домой не хотелось, но надо было.
– В конце концов это грубо! Ведешь себя как мужлан какой-нибудь…
– А я и есть мужлан, ты меня, видно, с кем-то спутала.
Каждый раз он надеялся, что Римма больше не придет и этот глупый роман завянет, не начавшись, ведь вся эта болтовня, в сущности, ничего не стоила, здесь так было принято, все говорили все, что взбредет в голову, это были издержки хирургической профессии. Слишком просто решались здесь вопросы жизни и смерти, слишком легко совлекались с людей всяческие покровы – и искусственные, и естественные; рядом с их кровавым ремеслом жизнь казалась такой простой, что придавать такое уж большое значение словам не стоило. Но проходило несколько дней, и Римма являлась снова, еще элегантней, еще ослепительней. «Чистюля чертов, – говорил себе Елисеев, – а почему бы тебе действительно не завести с ней что-нибудь эдакое? Вот же сама напрашивается. Красивая женщина, не так уж много тебе всего этого досталось в жизни…» Но он не мог, она не нравилась ему, и что-то унизительное усматривал он во всей этой странной ситуации, и не хотелось поганить место, где он работал и был счастлив. О Лизе он думал меньше всего, где-то в глубине души теплилось у него ревнивое чувство, что в грехах он ей задолжал, первый брак его был бессмысленным и жалким, в сущности он не знал любви, да и есть ли она вообще на свете, эта любовь? Лиза? Да, он любил ее, конечно, но это было что-то спокойное и ясное, лишенное волнения и греховности, что-то слишком житейское, чтобы претендовать на такое высокое звание. Иногда по ночам он пытался представить себе на месте Лизы Римму, но ничего, кроме легкого любопытства, больше похожего на гадливость, он не испытывал. Нет, Римма ему не подходила, да и старовата она была, даже старше Лизы. И все-таки именно с ней это однажды случилось.
Он дежурил. Вечер был душный, влажный, собиралась гроза. Больные нервничали, сестры сбивались с ног. Без четверти семь у его больного Сударикова, двадцати девяти лет, была остановка сердца. К счастью, это случилось еще в реанимации, анестезиолог, толковый, крепкий парень, был рядом и сердце запустил быстро, но, узнав об этом, Елисеев все равно так мчался по коридору, что потом долго не мог отдышаться. Вдвоем с тем парнем еще часа полтора работали они над Судариковым, а когда Елисеев вернулся в ординаторскую, Римма была уже там, стояла в сумерках у открытого окна, за которым над крышами клубились лиловые мягкие тучи.
– Не зажигай свет, – сказала она, – смотри, какая красота! Сейчас хлынет.
И пока он стоял в нерешительности, она скинула туфли, неслышно скользнула к двери, повернула ключ и вдруг повисла на нем.
– Ну все, ну все, ну все, – твердила она, – больше не могу…
«Уж лучше бы с Нинкой», – тоскливо подумал Елисеев, прижимая к себе обмякшую Римму. В это время за окном сверкнуло, тяжело прокатил гром, в комнату донесся острый запах пыли и теплого ветра, рама с грохотом захлопнулась, и тотчас по ней забарабанило. И они с Риммой остались в замкнутой душной темноте.
В жизни всякого мужчины бывают такие ситуации, когда он не волен в себе. Так случилось в тот вечер и с Елисеевым, у него не было выбора, он понимал, что сам был виноват, затянув и запутав всю эту историю, но теперь уже не о чем было говорить, они все равно уже переступили все границы, дальше он был бы только смешон, а на это он пойти не мог никак. Совесть не особенно мучила его, ведь он не стремился к этому роману.
Скоро он узнал, что роскошные женщины довольно скучные существа, уж слишком они озабочены поддержанием своего статуса, а Римма была еще и ревнива, и завистлива к успеху. Ее постоянно надо было утешать, что первенство остается за нею. Это было глупое и пустое занятие. Но было в этой связи еще и множество других неприятных ему аспектов. Римма кипела энергией, то таскала его по чужим квартирам, то везла обедать в дорогие заведения, а он не любил спиртного. Но при ней он должен был пить. Бюджет Елисеева трещал по всем швам, и Римма легко и беззаботно приходила ему на помощь, слишком легко и беззаботно, чтобы он поверил, что в этом не было никакой задней мысли. Все это было унизительно.
После первого угара, когда чувство новизны остыло и притупилось, Елисеев понял, что ни душе его, ни телу неожиданная любовная история не принесла ничего. Это произошло очень скоро, слишком скоро. Уже на третьем или четвертом свидании он уныло размышлял о ней: да, в любви она неутомима и изобретательна, но где же, черт возьми, страсть, которой она, казалось, так пылала? Ведь это же все надумано, вымучено! Любовь для нее была просто времяпрепровождением или, еще вернее, способом убийства времени. Наверное, ей казалось, что настоящая женщина жить должна именно так, она так и жила. Она хотела чувствовать и делала вид, что чувствует, а за всем этим стояла скука, насилие над собой, натужное желание идти в ногу с веком. Она казалась прежде такой волевой, а вот ведь – жила чужим умом, святой верой в чьи-то чужие образцы.
Он пытался говорить с ней, разглагольствовал на свою любимую тему об искусстве и его потребителе, ему нравилось об этом говорить, мысли его были неординарные и смелые, ассоциации шли далеко, переплетались, вязались все в новые и новые узоры, но Римма реагировала вяло. Он смотрел в ее холеное длинное лицо, в ее полуприкрытые влажные темно-голубые глаза и не видел в них ни отклика, ни ответа. Они мчались по шоссе, обгоняя одну машину за другой, серая лента дороги, качаясь и приседая, летела навстречу, Риммины сильные руки, унизанные драгоценностями, подрагивали на руле. Вдруг она свернула на обочину и остановила машину, и сразу в опущенное стекло влетел и наполнил ее нежный шелест деревьев, зеленые отблески, сладкие запахи цветения.
Но Елисеев не смог сразу остановиться, начатая мысль висела в воздухе, и он должен был ее завершить.
– …И получается парадоксальная вещь: чем совершенней творение художника, тем труднее войти в него зрителю, он остается в стороне. Все должно быть узнаваемо, но не полностью, не до конца, чтобы оставить место творчеству зрителя, и здесь неопределимое чувство меры определяет все… То же самое и в архитектуре. Современное жилище удобно и функционально, но рациональность его доведена до такой высокой степени, что не оставляет простора ни для чего, даже то, куда ты вобьешь гвоздь, предусмотрено заранее, и это совершенно перечеркивает архитектуру как искусство, ты согласна?
– Продолжай, это очень интересно…
– На этом вот самом свойстве отношений творца и потребителя спекулирует теперь телевидение, и – пожалуйста, оно уже сметает все искусства: кино, театр и даже литературу! Телевизор – это страшная вещь, он бесповоротно изменил всю нашу жизнь, это он уравнял город с деревней, уничтожил фольклор, перемешал и, следовательно, снизил духовно все социальные слои, потому что перед ним никто не может устоять, он перераспределил время, улицы по вечерам стали пустые, люди больше не разговаривают друг с другом, у них нет для этого свободного времени, да и о чем им разговаривать? Ведь все равно все думают одинаково, они думают так, как научил их телевизор, и от этого никуда не денешься. Его обаянию невозможно противостоять. И все только потому, что он смотрит своим экраном прямо в глаза. Напрасно мы думаем, что живем в атомный век, все это пустяки, мы живем в эру телевидения. А бедная литература…
– Прекрасная речь. Ты мог бы выступить с нею где-нибудь перед большой аудиторией, не знаю только, стоило ли тратиться на меня…
– Тебе неинтересно? Чего же ты хочешь от меня? Чтобы я еще раз подтвердил, что обожаю тебя? Так это все-таки будет некоторая натяжка…
– Нет, отчего же, давай про твою литературу, давай! Только позволь мне тоже сказать пару слов. Твоя литература давно отмерла. Ты все еще томишься по тургеневской женщине? Но живешь-то ты со мной! А это не одно и то же. Что я могу вычитать в твоем Тургеневе? Умиление природой? Да сколько же можно об этом говорить? Уже природу всю вывели, а все умиляемся. И Тургенев твой был, между прочим, тоже охотник, забыл об этом? Все хороши умиляться! Или, может быть, Толстой, который все никак не разберет, что хорошо и что плохо? Да сколько же можно? Как он уморительно хлопочет о своих великих истинах, которые знает сейчас каждый ребенок в детском саду. Если хочешь знать, да, я – за телевизор! У меня нет ни времени, ни желания на твою литературу, разве что детективчик перед сном вместо таблетки снотворного. И уверяю тебя: другие думают так же, только стесняются сказать. А я не стесняюсь, вот и все.
– И совершенно напрасно. Я бы на твоем месте постеснялся. Ты сама не понимаешь, что говоришь…
– А ты понимаешь? Тебе не стыдно? Что ты здесь изображаешь? У нас час времени, а ты решил разыграть передо мной этакого умника. Я и так знаю, что ты умник. Сейчас же поцелуй меня и извинись!
Нет, она была совсем не глупа, но пошлость въелась в каждую ее пору, это был чистейшей воды снобизм, она не то чтобы не умела, она не желала думать и чувствовать самостоятельно; на ее взгляд, это было плебейство. Она хотела быть точной копией некоей элиты, которую сама выделила среди всего остального человечества, по какому признаку – это было ему неинтересно: может быть, по тряпкам, или по богатству, или по частоте выездов за рубеж. Но она так преклонялась перед этой элитой, словно ее преимущество было очевидно всем, и Елисеев только из упрямства не желал этого признавать. А может быть, она была права, и разговаривать с любовницей действительно нелепо, смешно?
Он пытался потихоньку отвязаться от нее, но это было невозможно. Римма принадлежала к тому типу женщин, которым реклама была дороже любовника. Зачем бы ей был нужен Елисеев, если бы об этом не узнал весь институт? Он и ахнуть не успел, как стал героем самой модной сплетни. Но, черт возьми, если бы это была только сплетня! Одна Нина не разделяла общего веселья, ходила строгая, бледная, злая, в операционной огрызалась, при появлении Елисеева демонстративно выходила из комнаты, а однажды подстерегла его на лестнице и закатила настоящий скандал со слезами, упреками и даже смутными намеками на самоубийство. Елисеев возмутился. Да что это все взялись предъявлять на него права? Не годился он на эту роль, все это было глупо и противно. Что случилось с ним? Как это могло случиться? Неужели во всем была виновата Лиза, ее нетребовательность и терпимость, ее надвигающееся увядание?
Нет, не так все было просто, не в возрасте тут было дело и вообще не в Лизе. Дело было в нем, это он что-то потерял или так и не сумел найти. Беда была в том, что он никогда не знал и, наверное, уже не узнает любви, вот. Ему сорок четвертый год, а любовь, эта пресловутая, всеми воспетая блаженная ловушка, она так и не блеснула ему. Ну и черт с ней, и не надо. Мало ли чего еще в жизни ему не было дано, да и существует ли она вообще на свете, эта любовь?
Елисеевы уехали в отпуск, в Крым, дикарями, в какое-то таинственное место, о котором Лизе прожужжала все уши ее начальница.
Место, куда они добрались с большим трудом, и правда оказалось удивительным. Выйдя из автобуса, увидели они внизу плоский поселок, курчавую низкорослую зелень за каменными заборами и синюю лагуну, ровным полукругом вступавшую в поселок с юга. Они дотащили свои чемоданы до самых первых домов и с облегчением поставили их в пыльные придорожные колючки, какой смысл было идти дальше, искать еще чего-то, здесь тоже было прекрасно, и лучшего им не нужно было. Лиза пошла договариваться о комнате, а Елисеев присел на каменную приступку и с интересом осматривался. В сущности, здесь, на краю поселка, это была даже не улица, а один ряд домов, обращенных к дороге, а за домами, огражденные грубыми изгородями из замшелых серых валунов, тянулись травянистые луговины, и луговины эти в конце тонули в синем сиянии и блеске, туда больно было смотреть, глаза слезились и закрывались, и на Елисеева вдруг снизошел такой покой и такое непривычное огромное умиротворение, которого, казалось, никогда он прежде не испытывал. Наверное, он заснул, он чувствовал, как печет ему плечи, но странным образом не ощущал зноя. Крепкий свежий ветерок упорно плескался над ним, овевая и остужая кожу. Сквозь сон он смутно думал, куда это запропастилась Лиза, но и это не волновало его нисколько, ему хотелось только еще и еще сидеть на этом камне и чтобы никто не приходил и не трогал его.
Они никогда еще так не отдыхали; может быть, смолоду и не понимали, что это такое – отдых, потому что еще не нуждались в нем. Но сейчас их время уже пришло. Та жизнь, которую они вели здесь, была не развлечением и не бездельем, а именно отдыхом, сладостным, блаженным ощущением медленно текущего времени, медленного, почти неощутимого движения солнца в небе, длинных прохладных вечеров, незаметно переходящих в полную тьму, в которой огни поселка светились таинственно и неузнаваемо, а на часах все еще было девять.
По утрам они отправлялись к морю, и перед ними открывался огромный, бесконечный в обе стороны пляж, на котором были только птицы. Птицы поднимались стаями и отлетали подальше, а они, утопая в песке и оставляя за собой две глубоких рыхлых борозды, спускались к самой воде, расстилали одеяло, которое билось и рвалось у них из рук, как маленький парус, и блаженно валились на него. Потом Лиза бродила в полосе прибоя по мокрому песку, рассматривая и собирая в кулак крошечные, нарядные, как драгоценности, ракушки, а Женя заплывал далеко в море, и, оглядываясь, она с трудом находила в слепящей дали маленькую точечку его головы.
Лиза была спокойная, рассеянная, и, глядя на нее, Елисеев почему-то начинал остро и мучительно жалеть ее и вновь ощущал ее пугающее – не внешнее, а внутреннее – одиночество, отъединенность ее не только от него, но и от большинства других людей. Что отъединяло ее? Неужели только несчастья ее и обиды? Нет, конечно же нет, несчастий хватало у всех. И ум ее, и духовная зрелость должны бы были привлекать к себе людей, а вот не привлекали. Почему?
После возвращения из отпуска вечерние сидения Елисеева в институте непонятным образом лишились былого очарования, ушли безмятежность, покой, уверенность в себе. Или, может быть, гордость собой? Неужели все это устроила одна только Римма?
Нет, конечно же нет, не она была причиной его институтской скуки, что-то изменилось в нем самом, настал новый возраст. Он сам не мог признаться себе, что, закончив ненужную ему, вынужденную диссертацию, заскучал, ему нечем было себя занять, подавленное, отвергнутое творчество мстило за себя. Конечно, он любил оперировать и оперировал со страстью, азартом и интересом, но операция была только действием, и, закончив ее и передав больного по инстанции, сначала анестезиологам, а потом реаниматологам в послеоперационную палату, он чувствовал себя ограбленным и опустошенным, он был больше не нужен, и дальнейшие его претензии на больного были уже навязчивыми и излишними. Что же было ему делать? Сочинять статьи или уж действительно сразу браться за докторскую? Но зачем? Не значило ли это, что он просто катится по инерции? Или в этой инерции на самом деле был глубокий смысл? Ему казалось, что он еще сомневается, а он уже брался, уже работал.
В отделении его богдыханство кончилось. Нина успокоилась, но больше не кружилась вокруг него как пчелка, да и остальным сестрам, похоже было, он тоже надоел. Его не удивляло это, скорее радовало. Но он ошибся. Однажды на лестнице его остановила Нина.
– Евгений Иванович, а я в кооператив вступила! Скоро получу квартиру, приедете ко мне в гости?
– Обязательно, Ниночка, о чем речь!
И вдруг, прижавшись к нему грудью и глядя на него снизу вверх горячечными серыми глазками, она торопливо зашептала:
– А мне больше ничего и не надо, я не претендую ни на что, буду ждать, и все, мне без тебя все равно жизни нет…
Елисеев отшатнулся в ужасе. Во что же он превратился здесь, в штатного любовника, в утешителя всех страждущих?
– Ну это уж ты слишком, Нина, – сказал он, сдерживая ярость, еле слышно, – и что это ты со мной на «ты» перешла? Вроде не было к тому причин. Ты, уж, пожалуйста, возьми себя в руки. Нельзя так. – И, оторвавшись от нее, медленно зашагал по ступенькам. Ему мучительно хотелось оглянуться, не было ли кого-нибудь рядом, не видел ли кто, но он сдержал себя, вышел на улицу.
Была поздняя осень, холодно, он поднял воротник и зашагал к троллейбусной остановке. Ему вдруг остро захотелось домой, завалиться сейчас на диван, под плед, с книжкой. Что мешало ему до сих пор и что в этом было невозможного?








