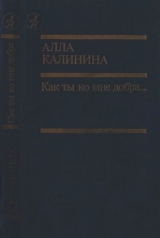
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 40 страниц)
Глава 2
В первый же свободный вечер Елисеев собрался и поехал к Тане, впервые именно к Тане, а не к Юрке, он решил начинать дело о разводе, дальше откладывать его было некуда, ему хотелось оформить брак с Лизой, прежде чем родится ребенок, чтобы законно дать ему свою фамилию и свое отчество. Сцена у Тани была ужасная. Она хлопала заплаканными круглыми глазами, мелко кивала, со всем соглашалась, она слушалась Елисеева, как всегда, но чего-то самого главного никак не могла понять.
– А как же Юрик, как же мы? – все твердила она. – Мы думали, ты кончишь институт, мы так гордились, что у нас папа такой ученый…
Елисеев тер лоб, вздыхал, брал себя в руки, все начинал сначала.
– Таня, между нами давным-давно уже нет ничего общего, ты это понимаешь?
– Это-то я понимаю…
– Алименты ты будешь получать по почте, как полагается, и Юрку я не брошу, мы с ним будем видеться. Только теперь я буду забирать его к себе, он уже большой. Буду брать его из школы, а вечером привозить. Ты согласна?
– Я-то согласна, только как мы будем-то одни? А вдруг он заболеет или вопросы какие будут, как же мы без тебя-то, Женя? Мы без тебя никак…
Этому не было конца. Елисеев поднялся, он слышал, как за дверью возилась и пыхтела теща.
– Таня, мне нужно от тебя официальное согласие на развод, подпись, ты понимаешь?
Таня мелко кивала, за дверью завозились, застонали громче, и, словно услышав поддержку, она вдруг пронзительно, незнакомо закричала:
– Это все Логачева, я знаю, это она! Она тебя погубит, Женечка! От нее все несчастья!
Теперь тесть и теща, уже не скрываясь, маячили за приоткрытой дверью, он протискивался мико них, торопясь ошеломить их напором, не дать вступить в перепалку, но было поздно, они уже преградили ему путь, и все началось по новой: вопли, слезы, взаимные оскорбления… Это было ужасно, но он с самого начала был осужден через это пройти. Такая уж была цена его детским ошибкам. Слушая их крики, рев Юрки, глядя на их шумное мелькание по тесной чужой комнате, он вдруг отключился, словно это диковинные тени давно забытых времен кружились перед ним, и какофония их звуков была ему непонятна. Он с новой немыслимой силой вновь ощутил в себе Лизу, тишину ее дома, умение решить все, даже самое трудное, улыбкой, кивком, взглядом. И он тоже, он тоже не имел права уподобляться этим.
«Не уподобляться, – повторил он себе твердо, – не уподобляться». Он наклонил голову и спокойно, как нож сквозь масло, прошел через свою прошлую жизнь, плотно закрыл за собой дверь и спустился по лестнице. Никто его не остановил, никто не сумел помешать.
Елисеев давно заметил – стоит взяться за дело, и вскоре оно само начинает двигать тебя, и не только тебя, но и самое время. Словно включается какое-то невидимое сцепление – и оказывается, что именно время и совершает начатое тобой дело, совершает его, но и само же в него превращается. Оглянешься назад и видишь – они уже неотделимы друг от друга, дело и время, которое ты ему посвятил.
Дела и события в этом году были самые разные: и добрые, приятные, и неприятные. Работа шла хорошо, учеба близилась к концу, впереди оставались одни только государственные экзамены. И тем более жалко было Елисееву превращать прекрасный год в Год Развода. Дело это тянулось, мучило его. И тогда он неожиданно придумал и решил устроить себе и Лизе приключение, которое неизвестно что ему принесет и потому вдруг взволновало его необыкновенно. Он задумал целое путешествие в последние зимние каникулы – поездку в родной город, а потом в деревню к родителям, с Лизой, с будущим сыном, с почти уже заработанным дипломом. Он тысячу лет там не был, а теперь вдруг страстно захотел увидеть их с нового круга своей жизни, пожалеть, обласкать, познакомить с ними Лизу. Он долго копил в себе, обкатывал и оттачивал эту мечту, даже рылся в книгах, пока наконец нашел то, что искал.
– Вот послушай, – сказал он вечером Лизе, – что я хочу тебе прочитать. Слушаешь?
Лиза наклонила голову, смотрела на него с новой, таинственной, не к нему обращенной улыбкой. Он начал читать:
– «Принято считать, что при интенсивности и новизне содержания время бежит, другими словами – такое содержание сокращает его, тогда как однообразие и пустота отяжеляют и задерживают его ход. Но это верно далеко не всегда. Большие, очень большие массы времени способны сокращать само время и пролетать с быстротой, сводящей его на нет. Наоборот, богатое и интересное содержание может сократить час и день и ускорить их, но такое содержание придает течению времени, взятому в крупных масштабах, широту, вес и значительность, и годы, богатые событиями, проходят гораздо медленнее, чем пустые, бедные, убогие; их как бы несет ветер, и они летят».
– Что это? Ты взялся за Манна?
– Подожди, подожди, сейчас… «То, что мы определяем словами „скука“, „время тянется“, – это скорее болезненная краткость времени в результате однообразия; большие периоды времени при постоянном однообразии съеживаются до вызывающих смертный ужас малых размеров: если один день как все, то и все как один; а при полном однообразии самая долгая жизнь ощущалась бы как совсем короткая и пролетела бы незаметно». – Он остановился, блестящими глазами глядя на Лизу. – Ты понимаешь, как важно понять все это, пока не поздно!
– Все я понимаю, Женя. Только ты мне, пожалуйста, лучше скажи: какое конкретное содержание ты во всем этом видишь? Я человек практичный.
– Это ты-то? Не смеши меня, Лизок! Практичный человек – это я. Но это вовсе не значит, что я голый практик, эмпирик, вовсе нет, я люблю подо всем видеть мощный фундамент теории. Практически это значит, что мы с тобой собираемся в путешествие, а теоретически…
– Подожди! Куда же мы поедем?
– Возьмем и совершим прекрасное путешествие во времени… знаешь, как на качелях – сначала назад, выражаясь поэтически, в город моего детства, потом еще глубже – в деревню, а там, я думаю, придется вернуться к реальности. Потому что мои родители, наверное, ужасно постарели. Представляешь, я не был у них девять лет…
– Девять лет! Как это возможно, Женя?
– Как видишь, возможно. Так получилось. Сам не знаю – как. Сейчас я тебе еще один кусок прочитаю, последний. Вот, слушай. «Шесть недель – это даже меньше, чем в неделе дней; но и этот вопрос бледнел перед другим: что же такое неделя? Небольшой кругооборот от понедельника до воскресенья, и потом опять, начиная с понедельника? Достаточно было непрерывно вопрошать о ценности и значении следующей, более мелкой, единицы, чтобы понять, какой ничтожный результат дает сумма этих единиц, простое сложение, ибо и само это действие являлось вместе с тем и очень сильным сокращением, сжатием, сведением на нет складываемых величин. Вопрос еще осложнялся, если дело доходило до крайне малых величин: ведь те шестьдесят секунд, помноженные на семь, которые проходили, когда человек держал во рту градусник, чтобы продолжить кривую своей температуры, были, напротив, весьма живучи и весомы, они расширялись прямо-таки до маленькой вечности, образовывали в высшей степени прочные пласты в призрачных порханиях большого времени…» Ну как? Призрачные порхания! Разве это не то, о чем мы постоянно думаем?
– Я думала, это касается только меня, теперь, когда я в таком положении… Ты не представляешь себе, как долго все это длится! И почему именно так задумано природой? Зачем это нужно? Наверное, все это очень важно, да? Женя, а рожать страшно? Я смогу выдержать боль?
Елисеев отложил книгу и взял ее руки в свои маленькие крепкие руки. Ему всегда нравился вид здоровой и желанной беременности, – наверное, ее красоту до конца может понимать только врач. А Лиза в этой роли была особенно прекрасна. Раньше ей все-таки не хватало чего-то самого главного, какой-то женской слабости, а теперь осанка стала еще прямее, так, что повороты головы на длинной шее стали похожи на медленные качания цветка, и руки ложились вдоль туловища удивительным округлым оберегающим движением, а лицо было все такое же чистое, с нежной, словно дымящейся, кожей. Только волосы у нее вдруг развились, исчезли куда-то легкие кудряшки на висках, и пряди лежали тяжело, потемневшие, почти темно-русые. Удивительно она была сейчас хороша.
– Ну так что, – сам пугаясь своего счастья, спросил Елисеев, – везу я тебя в деревню или не везу? Как ты решаешь?
И вот настал день, когда они вышли на незнакомой станции. Все здесь переменилось. Было утро. Тускло светились слабые желтые огни. Толкались люди. Они сошли по заснеженным ступенькам на темную вокзальную площадь. Сыро было, тепло. Елисеев нервничал, оглядывался, узнавал и не узнавал. Где-то здесь должна была быть остановка автобуса. Но куда им ехать, он и сам не знал. День, который им предстояло здесь провести, вдруг показался Елисееву таким большим, с этого смутного утра до самой ночи, что он засомневался, стоит ли искать здесь ночлег или, может быть, лучше сразу узнать, нет ли вечерних автобусов в деревню. Потом первая паника прошла, они взяли такси и поехали по городу. День голубел, светлел, раздвигался. Голый парк со старыми деревьями был заснеженный, таинственный и красивый.
Вот и больница, такая маленькая, зачем-то ее побелили, раньше она была красная, кирпичная, а вон мелькнула на холме его школа, и сразу пошла новая застройка. Он чуть не пропустил овраг, тянул шею, тер мутное окошко, – нет, домика так и не увидел. Неужели снесли? А он и не почувствовал, не узнал.
Такси остановилось у гостиницы, они расплатились и вышли. Окна уже погасли. Гостиница была новая, скучная. Вета ждала Елисеева на улице, ей не стоило показываться, пока он не узнает, есть ли в гостинице отдельные номера, – ведь они не были расписаны. Она стояла на ступеньках, дышала мягким зимним воздухом, и он казался ей незнакомым и новым, как жизнь этого маленького городка. Хорошо, спокойно было на душе, и простоять так можно было бы долго-долго. Но тут вышел веселый Елисеев, сказал, что к двенадцати должно освободиться одно общежитие на пять коек, и его обещали ему оставить целиком, но только до шести утра, потому что приедет много народу на совещание механизаторов. А пока они идут завтракать в новое кафе, вон там, напротив. Он подхватил ее под руку и потащил по скользкой улице, возбужденный, счастливый. И день полетел как на белых крыльях. Они ходили, ходили, ходили. Женин домик нашелся. Он так и стоял, наполовину сползший в овраг, маленький, черный, но крыша была новая, железная, а из трубы плыл дымок. Заходить во двор Елисеев не захотел, а все топтался рядом. Тополь спилили, и он сердился, оглядывался, рассказывал Лизе, какое это было замечательное дерево. Из соседней калитки вышел пожилой мужик в валенках и шапке, курил, с любопытством поглядывая в их сторону.
– Колька! – вдруг незнакомым голосом крикнул Елисеев.
Мужик кинул папиросу, затоптал ее и сказал улыбаясь:
– Ты, что ль? Никак с армией распрощался?
– Распрощался! Давно! А помнишь, как ты меня из отпуска вез? Я тогда еще заболел. Ты все так же? Шоферишь?
– Куда ж мне? Теперь на персоналке, зампредрика вожу, неплохая работа. Старики-то живы?
– Живы. Вот к ним едем. А это моя жена, Лиза, знакомься…
– Может, в дом зайдете, выпьем по такому поводу, я сегодня сменился.
– Нет, Коля, спасибо. – Елисеев успокаивался, даже сникал, возбуждение его исчезало. – У нас, знаешь, времени в обрез, ехать надо…
– Постой, а сам-то ты как? Где сейчас?
– А я в Москве. Кончаю медицинский, хирург. Вот как повернулось. Нашего-то Ивана Нарциссовича помнишь?
– Кто ж его не помнит? А Стеша только года три как померла. Эх, времечко летит! А я дочку замуж выдал. Ну, бывай, заходи, если что.
После этой встречи Елисеев замкнулся, долго молчал. В молчании они обошли оба городских музея – историко-революционный и краеведческий. Музеи были маленькие, трогательные, живые. Особенно понравился Вете краеведческий музей, где была целая витрина черно-лаковых расписных шкатулок. Она медленно рассматривала эти маленькие чудеса – девичьи хороводы и красные конники на красных конях, жар-птицы и терема, волшебные деревья, волшебные волны, похожие на цветы, петухи в золотых узорах. Авторы были разные, но одна фамилия повторялась чаще других – Новский М. В., Новский В. П.
– Родственники, наверное, – сказала Вета, – как интересно, совсем незнакомая нам жизнь, живут где-то, передают свои чудеса из поколения в поколение.
– Кто?
– Да вот эти Новские.
– Подожди, Лиза, этого не может быть. – Елисеев засмеялся и обнял ее за плечи. – Нет, ты знаешь, кто этот Новский? Это же Васька! Я же тебе рассказывал, он с детства мечтал, нас и война там застала! Неужели Васька?
Вот кого хотелось ему увидеть, по-настоящему хотелось. Неужели он так никогда и не уезжал из деревни, жил и жил все эти долгие годы, стал настоящим художником и вот расписывает теперь «ясные коробочки»? Значит, есть в жизни возможность и такой мечты, и такого пути, почему же ему всегда казалось, что правильный путь есть только один? И он все всматривался и всматривался в себя, пока его не нашел. А вот Васька выбрал совсем другое, удивительное, ни на что не похожее – уникальное ремесло.
– Лиза, это судьба! – сказал Елисеев. – Если это только он, мы к нему обязательно едем. Сейчас пойду и все разузнаю, в музее должны знать. Да я и не сомневаюсь, это Васька…
Ночью в гостинице было жарко. Они лежали на продавленных пружинных железных кроватях, лампочка под потолком была одна, тусклая, и читать было все равно нельзя. В форточку залетал мелкий снежок и таял на лету.
– Ты не жалеешь, что поехала? Я целый день сам не свой…
– Прекрасный был день. А вот завтрашнего я боюсь. Как меня встретят твои родители, они же про меня ничего не знают.
– Ничего, узнают, – сказал Елисеев, сладко зевнул и повернулся на бок.
Деревню он вспоминал быстрее, чем город, она не изменилась за двадцать лет, а детская память цепко держала ее в себе до сих пор. Стоило только спуститься с горки – и он сразу увидел и ферму, и всю улицу, и засевший в сугробах дом. Как-то он невесело выглядел, крыша была продавлена, наличники не крашены, дорожки не чищены, а кое-как натоптаны в один валенок. Зато родители были дома, зимой податься некуда.
Они вошли в холодные сени, и знакомые запахи обрушились на Елисеева, запахи старых кадушек, прелой соломы, зимних яблок, настывшего мокрого дерева. Он судорожно глотнул и шагнул в избу.
В первое мгновение ему показалось, что это шутка. Кто-то небрежно и торопливо, так, что даже видны были промахи, положил грубый грим на знакомые родные лица. Они не могли так постареть, не могло быть у матери такое сморщенное лицо, а у отца такой шамкающий беззубый рот (почему он не лечился, не вставил зубы?). И плечи его не могли так податься, согнуться. Елисеев зажмурился и обнял мать.
Нет, неведомый режиссер не ошибся, все было верно, потому что режиссером было само время. А он даже голоса их и оканье вспоминал с трудом, а ведь голоса почти и не изменились, разве чуть охрипли, отсырели в жарко натопленной избе.
– Ну как вы, как же вы тут жили без меня?
– Женя, – шепнула ему мать, – а чё ж ты жену не кажешь, жена-то – другая?
Неужели он не написал? Да нет, писал, просто он забыл сейчас совсем про Лизу, она тихо раздевалась у порога, скинула шубку, большой белый платок, в который специально укуталась, чтобы не застыть в дороге, и ее не было слышно.
– Лиза! Ну вот это и есть мои старики. Знакомься – Анна Александровна и Иван Митрофанович. А это – Лиза.
– Ага, понятно, – сказал отец, – а что же, сын-то там останется или как?
– А что ж сын? – неожиданно вмешалась мать. – Видали мы его? Одна карточка. А эта и сама приехала, и Женьку нам привезла, верно, дочка?
Лиза кивнула. Глаза ей застилали самой ей непонятные слезы, то ли стыдно было, то ли жалко их, то ли страшно, что это вот она, Вета, стоит на незнакомом деревенском пороге и ждет чьего-то одобрения и даже прощения… Слишком неожиданными для нее были эти двое заброшенных, занесенных снегом стариков. Как же мог Елисеев девять лет о них не вспоминать? Как он мог? Все это надо было понять, пережить, и она, улыбаясь сквозь слезы, ступила в комнату, обняла мать, ткнулась в небритую щеку отца и ощутила густой и сильный запах свежевыпитого вина.
Дальше пошло уже легче. Лизу усадили на стул поближе к печке, отец торопливо достал бутылку, мать стала собирать на стол, а Женя наделял их гостинцами и рассказывал про сына. Вете нравилось, что, рассказывая, он не оглядывался на нее и про нее не помнил. Он не стыдился себя. Это было редчайшее и ценнейшее свойство его сильной и чистой души, и она бесконечно уважала его за это. А значит, нечего было ей пугаться его деревенских корней, а надо было постараться привыкнуть и понять. И она распрямила плечи, огляделась, успокоилась. Тихо было там, на улице, за человечьими голосами. Снежный белый день еще светился в трех маленьких и глубоких оконцах. Подоконники заставлены были цветами в горшках, обернутых в пожухлые газеты. Стоял столетник, и две гераньки цвели, и Вета издали словно ощутила их горький пыльный запах, знакомый, перекидывающий слабый мосток между ее жизнью и этой. У мамы тоже когда-то на окне цвела герань, давно, когда на нее еще не вышла мода. Но лучше герани были сугробы за окном, кривая черная ветла, дом напротив с желто светящимися тремя окошками, точно такой же, как и их, словно их дом смотрелся в голубое снежное зеркало.
День, начавшись, бежал и бежал. За столом говорили о разводе и женитьбе, о том, как назовут сына: Иваном, Алексеем или Сашкой, имя больно хорошее, модное, теперь все называют Сашками. Иван Митрофанович, выпив стопку, стал рассказывать, как, попав в плен, не покорился, а сколотил партизанский отряд и бил фашистских оккупантов, совершал геройские подвиги, и его должны были представить к награде, но представление где-то затерялось. Он скоро и тяжело захмелел, выкрикивал что-то бессвязное, стучал по столу кулаком, лез целоваться, но после третьего стакана затих, и мать торопливым шепотом стала жаловаться на него Елисееву, что хозяйство запущено, работник он никакой, а мог бы еще и поработать в колхозе. И пенсию каждый раз приходится отнимать силой. Да и что там за пенсия, живут в основном с огорода, а ей с каждым годом становится тяжелее. Для колхоза они чужие, и помощи им от колхоза нет. Дров и тех не допросишься. Не надо было тогда уезжать из города, может, уже получили бы квартиру с удобствами, все-таки всю жизнь вдвоем на одной фабрике, может быть, и вспомнили бы ветеранов. Елисеев слушал молча, вспоминал сползший в овраг черный домишко, срубленный тополь, соседа в валенках. Нет, не торопились им давать квартиру с удобствами, жизнь неслась вперед каким-то странным манером, так, что люди за ней вечно не поспевали. Какая-то часть несется, а вот эта деревня как стояла, так и стоит, да и его милый овраг тоже. Что же нужно, чтобы поспеть за жизнью? Наверное, какое-то начальное ускорение, сразу заданный ритм, темп, чтобы сорваться и полететь, теряя прошлое, привязанности, воспоминания. Двигаться вперед, не теряя, – нельзя. Вот и он обронил по дороге своих стариков, и теперь ничего нельзя уже ни изменить, ни поправить. Даже если бы он вдруг затеял перевезти их в Лизину московскую «студию», что бы они там делали, как бы ужились? Нет, не стоило с этим даже и начинать. Их жизнь была уже очерчена, и единственное, что он мог сделать для них, – это являться время от времени эдаким рождественским дедом да еще слать письма и переводы. Но и с переводами разгуляться ему было особенно неоткуда, шли скупые времена – ребенок, алименты, Лиза уйдет в декрет. В сущности, если посчитать на душу населения, родители имели больше, уж не у них ли просить помощи? Отчего же тогда ноет и ноет у него душа, отчего так жалко стариков? Может быть, просто оттого, что он не понимает, боится деревенской жизни? Или старость их его тревожит и пугает? Так ведь и он состарится в свой срок, и Лиза станет когда-нибудь старушкой и тоже будет вздыхать и двигаться с трудом. Далеко ли им до этого? Один миг жизни или вечность – все зависит от того, как они догадаются жить. Как жалко было ему потерянных, впустую убитых лет, и теперь права отступать назад у него уже не было. Надо принимать жизнь такой, какая она есть, примеряться к ней, вскакивать на ходу, поспевать. Бедные старики, когда-то у них не хватило на это ни смелости, ни сил.
Спал Елисеев плохо, непривычно было на чужой кровати, в одной комнате с другими людьми; отец храпел, лежа на полу, мать постелила на печке. Лиза удивлялась, как им не в тягость такие неудобства, но старики им радовались, это они понимали и чувствовали всей душой и, пошептавшись, решили, что надо задержаться здесь хотя бы дня на три, не меньше.
Они много гуляли – по деревне, по дороге до автобуса, по тропке вдоль реки, по тракторному следу до самого леса. Здесь особенно нравилось Лизе, хоть и тяжело было идти в огромных чужих валенках. Но зато такой простор, такая тишина были вокруг. Впервые видела она вот такие нетронутые зимние поля, следы зверей, отчетливые, словно в детской книжке, – строенные, отдаленные друг от друга на расстояние прыжка следы зайцев, а рядом, чуть в стороне, осторожная лисья строчечка; глубокие и тяжелые следы лося, пересекающие дорогу, и кучный затоптанный проход кабанов. Да еще было множество мелких следов – сорочьих, голубиных, мышиных узорчиков. Не верилось, что они и вправду все здесь бродили и резвились, но ведь не во сне же ей все это приснилось. Серое тихое небо висело над полями. Лес начинался молодой ольхой, растущей кустами. И так удивительно хороша она оказалась зимой, прозрачная, кружевная, вся увешанная гранатовыми сережками, которые казались на фоне снега такими яркими и густо окрашенными, что в это тоже не верилось. Как много простых вещей они, оказывается, даже и не умели воспринимать. За ольхой через дорогу начинался ельник, сначала молодой, утопающий в снегу, а дальше – огромный, черный.
Лапой ели на ели слепнет снег,
На дупле силуэт дупла…
– вспомнила Вета, и снова мысли и чувства затолкались, закружились, потекли, все здесь будило душу, и хотелось говорить что-то высокое, хорошее, но страшно было обесцененных лишних слов, надо было только смотреть, только слушать тишину, скрип снега под ногами, слабые лесные шорохи.
Сумерки наступали быстро. В темноте деревня казалась таинственней, больше, и тепло, которое ждало их там, представлялось поэтическим, волшебным даром. И ночью снова, как в детстве, уставив глаза в темноту, сочиняла она никому ненужные стихи про зимние деревья. Ах, дело было конечно же не в стихах, а в том, что мир вокруг нее был вечный и прекрасный, и надо было как-то соотнести себя с ним, найти в нем свое место.
В четверг они наконец начали собираться. Отец не вставал, был пьян, мать помрачнела, ходила за Елисеевым по пятам, вздыхала. О чем-то они все говорили – торопливо, урывками. Лиза не прислушивалась, не участвовала в этих разговорах, разговоры эти были не для нее. Контакт со стариками у нее не вышел, как она ни старалась. Ее демократическое воспитание все усложняло, мешая ей вступить с ними в непосредственные и искренние отношения, она считала себя обязанной к большему – к чувству уважения и равенства. И, не находя их в своей душе, страдала от какого-то нелепого комплекса вины: перед ними – за свое высокомерие, перед собой – за неискренность. На самом же деле ни того ни другого не было, была просто попытка из любви к Елисееву выжать из себя чувства, которые она на самом деле не испытывала, да и не могла испытывать. От этого Лиза уставала куда больше, чем от долгих прекрасных прогулок и жаркой ночной тесноты. Пора было ехать. Тем более что впереди предстояло еще одно приключение – поиски незнакомого художника Василия Новского, маленькая причуда расходившегося Елисеева.
Во Мстеру они приехали к полудню и сразу отправились искать фабрику. Деревня была большая, оживленная, почти городок. По улицам громыхали машины, толпился народ. На фабрику их не пускали, пришлось прямо у ворот объяснять, кто они такие, откуда и зачем приехали. Лизе это казалось смешным и нелепым, но Елисеев вдруг уперся.
– Ну как ты не понимаешь, – шептал он сердито, – ; не могу я уехать, не повидав Ваську, следующего раза ведь может и не быть. Да наверняка не будет…
Наконец они его нашли, но не на фабрике, а в училище, он там преподавал. К ним вышел высокий, плотный, носатый человек в мятом костюме, смотрел на них растерянно, неловко улыбался.
– Нет, – сказал Елисеев, – на улице я бы тебя нипочем не узнал, здорово ты вырос! Ну, узнаешь меня? Вспомни – первый день войны…
– Женька! – сказал носатый и хлопнул себя по коленям. – А ты и не изменился нисколько!
– Васька!
Они обнимались, стукали друг друга по плечам, хохотали…
– Ну, пойдемте, пойдемте на фабрику, буду вам все показывать сам. Вы ведь у нас еще не бывали?
И он повел их, любовно и неторопливо, из одного крошечного цеха в другой, все выше и выше поднимаясь к тому главному, прекрасному, чем все эти двадцать лет не переставал он дышать и восхищаться.
– Ты моего дядьку Мирона помнишь? Он у нас из старых могикан, в доме один живет, в кабинет даже на порог никого не пускает, а там у него целый музей… И портрет висит. Знаешь чей? Толстого. С дарственной надписью. Представляешь? Но только туда попасть невозможно, чудит старик. А какой художник! Я хоть тоже немалого достиг, но до него… Может, мне до него и никогда не добраться. У него глубина, чистота, мысль течет просто – совершенство! Словно никто и не придумывал, а само родилось и иначе быть не может. Это, знаешь, такой божий дар!
– Ну а свои работы ты нам покажешь?
– Конечно, покажу. Я без ложной скромности тебе скажу, у нас ведь тоже десятка не наберется самостоятельных художников, тех, кто определяет лицо Мстеры, и я среди них не последний, нет. А вот эта вся молодежь, что вы видите в зале, они только копируют наши образцы, они когда еще только до нашей работы доберутся, а многие, может, и никогда не смогут, так и останутся ремесленниками. Ты понимаешь, для творческой работы что-то такое нужно… Талант, конечно, тоже, да без таланта сюда и не примут, у нас конкурс – до двадцати человек на место, все больше наши, владимирские, которые местный фольклор понимают, да учиться – пять лет, как в высшем. А у нас и не высшее, просто училище. Мы ведь не Палех, они все в Союзе художников, а мы в местной промышленности; обидно, конечно, но не в том дело. Я о другом тебе говорю, я о настоящем творчестве. Для него одного таланта мало, для него дух важен, мысль, высота, понимание истории. А у нас, хоть и тому же Палеху в пику, традиционных сюжетов мало, мы стараемся больше свое, новое, особое создавать – мстерское. А для этого надо человеком быть, душу иметь высокую, ну как, например, Мирон. Знаешь, анекдот такой есть: дескать, какой институт надо окончить, чтобы интеллигентом стать? А ответ такой: надо, мол, кончить три института, какие, мол, – неважно, а только обязательно, чтобы один кончил твой дед, другой – отец, а уж третий – ты сам. Думаешь, какой-нибудь контрреволюционный этот анекдот? Ничего подобного. У нас уж тоже, почитай, четвертое поколение пошло, могли бы вырастить. Ан нет, не получается чего-то, считают хорошо, а мыслят робко, по готовому, все больше про хлеб насущный; вместо книг, вместо раздумий – кино да телевизор, бедная растет молодежь. Вот и выходит, что неправильный этот анекдот, тут институтами не обойдешься, тут нужно, чтобы позвало тебя!
Елисеев и Лиза слушали его, изумленные. Вон, оказывается, что творилось в маленькой заснеженной глухой деревеньке! Какие здесь бушевали страсти, мечты и амбиции, и люди жили высокими идеалами и о творчестве говорили без иронии и без цинизма. А он-то, Елисеев, уж не погордиться ли собой перед деревенским дружком детства приехал сюда? Он думал, вспомнят они свою деревянную школу, где учили их всему кое-как и без претензий, вспомнят речку свою, и рыбалку, и зимние игры, и ребят. А оказалось, этот Васька ни о чем ни думать, ни говорить не мог, кроме как о единственной в своей жизни любви, и любовь эта была – искусство. И Елисеев терялся перед ним, и даже на минуту показалось ему, что все, чего он сам достиг и к чему стремился, вовсе не так уж важно и интересно, а, наоборот, как-то приземлено, утилитарно и грубо. Он понимал, что это сомнение несерьезное, минутное, но все-таки важно было необыкновенно, что оно его коснулось. Чтобы знал он и понимал свое место в жизни. Чтобы помнил – искусство превыше! Оно – то, к чему приходят уже после, после того, когда оденут и обуют человечество, когда его вылечат и накормят, вот тогда и придет оно к высшему смыслу своего существования – к творчеству, самосовершенствованию, искусству. И он в этом ряду занимал место хоть и достойное, но скромное по сравнению с Васькой.
Правда, все это были одни теории, не подавало надежд человечество на то, чтобы такие времена наступили, но не он и не Васька были в этом виноваты. Они-то честно выполняли свой долг, делали что могли на тех местах, на которые были призваны, и в этом была их гордость и их честь: не сдаться на милость обстоятельствам, служить и быть достойными себя. «Не уподобляться!» – снова вспомнил Елисеев и вздохнул, возвращаясь назад, на землю, на фабрику, к Лизе и Ваське.
Они уезжали вечером. Толстый, неуклюжий и носатый Васька провожал их на автобусную станцию и все говорил и рассказывал, но забыл их накормить обедом и домой не пригласил, у него какие-то свои были представления о том, что интересно и что – нет, а светские манеры его и вовсе не интересовали. Потом, сияя во влажной темноте огнями, подкатил автобус, и они побежали, прощаясь на ходу, и долго махали ему в окно.
Дома, в Москве, жизнь пошла своим чередом, поездка отодвигалась все дальше и дальше, казалась огромной, долгой, прекрасной, бывшей не в этой жизни. Лиза была уже в декретном отпуске, сидела дома. Елисеев же, наоборот, дома почти не бывал, нагонял упущенное время, а вечерами приходил усталый и заторможенный, говорить с ним было трудно, он думал о чем-то своем.
Развод его с Таней хоть с волнениями, но произошел, и однажды вечером они с Лизой отправились и тихо зарегистрировали свой брак.
Весна подступала все ближе, назначенный срок приближался, и наконец на исходе марта, двадцать пятого числа, Лиза без особых мучений родила ребенка, девочку. Девочка была небольшая, всего три килограмма, но здоровенькая. Когда ее в первый раз принесли кормить, Лиза сразу, еще издали, ее узнала и необыкновенно ей обрадовалась. Она была крошечная, страшненькая, но это было почему-то совершенно неважно, она была своя. У нее были длинные белые волосики, а носика почти не было, маленький бугорок и две узкие дырочки, и по этому носику сразу Лиза поняла, что будет она необыкновенная красавица, и сразу ощутила свою миссию ее растить и оберегать. Молоко у нее было, она держала девочку у груди добросовестно и долго и, когда девочка засыпала, будила ее и заставляла еще немного пососать.








