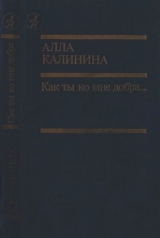
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц)
– Не надо, вам так идет, – сказал он тихо. – Если бы вы видели, какая вы сейчас, вся в снегу!
И тут Вета решилась и подняла глаза. Вот он какой был, Роман. Ну конечно, он совсем не изменился. И не такой уж он взрослый. И как он смотрел на нее!
– А вы кончили институт? – спросила она.
– Да, я в аспирантуре.
– А потом? Вы куда-нибудь уедете?
– Не знаю, – засмеялся он, – может быть, уеду, а может быть, буду работать где-нибудь здесь.
– Ну ладно, очень приятно было с вами встретиться, – сказала Вета, – я поеду.
– А вы не разрешите мне вас проводить?
И сразу стало Вете весело.
– Пожалуйста! – сказала она. – Пожалуйста, только я очень далеко живу.
А дальше все пошло удивительно просто. Они смеялись, вспоминали Тарусу и болтали обо всем. Роман записал в книжечку их телефон.
– Вы любите музыку? – спрашивал он. – Я ужасно люблю музыку. Пойдемте в консерваторию! Я возьму билеты и вам позвоню, ладно?
Он проводил ее до самого подъезда. И Вета совсем не знала, что делать и говорить, как себя вести, пригласить домой было поздно, а повернуться и уйти – неудобно. Она остановилась, и по тому, как он взял и задержал ее руку, она вдруг поняла, что Роман за ней ухаживает, вот что такое случилось. Это не просто была встреча. Теперь между ними возникли какие-то отношения, которые будут продолжаться для них двоих. И мама с папой здесь ни при чем, и никто ни при чем. Только они двое.
– До свидания, Вета. Я вам позвоню, – сказал он.
– Хорошо. До свидания.
Но он не ушел и, приоткрыв дверь, ждал, пока она поднималась по узорной широкой лестнице. Он стоял и смотрел на нее снизу вверх, высокий, немного узкоплечий, светловолосый, шапка в руке.
И когда она уже стояла у двери, он сказал шепотом:
– Спокойной ночи! – И хлопнула за ним парадная дверь.
А Вета стояла, прижавшись щекой к своей двери, и сердце ее колотилось. Вот оно, вот оно пришло для нее. Настал ее час.
Роман позвонил на следующий же день, едва она пришла из школы. Вета сама схватила трубку.
– Алло, это я, – сказал он, – вы меня еще не забыли?
– Нет, – сказала Вета и весь день потом мучилась, что ответила так глупо.
– Ну тогда все в порядке, – сказал Роман и рассмеялся своим хрипловатым, счастливым, коротким смехом, – я позвоню вам завтра; очень много дел.
– Кто это звонил? – спросила мама, выходя из кухни.
– Это? Это Роман, – растерянно ответила Вета.
– Какой Роман?
– Ну помнишь? Роман Ивановский. Они жили с нами вместе в Тарусе, на соседней даче, у Орловых. Помнишь?
– Помню, конечно. Но откуда он взялся и чего хотел?
– Он мне звонил, – сказала Вета.
– Тебе?
– Ну да. Мы с ним встретились вчера на катке.
– Но что у тебя с ним общего? Он же совсем взрослый парень, студент.
– Уже кончил, – гордо сказала Вета. – Ну и что? Он за мной ухаживает.
Она слонялась по квартире, трогала вещи, долго и придирчиво смотрела на себя в зеркало и всякие делала выражения лица. И такое попробовала, какое было тогда на катке у Нади Сомовой, но у нее не получилось. Потом она подняла крышку пианино и стала наигрывать одним пальцем, сама не зная что. И пианино звонко и длинно отвечало ей в тишине квартиры. Как жалко, что не умела она играть. И петь она не умела.
– Мама, – крикнула она, – мама! А где консерватория?
– На улице Герцена. А что?
– Ничего. Я там еще никогда не была.
Она нигде еще не бывала. И ничего не знает. Все-все-все будет у нее в первый раз. И все впереди.
Глава 8
Роман вырос в необычной семье. Родители его оба были художники. Они не ходили по утрам на работу, как все другие родители, они поздно вставали и рано ложились, измеряя жизнь световым днем. И квартира у них тоже была странная, вообще-то это была даже не квартира, а студия, когда-то, еще в незапамятные дни, до рождения Романа, выданная отцу для работы. Студия представляла собой громадную комнату, всю переднюю стенку которой занимало гигантское полукруглое окно в частых переплетах пыльных рам. Это окно и навело, вероятно, на мысль использовать нелепое помещение в большой и бестолковой коммунальной квартире для целей возвышенных и прекрасных. Но Александр Васильевич, женившись на молоденькой и нежной Машеньке Савиной, проявил присущий ему здравый смысл. Он разделил свою студию на три части, так что окна в боковых комнатах получились треугольные, а в средней, самой большой, окно было как окно, почти нормальное, только сверху полукруглое и очень большое – от стены до стены. Впоследствии произошло совсем уж замечательное событие – квартиру решили разделить на несколько отдельных. При дележе к студии отошла еще большая и темная, как пещера, ванная и собственный отдельный выход на черную лестницу в глухой каменный двор маленького арбатского переулка. В этой-то экзотической квартире и родился Роман, и с треугольным окном, полным то зимнего белого блеска, то шороха ночного дождя, то пылания старого клена, растущего во дворе напротив, были связаны самые первые и самые нежные воспоминания его детства. И еще – музыка. В средней – самой большой, проходной – комнате стоял мамин рояль «Бехштейн» с потускневшей от старости крышкой, на которой были навалены груды нот.
Дело в том, что до замужества Мария Николаевна так же, как и две ее старшие сестры, была музыкантшей и так же, как они, неудачливой. Встретив своего будущего мужа, она увлеклась живописью и вскоре занималась ею вполне профессионально. Музыка же – музыка оставалась сама по себе. Мария Николаевна играла неожиданно и бурно в самое неподходящее время – то ранним утром, когда Роман еще спал и просыпался, захваченный этим волнующим мягким и стремительным потоком, то среди дня, когда в маленькой кухоньке, созданной из обрезка бывшего коридора, безнадежно подгорал обед. Роман не знал, хорошо ли она играла, иногда ему казалось, что в музыке что-то не так, он внутренне напрягался, силясь перестроить и повернуть ее по-своему, но это ему никогда не удавалось, музыка пересиливала его, уносила за собой, и он, расслабляясь, покорялся ей, уже убежденный в ее бесконечном превосходстве над собой. Он рано начал учиться играть, и задумчивое сутулое сидение на круглом вертящемся стульчике с руками, тяжело опущенными на желтоватую покоробленную старую клавиатуру, было одним из самых привычных состояний его детства. Но он не делал особых успехов, он был толстым, медлительным и ленивым ребенком с тяжелым подбородком, светлыми ресницами. Едва начав проигрывать гаммы, он погружался в какие-то медленные сонные мечтания неизвестно о чем и надолго застывал, глядя в окно.
Мать же, сидя с ним рядом, нервничала, раздражалась, отталкивала его в сторону, чтобы показать, как надо ставить пальцы, как поднимать и опускать руки, чтобы аккорд был полным, чтобы пели старые клавиши, чтобы эта простенькая песенка звучала, звучала! И оба они забывали про урок, мать играла, а он слушал.
А потом родители вдруг срывались и надолго уезжали на этюды. Тогда к Роману переселялась старшая мамина сестра Клава, и с ее появлением жизнь круто поворачивала на все сто восемьдесят градусов, и это было невероятно интересно.
Раз и навсегда на полную мощность включался репродуктор, который решительно и бесповоротно поднимал их по утрам в шесть часов, задолго до школы и до работы, и они вместе делали зарядку, толстый Роман в черных шароварах и толстая Клава в сиреневых трико до колен. Потом они пили чай. Клава не признавала ни обедов, ни завтраков, суп отменялся сразу же, за ним исчезали котлеты, пюре и каши, и они переходили, как выражалась Клава, на «простую и здоровую пищу» – на чай и конфеты, на свежие булочки с маслом и чайной колбасой, на покупные пирожные и Клавино домашнее варенье. Они оба были сластенами, и Рома никогда не мог понять, как после всего этого роскошества Клава умудрялась сдавать маме сэкономленные на хозяйстве деньги. Ему это казалось одним из многочисленных чудес, на которые Клава была такая мастерица. Она прожила интересную жизнь. С музыкой она покончила раньше и решительнее, чем младшие ее сестры, – пошла работницей на ткацкую фабрику. Это казалось родным страшной экстравагантностью, но через десять лет, пройдя все этапы возвышения, Клава была уже директором фабрики, известным человеком, много ездила за границу, вышла замуж за красавца чекиста четырьмя годами моложе ее. Однажды в недобрый день чекист исчез навсегда, а Клава была возвращена к исходным рубежам – опять попала в рабочие, но к сороковому году снова была начальником цеха, такой и помнил ее Рома, всю в чертежах, в табачном дыму, с веселой разухабистой речью, в которой то и дело проскальзывали совершенно ужасные уличные словечки.
Зато Клава была единственным действующим человеком в их семье, она чинила утюги и плитки, вкручивала лампочки, чистила столовое серебро и являлась время от времени проводить генеральную уборку: выбивала одеяла, стирала гардины и мыла необозримые рамы, отчего вся квартира делалась совершенно другой – новой, просторной, светлой и пустой. Клава умела все – она перелицовывала старую одежду, решала Ромины задачи и критиковала папины картины, вытаскивая из пыльной груды, остро пахнущей краской, одно-два полотна, и высокий, сутулый и молчаливый папа соглашался – да, эти самые лучшие, это ему удалось.
А когда Клава уезжала, мама казалась особенно беспомощной, нервной и красивой.
Трудно было бы одним словом объяснить, как относился к старшей своей тетке Рома. Он и восхищался ею, и бесконечно смущался, слыша ее речь и видя удивляюще простые отношения с миром. К этому времени он был уже совершенно сложившимся маленьким интеллигентиком, вдумчивым и начитанным, скованным, неуверенным в себе и одновременно заносчивым от детской невинной уверенности, что центр мира по счастливой случайности находится именно там, где родился и вырос он, Рома, где стоит рояль «Бехштейн» и громоздятся картины, где много пыли и старых книг, где любят говорить обо всем на свете, но если звучит музыка, бросают все дела.
Рома ненавидел зарядку и сиреневые трико, но его захватывало обаяние действия, он хотел, как Клава, ничего не бояться и все уметь. Рисовать для него было нетрудно. Проблема была – чертить и строить. Вот что с детских лет волновало его воображение.
В школе Рома учился хорошо, даже отлично, и не раз, сидя в своей комнате за аккуратным столиком, который содержал в образцовом порядке, он слышал сквозь тонкую перегородку, как мама взволнованно говорила знакомым:
– Литература, история – это понятно, это естественно, но физика, математика и эта ужасная химия – все ведь так сложно! Он необыкновенно, необыкновенно способный мальчик…
Что чувствовал в такие минуты Рома? Больше всего неловкость, стыд за маму, он опускал тяжелую белобрысую голову, мучительно краснел, закрывая маленькие, плотно прижатые к черепу уши еще по-детски пухлыми ладонями. «Что она говорит там? Чем хвастается?»
Но сладкий яд по каплям все глубже проникал в его душу, и все чаще задумывался он над маминой уверенностью, и все ярче тлела в глубине его застенчивой души мечта, надежда на избранность.
Может быть, вся эта странная атмосфера сделала бы из Ромы совсем другого человека, не того, который через много-много лет встретился на пути Веты Логачевой, но силы совсем другого порядка вмешались в его жизнь – наступал, накатывал сорок первый год.
Война все сразу и бесповоротно изменила в семье Ивановских. Александр Васильевич ушел на фронт уже в начале июля, и когда он исчез, Рома впервые почувствовал, как много значил для него отец, высокий, молчаливый и надежный, как спокойно было в доме оттого, что он стоял по утрам у окна, заложив за спину тяжелые квадратные темные руки, и насколько другой была мама, когда он был с ней рядом, – моложе, счастливее, легче. В сентябре Мария Николаевна с Ромой эвакуировались на Урал. Тетя Клава собирала их в дорогу. Если они пережили потом те две страшные военные зимы, то, верно, не без ее помощи, – она снарядила их по-солдатски толково, тепло и запасливо, сама же решительно, не слушая никаких уговоров, осталась в Москве и переехала на жительство в арбатскую студию своей сестры. И только Мария Николаевна с Ромой одни, без родных и друзей, тронулись в дальний путь. И то, что довелось им испытать в маленьком незнакомом городке, в который забросила их жестокая рука войны, непереносимой тяжестью легло на их слабые незакаленные плечи. Самое трудное было даже не в том, что Мария Николаевна по ценностям военного времени ничего не умела делать, хуже было то, что она ничего не понимала. Она пыталась заводить какие-то немыслимые светские знакомства, она надеялась прокормиться живописью и была совершенно неспособна наладить быт. Они начали голодать почти сразу. И это было особенно мучительно для Ромы, который как раз в это время начал стремительно расти, прибавив за первые военные полгода двенадцать сантиметров. После долгих месяцев недоразумений и мучительной неопределенности, уже надломленные, обтрепавшиеся и голодные, они наконец поселились при школе, где мама получила нелепую должность учительницы пения, зато школу топили, и здесь было организовано одноразовое горячее питание. Ребята не любили маму, она говорила высокопарно и непонятно, была надменна, раздражительна и совершенно не понимала их голодного, изуродованного, нищего, но все-таки детства. И Роме было невыносимо тяжело каждый день видеть и на себе ощущать это взаимное отчуждение и непонимание. Может быть, больше всего из-за этого не заводилось у него ни с кем тесной дружбы. А может быть, оттого еще, что по вечерам ребята расходились по домам, и он оставался в пустой гулкой и темной школе наедине с мамой и ветхим дребезжащим пианино. Если бы не это пианино, было бы еще хуже. Это был первый и единственный период в жизни Романа, когда он много играл. Это нельзя было назвать учебой, он перескакивал через ошибки, он прощал себе неправильную вялую постановку рук и то, что ему безнадежно не хватало техники, он играл по нотам то, что было под руками, какие-то случайные и труднодоступные вещи, – все, что мог достать, он играл для себя. И чем больше играл, тем яснее чувствовал – дальше так нельзя, вот только закончит он семилетку и наконец уйдет на завод. Мальчишек его возраста в школе оставалось все меньше, и ему пора было, давно пора заняться делом.
Услышав о заводе, мама впала в тихую истерику. Она не желала мириться и верить в то, что Рома, ее мальчик, не получит образования, будет стоять где-то у станка целый длинный холодный и голодный рабочий день, среди простых людей, страшных для нее своей непонятностью, которые к тому же курят, пьют и ругаются дурными словами.
– Рома, у тебя же абсолютный слух, – говорила она каким-то неестественным голосом, словно ее могли услышать какие-то неизвестные, но значительные люди.
Нет, она безнадежно ничего не понимала в жизни, окружавшей ее, во времени. Для нее война была только ужасная неприятность, разлучившая ее с Шурой, заставившая покинуть дом и мучиться здесь, на чужбине, но это еще не значило, что она готова была изменить хоть что-нибудь в себе самой, в своей личности и планах на будущее. Она ничего не желала терять, ни от чего не отказывалась, ни с чем не мирилась. Это могло бы быть мужеством, если бы не было так эгоистично, так холодно в отношении других, а главное – так безнадежно глупо.
Повзрослевший, худой и длинный Рома, бледный, с ужасно севшим, сиплым, сдавленным голосом и отяжелевшими мужскими руками, упрямо возвращался к своему и, наверное, все-таки победил бы в споре, но в это время вдруг совершенно прекратились письма от отца, и оба они замерли и затаились в предчувствии того страшного, что вот-вот могло обрушиться на них. В это время Рома узнал, что в городе появился и организуется эвакуированный из центра авиационный техникум, и смутная мечта о «настоящем деле» стала материализироваться, приобретая все более и более отчетливый облик.
Самолеты? Нет, даже не самолеты – моторы. Так далеко была Москва, так далеко-далеко-далеко голубое счастливое небо тушинских парадов, полное реющих планеров и белых цветов парашютов. Шел сорок второй год, самолеты – это была скорость, маневренность, мощность; самолеты – это был мотор, могучее сердце будущего, вот куда он должен был бросить свой талант, свои мускулы, свое чувство красоты. Решено! И мать, уже измотанная страшным молчанием почты, сдалась почти равнодушно. В сентябре Роман Ивановский стал студентом авиационного техникума, и сразу же жизнь оказалась остро, яростно интересной, он понял, что не ошибся.
Какое странное было это образование военных лет! Безрукие, безногие и безусые лейтенанты, почти одинаковые на преподавательской кафедре и на студенческой скамье. На теорию не было времени, для нее не хватало подготовки, к черту теорию, скорее, скорее за дело!
– Ребята, все, что я знаю, я вам расскажу, а вы… вы бейте немецко-фашистских захватчиков, пока не останется ни одного на нашей священной земле. За Родину, за Сталина, ура! Ах да, да! Да… Так вернемся к этой формуле. Все видят? Формула как формула. Ивановский, объясни кому непонятно…
Это было как раз то, в чем он нуждался, – дело, наука и жизнь.
И вдруг радостное, невероятное, сказочное событие – письмо от отца. Он был жив, жив! Он писал из госпиталя. Он был ранен, тяжело, в обе ноги, но теперь все уже позади, только одна нога стала короче, и он хромает, но зато уже ходит, почти без костылей, и его демобилизовали, и он едет в Москву и сразу же пошлет им вызов.
Отец жив, и они едут домой – можно ли было в сорок третьем году мечтать о большем, было ли большее счастье?
– Слава богу, что не руки, слава богу! – твердила мама, собирая вещи и прижимая к груди папин натюрморт с розовыми гвоздиками в стеклянной вазочке, который всюду возила с собой.
О чем она думала? Как представляла себе то, что прошел отец, и то, что ждало его впереди? Неужели она думала, что вернется прежняя жизнь, вернется и потечет снова с той минуты, на которой ее так досадно и глупо прервали? Даже Рома не верил в это. Жизнь уже нельзя было повернуть назад, и ужасно, до слез жалко было бросать техникум, и неясно было, что делать дальше, но в душе его уже шевелился, жил один невозможный, идиотский, невероятно дерзкий план. И, конечно, Москва! Возможно ли, что он снова увидит ее, пусть суровую, военную, холодную, но такую родную? Неужели снова можно будет пройти по Арбату, по своему переулку, снизу, подняв голову, увидеть пыльное полукруглое гигантское окно студии? Возможно ли это?
По ночам он видел во сне свой дом, будто ходит по комнатам и плачет от счастья, что помнит, узнает, как стояли вещи, висели картины, в какую сторону открывались двери, какие книги остались на его столе.
Они вернулись домой в конце сорок третьего года. Отец встретил их на костылях, состарившийся, совершенно больной, по-прежнему молчаливый, и Рома, тяжело пережив это мучительное столкновение с реальностью, еще упрямее кинулся в осуществление своего грандиозного замысла. Он решил сдать экстерном за восьмой, девятый и десятый классы и пробиваться в авиационный институт.
Его план удался на удивление легко. Он был принят на подготовительное отделение, мобилизован вместе со всеми в Мосбасс на уголь, отработал, вернулся и вместе со всеми шестнадцатилетним студентом, длинным, угловатым, с очень густыми светлыми волосами и кожей, темной от въевшейся в поры угольной пыли, встречал долгожданный, но все равно ошеломляющий праздник Победы.
Уже давно просачивались слухи, что капитуляция подписана… нет еще… будет подписана завтра. Накануне всю ночь дежурили они у репродуктора. Клава позвонила:
– Все! Состоялось!
Они помчались на Красную площадь ночью, в темноте, там было тихо, снова они ждали, и наконец во весь голос прозвучали слова, так много значившие для них, для других людей, для всей страны, измученной, обескровленной, стосковавшейся по мирной нормальной жизни:
– Победа!
Победа. Наконец-то.
Конечно, они были вместе со всеми в толпа, Рома и отец, бледный, очень худой, в военной форме, но уже без костылей; мама в чернобурке; веселая, бурно хохочущая нестареющая Клава, которая все кидалась обниматься с чужими людьми. И грохотал салют, и взрывались, рассыпались и вертелись в небе пышные гроздья праздничных фейерверков, метались прожекторы, освещая висящий в темном дымном небе огромный и словно прозрачный портрет, гремела музыка, и трепетали повсюду красные полотнища. А главное – легко и радостно, радостной легко было на душе. Все сложное, все то бесконечно трудное, что оставалось решить, начать, сделать, – все оставлялось на завтра, а сегодня Москва ликовала, ликовала до слез, до воя, до безумной лихой чечеточной пляски.
Проклятая война, долгая, ужасная, проклятая! Это уже потом стали ее вспоминать по-другому, оттого что не ладилась жизнь, оттого, что потери продолжались, но теперь, в мирное время, еще труднее, еще невыносимее стало с ними мириться. Наверное, очень тяжело поворачивалась жизнь, если были люди, которые с нежностью вспоминали военные годы, – тяжелый это был для них выбор, тупиковый, смертельный.
Для Ромы же мир начинался счастливо и безоблачно. Налаживалась жизнь, он самозабвенно учился, отец поправлялся, отходил и постепенно снова втягивался в работу. Мамино упрямство победило, она оказалась права, и однажды они с отцом снова выехали на этюды в Тарусу, в существование которой в эти первые послевоенные годы почти невозможно было поверить, – слишком прекрасен был этот березовый рай, слишком прозрачна тишина и непривычен покой. И леса были еще безлюдны и чисты, березы широко и просторно перемежались дубовыми опушками и сосновыми борами, а над ромашковыми лугами вились жаворонки. Правда, были еще очереди за хлебом на всю ночь, но по утрам, когда открывали магазины, такие стояли туманы, и все это было чудо.
Летом Роман приезжал сюда часто и подолгу оставался, неосознанно наслаждаясь возникавшей вокруг мирной и бездумной дачной жизнью. Женщины возились над печками, сложенными во дворах, над поселком плыли легкие запахи дыма, горячей картошки, грибов с луком, и по вечерам уже доносилась музыка из крошечного дома отдыха работников искусств за оврагом. И столько кругом было интересных людей, актеров, писателей, художников, скульпторов, врачей! Они собирались на бугре над рекой, на сухой мелкой травке у стожка, который днем без устали писали родители, они читали стихи, спорили, смеялись и почти не говорили о войне. И Рома сидел вместе с ними, слушал, молчал, смотрел, как подходил к пристани вечерний пароход, выпуская после протяжного крика маленький белый дымок, как он разворачивался, отражаясь огоньками и всей своей массой в тихой воде. Гремели кузнечики. Внизу запоздалый рыбак отвязывал лодку, вот он оттолкнулся веслом и сел на корму. И когда лодка развернулась по течению и заскользила по светлой воде, Роман узнал Логачева, отца двух хорошеньких соседских девчушек. Логачев был фронтовик, хирург. Рома тянулся к нему и очень гордился знакомством с ним, но так далеко еще был день, когда Логачев заново и в совершенно новом качестве войдет в его жизнь. А тогда, тогда все вокруг было только фоном для Роминой юности, полной первых упоительных успехов, честолюбивых мечтаний, но и неуверенности, и мучительных комплексов, потому что он оставался длинным и узкоплечим, и все дальше заходил его конфликт с кафедрой физкультуры, и голос у него был сдавленный и сипловатый, и он стеснялся его и часто насвистывал тоненьким гибким свистом сквозь передние зубы. И еще он не умел кататься на коньках, танцевал с грехом пополам и не знал, как и о чем разговаривать с девушками.
Но, несмотря на это, как и положено в этом возрасте, он неожиданно для самого себя тесно подружился с черноглазой размашистой и стройной Наташей Самойловой, учившейся с ним в одной группе. Наташа была на два года старше Ромы; сильная, прямолинейная и энергичная, она решительно взяла на себя инициативу, и, вероятно, поэтому вскоре оказалось, что они с Ромой проводят вместе очень много времени – и в институте, и в свободные часы; в общем, они стали почти неразлучны. Был ли Рома тогда влюблен в нее? Сначала он даже не думал об этом. Но постоянное присутствие рядом с ним молодой, здоровой, жизнерадостной девушки все больше смущало и волновало его, он хотел отдалиться, она не отпускала, и наконец состоялся первый поцелуй, который глубоко взволновал Рому, но зато Наташу немного разочаровал. Она ждала от Романа совсем другого, чего-то более эффектного, яркого и в то же время серьезного.
Рома же, погруженный в размышления о своей новой и далеко идущей ответственности перед Наташей, на самом деле оставался от нее все так же бесконечно далеко. Он был странным юношей из странной семьи, и понятия о любви у него были старомодные.
Наступило лето сорок восьмого года. Роману шел уже двадцатый год, он перешел на четвертый курс, был председателем студенческого научного общества, и членом бюро, и сталинским стипендиатом, мама гордилась им, и отец признавал его суждения, но с Наташей все оставалось запутанным и сложным.
Удирая от нее на лето в любимую свою Тарусу, Роман в последнюю минуту не удержался и пригласил ее приехать к ним в гости. Это был отчаянный шаг, означавший для него очень многое, – ведь там были его родители, его леса и его мир. И все-таки он этот шаг сделал.
Он приехал утренним, самым первым, пароходом, который словно во сне тихо полз в сплошном тумане. Ничего вокруг не было, белая пропасть, пустота, только островок теплой дымящейся воды под стареньким колесным пароходом. А потом проглянуло бледное пятно солнца, и когда он сходил на темный и маленький дебаркадер, уже видны были длинная пустая полоса отмели, рыбачьи лодки и разбитая деревянная лесенка, ведущая наверх, и остро пахло рекой, сыростью, утром. Он пошел низом вдоль берега, где раньше лежал сплавной лес, а теперь развешаны были сети. Он добрался до луга, цветущего медвянкой, кашкой и редкими звездочками гвоздик, до низкого, нависшего над водой ивняка, и туман уже клочьями медленно стал подниматься над водой, в которой тяжело всплескивала рыба. А потом сразу вдруг хлынуло солнце, и все вокруг засияло и засверкало: желтые отмели, золотые жидкие блестки на воде и что-то внутри него, радостно и благодарно узнававшее и признававшее эти родные для него места. И, полный мальчишеской плещущей силы, почти бегом стал он подниматься по солнечному крутому косогору, по яркой траве вверх, мимо знакомого ледяного ключа под березой, через запущенное маленькое старинное кладбище на Воскресенскую гору, где всего-то и было над Окой две дачи, Гребенщиковых и Орловых, а дальше за оврагом был уже дом отдыха.
Днем он пошел в город, белый, пыльный, горбатый, перерезанный оврагами, в тенистых липах, которые начинали уже цвести, и воздух звенел от кружения мух, ос и пчел. Здесь, на пустынной круглой и знойной маленькой площади с водяной колонкой посредине, встретил он мальчишески стройную соседскую девочку Вету в ситцевом сарафанчике с голубыми, прозрачными, обращенными в себя глазами. Она прижимала к груди книжку. Он заглянул. Это была «Бегущая по волнам» Александра Грина, и в мгновенном всплеске фантазии показалось мечтательному Роме, что эта девчонка сама была из этой книжки, он увидел, что она прекрасна и таинственна. И сразу вспомнил о ней тысячи вещей, вспомнил ее на пляже в одних трусиках и на утренней рыбалке, где она сидела с ним рядом на корточках и окунала в воду единственную выловленную им рыбешку, и, конечно, упустила ее, и испугалась, и смотрела на него с ужасом, и как она таскала раков, вся перепачканная тиной, и как гребла, сидя в тяжелой черной плоскодонке, полной ракушек, которые вылавливали для свиней, и от них стоял тяжелый сладкий запах тления. Она всегда была какая-то особенная, серьезная и немного удивленная, словно спящая царевна, которую только что разбудили и она не успела еще хорошенько осмотреться в этом мире. И он говорил ей «вы», так же как и всем девушкам, хотя она была еще совсем ребенком.
Днем в самую жару Роман любил лежать в гамаке под березами на вершине бугра. Здесь было свежо и тихо, блестела река, и видно было, как с заливных лугов на той стороне возили на лодках траву. Шел покос. Он много читал, думал, ждал Наташу, то погружаясь в неясные радужные мечты, то сомневаясь и пугаясь.

Она приехала пасмурным прохладным днем, прошел дождь, огромное небо над Окой заволокло синими громоздкими облаками.
Наташа сошла по мосткам на берег и протянула к нему руки.
– Ну вот я и здесь, – сказала она.
Он взял ее чемоданчик, и они пошли не спеша под старыми дуплистыми ветлами, и Роман вглядывался в нее, стараясь понять, о чем она думает.
– Город наверху, – говорил он, – а мы живем вон там, над оврагом, видишь? А это – пекарня, а там кладбище. А теперь оглянись назад, видишь, какая красивая излучина и мели, там пляж. Тебе нравится?
– Ничего, – сказала Наташа со странной холодноватой улыбкой. Она была в красивом синем платье в белый горошек, черноглазая, смуглая, с волнистыми темными косами.
– Вот увидишь, тебе понравится, идем скорее, вон там заросли наверху – это наш забор.
Но она почти не поднимала глаз, словно пристально рассматривала свои уже запылившиеся туфельки, и шаг ее делался медленнее, и щеки горели, и Роман наконец догадался – она волнуется. И на минуту его тоже охватило жарким смущением, ведь на этот ее приезд можно было смотреть как на настоящее событие. Он-то, Роман, знал, что все совсем не так. Но другие-то, другие могут этого не понимать. Что подумают о них родители, соседи, все вокруг?
Он был до того молод и наивен, что отождествлял свои мысли с Наташиными мыслями, но это была ошибка, они все понимали и чувствовали по-разному.
Родители приняли гостью рассеянно и спокойно.
– Давайте-ка скорее обедать, – сказала мама, – а то того гляди пойдет дождь, а нам еще надо немного поработать, сегодня такое необыкновенное освещение, правда, Шура?
Отец кивнул и отодвинул для Наташи стул возле себя. Они обедали на терраске, заросшей кустами малины и смородины. С улицы доносились стук и веселые крики детворы, играющей в городки. На бревенчатой стене, как раз напротив Наташи, висела новая папина картина, на которой был знакомый травянистый зеленый бугор, внизу угадывалась вода, а вдали стояли корявые ветлы в дымке, и к ним бежало несколько тропинок, сходящихся дальше в глинистую, сырую разбитую дорогу. Это был очень нежный и тонкий пейзаж, и Роман надеялся, что Наташа увидит и оценит его и что-нибудь хорошее скажет папе, но она молчала, тарелка перед ней оставалась почти нетронутой, и лицо ее делалось все грустнее, все озабоченнее и напряженнее. Она словно ждала чего-то, и ее гнутые темные брови застыли на лице в удивленно приподнятом вопросительном положении.








