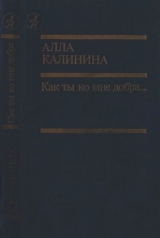
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц)
– Не знаю! – Зоя дернула плечом. – Дай-ка мне вон той колбасы! Наливаем! Девчонки, я хочу тост! – Она встала, высокая, прямая, красивая, гладкие волосы уложены на шее узлом. – Девчонки! – сказала она. – Вот жизнь катится вперед, и все-таки самый лучший день в году – это тот, когда мы собираемся вместе. Давайте первый бокал выпьем не за Райку, она подождет, а за нашу встречу…
– Ура!
– За встречу…
И в это время раздался звонок – один длинный, два коротких, так звонили только к Райке. Девчонки повскакивали с мест.
– Кто это может быть?
– Неужели Ветка приехала, успела все-таки…
В коридоре хлопнула дверь, раздался какой-то скрип и грохот, изумленные вопли, и в комнату, торжественно толкая перед собой коляску, вошла длинная, румяная, нелепая, уже позабытая за эти годы Танька Яковлева. А в коляске сидел толстый белобрысый нарядный ребенок весь в голубом.
– А вот и мы, – пропела Танька, наклоняясь к ребенку и махая его толстой ручкой. – А вот и мы! Нас зовут Юрик, мы очень хорошие мальчики…
И сразу все сорвались с места и обступили Таньку. Конечно, она была ужасная дура, но ребенок… он был на весь их класс – первый, да они и вообще еще не видели близко, не держали в руках вот такого маленького. Так странно было потянуться к нему и вдруг почувствовать, ощутить его теплое, мягкое тельце, тяжеленькое, но в то же время и невесомо легкое, потому что таким маленьким человечек быть не может. Они галдели, сюсюкали, замирали, передавая его с рук на руки, пока он не заревел, громко, как пароходный гудок, размазывая слезы по толстой мордочке, покрытой розовыми пятнышками диатеза.
– Ну вот, ну вот, ну чего мы плачем, – щебетала Танька, – тети все хорошие, тети все красивые, тети все мамины подруги, они не обидят Юрика…
Юрик оказался не таким уж и маленьким, год и семь месяцев, и в коляске он сидел только по случаю дальней поездки в гости, и он уже знал много слов, только говорить не любил. И, конечно, нашелся у них в классе хоть один специалист по детям – Лялька Шарапова. Оказывается, у них в квартире у соседки есть почти такой же по возрасту ребенок, только девочка, и Лялька, как будущий педагог, посвящает этому ребенку много времени.
– Как будущая старая дева… – успела вставить Зойка.
Но Лялька на нее не обратила никакого внимания, усадила Юрика к себе на колени, успокоила, сунула в руку кусок колбасы, и вечер вернулся к своему исходу. Теперь все внимание переключилось на Таньку.
И тут опять случилось непредвиденное: Танька моргала, моргала и вдруг заревела почти таким же густым басом, как ее Юрик, и сквозь рев рассказывала свою печальную историю.
Нет, нелегкая выпала Тане судьба. Едва приехали в гарнизон, Женя тяжело заболел, устраиваться на новом месте, обзаводиться хозяйством – все пришлось ей самой, а только Женя вышел на работу, болезнь вспыхнула снова, его увезли в окружной госпиталь на два месяца, и она осталась вообще одна. Сразу все не заладилось, так и пошло. Болезнь оказалась какая-то страшная, называется ревмокардит, хотя она от обыкновенной простуды, но Женю комиссовали и через год после начала службы демобилизовали. И специальности особой нет, и Таня была уже беременная. Хорошо, что мама сразу написала – не думайте, приезжайте домой. Они и приехали, и Женя на работу устроился, и все бы хорошо, но только характер у него оказался тяжелый, и сразу он стал ссориться с мамой, а особенно с папой. Таня-то знала, она с ним умела обходиться, она ему просто уступала во всем, и никаких ссор не было. Правда, он вообще невеселый, а тут стал такой злой, хоть плачь. А у Тани Юрик родился. Сначала он согласен был на ребеночка, даже радовался, а потом еще хуже начались ссоры, что его не так воспитывают. А папа сказал: «Чтобы воспитывать, надо быть самостоятельным». И Женя очень обиделся. Раньше он был не прав, а теперь стал не прав папа, и Таня просто не знала, что делать. Она их пыталась помирить, но получилось еще хуже: Женя взял и вообще уехал неизвестно куда.
– Господи, и как же ты теперь?
– Теперь-то хорошо, – сказала Таня, – теперь я работаю, только не смейтесь, девочки, продавщицей в магазине. Зато в моем доме, да и не умею я ничего, куда мне идти?
– Ну, а он?
– Женя? Женя нашелся. Он комнату за городом снимает. Он сказал, чтобы я не думала, что он меня бросил, он нам помогать будет, присылает деньги, только возвращаться не хочет.
– Ну, а ты к нему не хочешь переехать?
– Я? Я бы переехала, но он говорит: хозяйка не разрешает. Я думаю, он меня жалеет, а на самом деле просто совсем, совсем меня не любит…
– И плюнь на него, с Юриком тебе родители помогут, а там и еще замуж выйдешь, подумаешь – двадцать один год…
– Нет, что ты, что ты! Я Женю очень люблю, еще больше, чем раньше, он очень хороший человек, он и не виноват, наверное, он на папу обиделся, потому что он как раз самостоятельный, даже слишком, он не мог у нас жить. И разводиться он не хочет, сказал, все будет для нас делать, только жить – врозь. А я не могу… – и тут снова Танька заревела. И больно и стыдно было на нее смотреть.
– Ну ладно, кончай, – сказала Зоя, все-таки на день рождения пришла. Никуда не денется твой Женя, подумаешь – ценность!
Глава 19
Вета возвращалась домой, она стояла в раскачивающемся на ходу вагоне и жадно смотрела в окно на позабытые за эти два месяца уже желтеющие милые подмосковные рощи, они торопились навстречу; тенистые, тихие, влажные от недавно прошедшего дождя, мелькали деревянные платформы, дачники с осенними букетами и яблоками в авоськах, грибники в плащах, взлетали и падали телеграфные провода. Хорошо было дома. Вета думала о встрече, которая ей предстояла, она представляла себе Рому, как он будет бежать по платформе за их вагоном, и словно видела его растерянное, счастливое, чуть-чуть позабытое лицо, и ей было тревожно. Как пойдет дальше их жизнь, что будет с ними?
«Все должно быть, должно быть хорошо, как же иначе», – уговаривала она сама себя, ей так хотелось счастья, и слезы сами собой наворачивались на глаза.
За окном была Москва, вагон дергался, проскакивая стрелки. Вышли из купе мама с Иркой, уже одетые, с чемоданами, поезд медленно втягивался в вокзал. И сразу же Вета увидела Романа, забарабанила в стекло, он заметил и побежал за вагоном точно так, как она себе представляла, и его лицо, поднятое вверх, было таким же, только гораздо роднее, чем она думала. Откуда-то из толпы рядом с Романом вынырнул веселый Сергей Степанович, и они пошли рядом. Поезд дернулся последний раз и встал. Сергей Степанович уже проталкивался к ним навстречу по коридору, и они с мамой обнялись, улыбаясь и глядя друг другу в глаза. Господи, да они и впрямь любили друг друга. Бедный папа. Их толкали, и они наконец очнулись. Сергей Степанович стал вытаскивать чемоданы, а Вета снова сглатывала набегавшие слезы. В толпе пассажиров они выбрались на перрон, и, невольно подражая маме, Вета обняла Романа и заглянула ему в глаза, но в его глазах была только тревога, она всхлипнула и разжала руки. Почему они так боялись встречи, почему? Ведь все было хорошо у них, все было прекрасно.
Первые мгновения скованности прошли, они подхватили чемоданы и двинулись к выходу на площадь, где Роман оставил машину. Сначала отвезли Юлию Сергеевну с Иркой и Сергеем Степановичем, и наконец Роман и Вета остались одни.
– Как ты загорела, – сказал Роман, не отрываясь от руля и не глядя на нее.
Снова закапал дождик, Роман включил дворники, хорошо было в машине, уютно, Москва была тихая, пасмурная, серая.
– Рома, я тебя люблю, – сказала Вета, – как хорошо дома. И отдыхать со следующего года будем только вместе, ты согласен?
Он засмеялся и вздохнул, они подъезжали к дому.
В квартире барабанили на рояле, у Марии Николаевны сидел ученик, поэтому они только помахали ей, Вета сунула в вазу букет уже привядших роз, и они на цыпочках убрались в свою комнату, плотно закрыли дверь. Потом обернулись друг к другу и вдруг обнялись с такой жадностью и томлением, которых сами в себе не ожидали, задыхающиеся, страстные, влюбленные, жаждущие.
Потом они, встрепанные и счастливые, долго сидели обнявшись на кровати и смеялись шепотом, и шепотом благодарили вовремя подвернувшегося ученика.
Занятия в институте шли уже полным ходом. С третьего курса начались сплошь специальные дисциплины. В группе понемногу забыли про покер, и разговоры велись все больше солидные – про специальность, про заводы, про научные кружки. А Вета? О чем думала Вета? Уж конечно не о металлургии. И откуда она вообще взялась когда-то, эта мысль? Не самодовольство ли, не пустое ли хвастовство толкало ее, когда она выбирала себе институт? Понимала ли она тогда, что выбирает не просто институт, в котором проведет пять лет, а будущую профессию, целую длинную трудовую жизнь? Такая чепуха лезла тогда в голову: что подумает математичка Елена Григорьевна, и чтобы было не как у всех – не пед., и не мед., и не университет, там одни девчонки, а здесь мужчины. Уж не за мальчиками ли наладилась она сюда? Так нет же! Что ей было до мальчиков, у нее ведь тогда уже был Роман, но все-таки и о стали она конечно же не думала. Какая там сталь, она и понятия о ней не имела. И сейчас не имеет тоже. И хочет ли иметь? Как страшно об этом думать, ведь идет уже третий курс, и ребята из ее группы с их баскетболом, бегами и покером, ребята, к которым она относилась чуть свысока, они-то как раз и знали, что им надо, они-то были на своем месте, а она? Из всего, чему ее учили, понравилась ей только литейка, и то потому, что уж очень было красиво. Они лили алюминий. И этот расплавленный алюминий был волшебной красоты. Он весь светился изнутри слабым нежным розовым светом, а сверху был подернут тоненькой пленкой расплавленного серебра и перламутра и дрожал. Но в отливке ничего этого не оставалось, отливки получались грубые, серые. Миг красоты – и все. Маловато для жизни. Тем более алюминий был только для учебы, легкоплавкий металл. А сталь, чугун – это было совсем другое, может быть, там тоже была своя красота… Конечно, была. Но другая, пышущая жаром, тяжелая, жуткая. Да и вообще – при чем здесь красота, когда обыкновенного токарного станка она тайно боялась, а кузнечные мастерские – те вообще казались ей детской допотопной игрой, была у нее когда-то такая деревянная игрушка с молотобойцами. Словом, не в этом было дело – нравится, не нравится. Все обстояло гораздо серьезней. Просто за всей этой учебой ничего для нее не было, никакой идеи, мечты – пустота.
«Ну вот, – думала Вета, вот я и добралась до сути дела, просто я не понимаю смысла своей будущей профессии, Она мне не нужна. И что же теперь с этим делать? Перековываться или уходить? И куда я могу уйти, к чему меня тянет, к чему влечет?» Не было на свете ничего такого, чего бы она хотела, Неужели она по натуре обыкновенная домохозяйка? Нет, только не это! А собственно, почему она так этого боится, почему?
И вдруг совершенно неожиданно вспомнила Вета сон, который ей сегодня приснился. Что же там было? Сквер перед их школой, весна, солнце слепило, все вокруг было мокрое, веселое, сверкающее, и из-за этого блеска и сверкания она никак не могла рассмотреть, что там было перед нею в коляске, такое смутное, шевелящееся, родное… Господи, ей снился ребенок, ее ребенок! Так неужели это смятение, это томление оттого? Нет, не может быть, и все-таки… Почему же не может? Почему…
Звонок обрушился на нее как гром среди ясного неба. Вот так размечталась она на лекции. О чем была лекция? Кто читал? Не услышала, не заметила, какое уж там – записывать. Только тетрадь лежала перед ней, открытая тетрадь по теплотехнике, надписанная, но совершенно пустая, и лектор – незнакомый. Да, пожалуй, она уже перебарщивает с прогулами, с мечтами, со снами наяву… Надо бы браться за дела. Но сон… какой это был прекрасный сон! И отчего он приснился? Наверное, из-за того, что разговаривала с девчонками о Таньке Яковлевой, нет, теперь она, кажется, Елисеева. Ну конечно, Елисеева, по фамилии того невысокого с волчьими глазами. И у них уже родился ребенок. А может быть, дело совсем не в них? При чем здесь они? Неужели…
Снег все не выпадал и не выпадал, шли дожди, надоедливые, скользкие, холодные. Давно облетели, истлели листья, деревья стояли голые, мокрые. Опять Вета ходила на все лекции, опять записывала все подряд, но, как ни старалась слушать, то и дело отвлекалась, задумывалась, погружалась в себя, в свои расплывчатые, неясные грезы.
И дома, с Романом, тоже что-то переменилось. Вета пристально разглядывала его лицо, крупное, удлиненное, с коротким тупым носом и сильным подбородком, и его светлые, гладкие, очень густые волосы, и маленькие уши, и серые, добрые, в светлых ресницах глаза. Это было очень мужественное и серьезное лицо. Почему же она раньше не замечала, что он красив, ну, конечно, красив, очень. И какие у него большие, спокойные, мягкие руки. Хорошо бы он был похож на него, ребенок, который когда-нибудь у них родится. Когда-нибудь?
Роман работал за столом, неторопливый, спокойный. Настольная лампа под зеленым шелковым абажуром словно перерезала его лицо пополам, темная верхняя половина и ярко освещенный подбородок, уже обрастающий к вечеру частыми и золотыми иголочками, и крепкие, плотно сжатые губы… Ах, что это с ней было сегодня? Хотелось подойти, сесть возле него на пол, обнять его колени, хотелось, чтобы он наклонился и целовал ее. Эти губы, она глаз не могла отвести от них, и что-то вздрагивало, сжималось внутри, и слезы выступали на глазах от какой-то незнакомой нежности и желания. Почему он не чувствовал этого, не срывался с места, не сжимал ее в объятиях, которых она так жаждала сейчас? Бесчувственный, глупый, желанный… Она загадывала: вот если он сейчас обернется, то, значит, – да, все правда, она не ошиблась…
Но он не обернулся, отложил исписанный листок и не остановился, продолжал писать дальше, потом задумался, покусывая ручку, снова писал.
Ну и пусть, ну и пусть! Она тоже не подойдет к нему, она тоже занимается. Но тут он вдруг встал, потягиваясь, и Вета не выдержала, кинулась к нему, задыхаясь, открыв пересохшие губы, и снова все летело кувырком – пьяная, сумасшедшая комната, веером посыпавшиеся со стола бумаги, Рома.
«Любовь, – думала Вета, – какое счастье, я его люблю… У меня будет его ребенок, он уже сейчас там, во мне, внутри. Вот что такое любовь – чувствовать это, благодарность, нежность к чему-то еще не существующему, к себе самой… Рома…»
– Рома!
– Да, дорогая, любимая…
– Рома, а ты тоже хочешь его… ребенка?
Но он, оказывается, ничего не чувствовал, ничего не знал, смотрел на нее во все глаза, поворачивал к себе ее лицо, заглядывал в него, дрожал.
– Это правда? Тебе что-нибудь показалось? Вета!
– Не знаю, я ничего пока не знаю. Я люблю тебя.
– Вета!
Но однажды все вдруг кончилось, она ошиблась. Комната была как комната, Рома как Рома и день как день, только выпал снег, выбелил крыши, и сразу стало светлее, спокойнее на душе. Кончились фантазии, и оказалось, она этому даже рада. Какие еще сейчас дети, надо учиться.
Она чертила проект по деталям машин. Это было трудное и скучное для Веты занятие, начисто лишенное конкретного человеческого смысла, там все было «как будто бы» и «например», а на самом деле чистейшая схоластика. Да еще выходило грязно. Не любила она эту работу. Роман посмеивался над ней. Он был счастливый и самодовольный, шутил, свистел сквозь зубы, потому что совершенно не заметил и не понял, что их семейная идиллия кончилась, – так всегда обманываются через меру счастливые люди, а у них опять начинались будни.
* * *
С Зоей случилась странная история. Однажды она позвонила Витусу, не по плану, а просто так, было настроение. После института зашла в телефонную будку, набрала номер и позвала Виталия Петровича. А это оказался он сам, только голос был капризный, недовольный:
– Вера?
– Да. – Зоя вовсе не собиралась врать или мистифицировать его, просто растерялась, просто хотела подтвердить, что она поняла, он узнал голос, только спутал его с маминым, но ничего этого не успела она объяснить, Витус ее опередил.
– Я же просил тебя не звонить, – сказал он грубо, раздраженно, – когда будет возможность, я позвоню сам. Ты поняла?
– Да, я поняла, – сказала Зоя, – только я не Вера, а Зоя.
– Зоя? Ах, это ты! Прости, я тебя почему-то совсем не узнал, что-то с телефоном. Алло, алло…
– Телефон в порядке, не кричи, пожалуйста, мне надо все обдумать. – Она помолчала, потом сказала сдержанно: – Я позвоню когда-нибудь в другой раз. До свидания, – и повесила трубку.
Вот так номер! На улице летел мелкий, едва заметный сухой снежок, было холодно, ветрено, зябко. У нее был план, а теперь?.. Теперь придется идти домой. Она подняла воротник, засунула руки поглубже в карманы, опять она забыла заштопать перчатки. Что же, домой так домой. Она брела от Разгуляя к Елоховской, мимо сквера, мимо старой своей школы, там, в глубине двора, мимо церкви. Возле кинотеатра «Радуга», бывший «Третий Интернационал», меняли рекламу, а дальше в переулке жила когда-то Вета. Была и сплыла. Зоя шагала, глядя себе под ноги. Вот так номер с ней вышел! Так вот почему мать так изменилась последнее время, даже про Зоино здоровье забыла – ни обедов, ни компотов, все вечера сидит дома, строчит письма дорогому сыночку Костеньке, перебирает старые бумажки – замаливает грехи. Почему это люди каются тогда, когда грешить уже не удается? Ай да мамахен, а она бойчее, чем Зоя думала.
А хам! Боже, какой он хам! Как он разговаривал с матерью! И только потому, что она состарилась. Да, в этой жизни сдаваться нельзя, надо смотреть в оба, а чуть зазевался – раз! – и тебя смели, вычеркнули из списков. Что же ей теперь делать, что делать? Они с матерью – соперницы. И ведь Витус все это знал, знал с самого начала. Какой мерзавец! Сейчас позвонить и сказать ему: «А ты, однако, мерза-а-авец!» Только стоит ли ради этого звонить? Значит, все? Она твердо решила – все!
Зоя заглядывала в себя, но не находила ответа, внутри была пустота, похожая на страх. Она еще не знала, как поступит. Она винила всех, а сама? Ведь она все знала. Но сейчас ничего не умеет решить, слишком многое пришлось бы сразу менять, слишком мутные были мотивы. Зачем им расставаться? Вернуть его матери? Вряд ли сейчас что-нибудь из этого получится. Презреть и выгнать? Стоит ли бросаться единственным, что у нее сейчас было? Можно ведь и пробросаться. Так что же тогда? Сделать вид, что ничего не случилось? Ведь на самом-то деле мать Витусу не звонила, – значит, она по-прежнему ничего не знает. Пусть живет и привыкает. Мало-помалу все пройдет и забудется. Так. Слава богу, хоть с одним вопросом все ясно. А с другим? Что должна делать она, Зоя? Неужели простить? И тогда сразу все бы упростилось. Между ними больше не будет лжи. А какие вожжи у нее появляются, какой рычаг для управления! И тогда не надо будет сейчас идти домой и встречаться взглядом с материными глазами, обведенными коричневыми кругами. Вот впереди телефонная будка, взять и позвонить.
Но она не позвонила, она прекрасно понимала: что-то здесь не так, и, подняв плечи, шагала дальше, занесенная снегом, замерзшая, сердитая. Матери еще не было дома, и Зою это неприятно поразило. Где она может быть? Зоя разделась и подошла к печке. Печка была едва теплая, опять надо топить, надоело, все надоело. И вдруг она поняла, почему никакое продолжение с Витусом было теперь невозможно. Ведь он-то знал все. Значит, это не у нее, а у него появятся новые вожжи, это он возьмет над ней верх, а на это она не могла пойти. Не могла. Быть жалкой, покорно снести свою долгую гнусную ложь и его насмешку над матерью. Нет! Она схватила пальто и выбежала на улицу. Было уже совсем темно, мело. Почему-то ей казалось, что возле дома она встретится с матерью, но переулок был пуст, и снова Зое стало неприятно, муторно. Она съежилась и побежала по переулку к автомату, торопливо набрала номер, волнуясь, что не застанет его, но он взял трубку, и сразу легкая, освобождающая злость понесла ее.
– Виталий Петрович, как я рада! Как я рада, что застала тебя, старая вонючая сволочь! Я специально бежала из дома, чтобы сказать тебе это. – Она засмеялась. – Надеюсь, теперь ты меня не спутаешь ни с кем и никогда, правда? И попробуй только близко подойти к моей матери, ты знаешь, что я тогда сделаю, и я знаю тоже. – Она добавила еще несколько слов, которые сама произносила впервые, но ей понравилось, как они влепились в растерянное молчание на той стороне провода.
Ах как легко, легко было у нее на душе! Как хорошо, что она не задержалась с ответом. Ну, а теперь – домой, только бы мать пришла скорее, только бы не выкинула какой-нибудь номер, который испортил бы весь эффект.
И Вера Васильевна была дома; ссутулившаяся, печальная, она растапливала печку, подняла на Зою бледное лоснящееся лицо с погасшими глазами и спросила равнодушно, без интереса:
– Ты из института, кушать будешь? Я купила какие-то котлеты, поставить тебе?
– Нет, – сказала Зоя, со злобой оглядывая ее старческое тело, – я же говорила тебе сто раз: ешь свои котлеты сама, посмотри, на кого ты стала похожа.
– На кого?
– На старую брошенную… куклу.
Вера Васильевна, сидя на корточках перед печкой, мелко кивала головой.
– А я и есть старая брошенная кукла. И ты знаешь, из-за кого меня бросили, знаешь! Виталий давно мне признался. Только я все жалела тебя, не говорила…
– Ты… Ты…
– Ну что я? Что ты таращишься на меня, ты, глупая девчонка? Это ты все испортила. Он совсем неплохой человек и много нам помогал. Он меня давно любил, с молодых лет, а для тебя ничего не ценно, ты все разрушаешь, ты никого не умеешь ни любить, ни понимать… Да, да, мы обе были с ним, одновременно, я – старая и ты – молодая. Довольна теперь?
– Зачем ты так унижаешься, мать? Я и так уеду, только найду квартиру. А ему я сказала все, что о нем думаю. – Зоя хотела засмеяться, но неожиданно всхлипнула. – Только с тобой я там что-то напутала, сказала, чтобы он к тебе не совался. Но это ты легко уладишь, так что не волнуйся, путь свободен, – она все-таки растянула губы в улыбку.
– Дрянь, дрянь! – крикнула мать и зарыдала.








