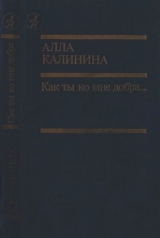
Текст книги "Как ты ко мне добра…"
Автор книги: Алла Калинина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
Часть вторая
Глава 1
Медицинский институт, к которому с некоторых пор так страстно стремился Елисеев и который он теперь заканчивал, захватил его целиком, перевернул, изменил. Институт как бы стал для него и отцом, и матерью, учителем, другом, любимой – всем, чего ему не хватало в жизни. Здесь Елисеев все начал сначала. И все же, как ни парадоксально это звучало, учеба каждый день разочаровывала его, разочаровывала конечностью, почти убожеством доступных ему знаний в том огромном море проблем, которое становилось теперь его профессией, разочаровывала легкостью, с которой студенты перепрыгивали с предмета на предмет, двухнедельные циклы занятий на разных кафедрах так и мелькали, сменяя один другой и вызывая растерянность, почти отчаяние. Ему было мало, мало, он не успевал! Ему хотелось вобрать в себя все, но это было невозможно. Институт и не был рассчитан на это, учиться и так было трудно, иногда почти невыносимо. Еще и сейчас, на последнем, шестом курсе, он с ужасом вспоминал ночи перед экзаменом по анатомии, они ему снились, эти ночи, и, наверное, будут сниться всегда. Безумная зубрежка на латыни, мертвом, чужом языке, изматывающая, бесконечная зубрежка до шума в ушах, до головокружения, до усталой последней мысли, что этого не может быть и, наверное, он сошел с ума. И это с его-то отличной фотографической памятью. Но и такие истязания не насыщали его, он хотел других трудностей – этических, философских, нравственных – и не находил их. Ничему подобному их не учили, и никто этого как будто даже не замечал. Его товарищи сияли здоровым студенческим цинизмом, он не осуждал их, но для себя цинизма не принимал, больше того – он его ненавидел. Цинизм – это и был его главный враг, он требовал от себя высоты духа, он верил, что в медицину попал не зря, он в нее был призван, еще откуда-то издалека, с детства, с довоенной больницы, в которой, лежа на полу, играл красным аэропланом, с раненых, над кроватями которых он глотал горькие, комом становящиеся в горле слезы, с похорон Ивана Нарциссовича, над могилой которого старая измученная женщина в черном шептала: «Голубчик мой, голубчик мой кисонька…» Много еще всякого было в его жизни. Растерянность перед огромностью, непонятностью мира в день его женитьбы и страшное чувство ошибки и своего ничтожества, потом – рождение сына, потом – тяжелая болезнь: все толкало его к единственному решению. И Елисеев принял свое решение со всей серьезностью, на которую только был способен. Он лепил себя из своей профессии, лепил себя нового – сильного, выдержанного, уверенного, но главное, конечно, – знающего, профессионального, умного, наконец, черт возьми! Умного. Все, чего лишила его судьба, он должен был построить сам. И был к себе неумолим. Он тренировал себя, мышцы, руки, ноги, он занимался гребным спортом и боксом, он разрабатывал пальцы и даже лицо свое пытался изменить, пристально всматривался в зеркало, изучал свою мимику, улыбку: врач должен нравиться больному, а он был лишен обаяния. Но главное – он, конечно, учился, учился всему, за все хватался, читал, слушал в университете вечерний курс математики, мастерил модели каких-то аппаратов, рисовал пером и цветной тушью и все оставался недоволен собой. Все это были мелкие полузнания-полуумения, а ему нужно было нечто целое и всеобъемлющее – мировоззрение. Он хотел не просто лечить людей, но врачевать мир. А его никто не понимал, и ему не с кем было даже об этом поговорить. Елисеев знал, что не похож на других студентов, но и это его не останавливало, он был старше, роковой рубеж – тридцать лет – приближался неумолимо, но что с этим можно было поделать? У него была своя, особая судьба.
Только через годы, только постепенно стал он успокаиваться и привыкать к своей новой жизни, стал устанавливать контакты с товарищами, теперь уже не просто веселыми ребятами и девушками, но будущими коллегами. Да и сам он настолько изменился и вырос внутренне, что не мог уже без улыбки вспоминать свой провинциальный максимализм. Те наивные времена ушли, теперь задача стояла куда сложнее, он засомневался в главном, что выбрал с самого начала, он хотел быть детским врачом, педиатром, но теперь все чаще приходило сомнение: так ли он выбрал? Он совершил ошибку сразу же, поступив в Первый медицинский, только потом, позже, он понял это – педиатрического факультета здесь не было. Конечно, здесь была кафедра детских болезней, и кафедра отличная, возглавляемая большим ученым, академиком, и все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство. Педиатрический факультет был, был в другом институте, во Втором, там детские врачи готовились специально, с первого курса, и Елисеев ничем не мог восполнить то, что терял каждый день; у него не могло быть такого образования, как у тех, кто посвятил этому все шесть лет студенческой жизни, а начинать с дефицита знаний он согласен не был.
Потом, к концу института, он уже радовался своей ошибке. Медленно и неотвратимо он втягивался в могучее и притягательное русло хирургии. Сюда его влекло все – и мужественность профессии, и героический ореол вокруг нее, и необходимость реальных физических усилий, без которых любой труд казался бы ему слишком облегченным, слишком ненастоящим. И еще многим привлекала его хирургия – возможностью все решать самому, один на один со смертельным врагом, и необходимостью принимать мгновенные решения, и действенностью помощи, которую он способен был оказать больному, тому, который решится довериться ему, и ясным знанием результата, победы или поражения, которыми завершается каждая схватка с болезнью. Теперь он уже и не понимал, как могло быть иначе, – он будет хирургом. Не зря, не зря тренировал он свое тело, зубрил анатомию, не зря рисовал, все шло в одну кучу, все было ему нужно для работы. А кроме работы больше ничего в жизни его и не интересовало. С личной жизнью он ошибся раз и навсегда, у него есть сын, вот и все, и довольно, этого с него хватит. Он больше никогда не женится. Смутно, как во сне, вспоминал он эти три года между училищем и институтом, словно между его несчастной женитьбой и последней болезнью, когда все наконец стало ему окончательно ясно, был странный провал, беспамятство, забытое кино. Разве это он служил в маленьком тихом гарнизоне в Карелии, это перед ним вытягивались молоденькие круглоголовые солдатики? Неужели и он сам стоял в строю других офицеров, говорил с ними, завязывал дружбу, а вечерами обнимал высокую глупую женщину и считал ее дом своим домом? Это не могло быть правдой. Зачем все это с ним случилось?
Только Юрка, сын, был настоящий. Елисеев хотел и ждал его появления на свет. Тогда ему еще казалось, что то беспокойство, тоска, неудовлетворенность, которые он постоянно испытывал, объяснялись тем, что у него не было настоящей семьи. Но и Юрка ничего не изменил, в сущности; Елисеев ждал и заранее любил его чисто умозрительно, и появление сына вначале ошеломило его несходством с тем, как он все это себе представлял. Юрка был такой маленький и бесконечно далекий от него, он целиком принадлежал своей матери, и он, Елисеев, был здесь совершенно ни при чем. Только потом, позже, он начал привыкать к нему, ловить в мутной синеве его блуждающих, плавающих глаз бездумное веселье, потом тень узнавания, потом отчетливую радость. Он полюбил его, но это ничего не изменило в его семейной жизни, она не стала ни осмысленнее, ни полнее; наоборот, прибавилось поводов для раздражения, для взаимного непонимания и неприятия. Эта женщина портила его сына своим сюсюканьем и птичьим щебетом, вечным тасканием на руках, беспорядочными ночными кормлениями, пустотой и неуютом тоскливой захламленной комнаты. Как он жил! Нет, этого не может быть, это не он был там, не он кричал на жену отвратительным визгливым голосом, и женщина, которая рыдала, прижимая к себе ребенка, и обещала исправиться, не могла быть его женой.
Все это был страшный сон. Он очнулся и пришел в себя только в госпитале, отчаявшийся и ослабевший. И только когда он окончательно понял, что назад возврата нет и с армией покончено навсегда, только тогда медленно и неясно стало проступать в нем незнакомое чувство свободы. Он просыпался после долгого сна, после череды непростительных ошибок, которые, казалось, завели его в ужасный тупик. И вдруг оказалось – из тупика есть выход, какой-то неясный еще забрезжил в его душе свет. А что, если все начать сначала? С самого начала? Разве это невозможно? И стоило этой мечте только возникнуть, только мелькнуть в его голове, как он сорвался с тормозов и полетел, полетел! Его захлестнула надежда. Мысли, планы, толкаясь, налезали одни на другие. Раньше, в гарнизоне, когда он помногу работал, общался с людьми, командовал солдатами, нянчил сына, мир вокруг был мертвым и застывшим, а сейчас, на унылой госпитальной койке, этот мир вдруг расцвел и закружился перед ним, сверкающий, манящий, недостижимо прекрасный. Все начать сначала! Как прекрасна была одна только эта возможность!

Когда он вышел из госпиталя, все для него было уже ясно. Он отвозит Таню домой, в Москву, поступает в институт, получает общежитие и оставляет семью. Даже в этом, самом трудном решении не было у него теперь сомнений. Он будет работать днем и ночью и все, что заработает, будет отдавать сыну, ему самому нужно совсем немного. И он никогда больше не женится, но жить с Таней больше не станет ни за что, никогда.
Однако на деле все оказалось не так-то просто. Таня вцепилась в него всеми своими слабыми силами, рыдающая, любящая, готовая на все, еще более глупая и нелепая, чем всегда, но теперь еще мощно поддержанная родителями. Что он мог сделать? Они все были правы, он взял на себя ее судьбу, увез за собой прямо со школьной скамьи, лишил образования, профессии, теперь у них ребенок. Он обязан терпеть. И он согласился.
Теперь это было уже и не так важно, он, словно впервые в жизни, начал учиться. Мысль о семье отодвинулась, ушла, пусть все будет как будет. Только летом, в каникулы, стало невмоготу. От слащавой въедливости тестя с тещей сводило скулы. И тогда он почувствовал – руки у него развязаны, так жить дальше все равно нельзя, недостойно мужчины. Он пошел в ректорат и выбил себе место в общежитии, пока временное, но какое это имело значение? Наступила свобода, полная, огромная, ошеломляющая!
Он соврал Тане, все свалив на ее родителей, но это была позволительная ложь во спасение, зачем было говорить ей, какие чувства поднимались в его душе при одном только взгляде на жену? Он понимал, что она ни в чем не виновата, но он не выносил ее. Он скрывал это только из жалости к ней. Главное – что он не бросит Юрку, и развод ему был не нужен, лишь бы только вырваться в театры, в библиотеки, на московские улицы, а осенью – на Пироговку, в институт. Больше ничего ему было не нужно.
И тут он встретил красотку Логачеву. Логачева изменилась, как-то поблекла, но лицо было такое же чистое, мягкое, со впалыми щеками и бледно-голубыми глазами, и так же кудрявились над висками выбившиеся из прически золотистые колечки. Только не было той прежней победительной яркости, и одета она была скромно, по-девчоночьи, отчего ее крупная спортивная фигура выглядела, пожалуй, чуть угловато. Словом, он решился и подошел. Нет, вовсе она ему была не нужна, даже хотелось ему думать, что вот из одной только вежливости подошел он к этой женщине. Но он себе врал, совсем не безразлична она ему была; наоборот, она жгуче его интересовала, где-то в самой глубине его души было запрятано ощущение, что именно она и воплотила в себе весь тот мир, к которому он так страстно стремился, мир свободных, мыслящих, ни от кого не зависящих людей, которым не надо делать над собой усилий, чтобы понимать самые сложные книги, серьезную музыку, современную живопись, в науку они входят как в собственный дом и говорят, как пишут. И все то, к чему он продирался с муками и терзаниями, они всасывают с молоком матери и считают своей естественной и законной собственностью. Вот почему он заглядывал ей в лицо и искал в нем перемен, он хотел понять, приблизился ли, сумеет ли быть с ней на равных? И ушел, уверенный: да, сумеет.
И осенью действительно началась новая жизнь, он сам чувствовал, как растет, распрямляется, и ночью, просыпаясь, как от толчка, лежал на спине, тихий, гордый, счастливый, и, глядя в серый потолок общежития, радовался себе, своей жизни, своему будущему. Но потом просыпаться перестал, с третьего курса он работал на «скорой», шесть дежурств в месяц, да еще грузил кислородные баллоны в хирургии, да еще занимался спортом. Теперь он спал так, что будили его всей комнатой. Но чувство счастья от этого никуда не девалось, он ложился с ним и с ним вставал, впереди был день, полный утомительного, изматывающего, почти сердитого счастья, чувства удовлетворения собой и прожитым днем. И здоровье больше не подводило его. Почему?
Только через годы снова вспомнил он про Лизу. Полностью, впрочем, он ее никогда и не забывал, держал где-то в глубине сознания эдакий эталонный образ: прекрасная самоуверенная блондинка из интеллигентной семьи, женщина для избранных. Сведения он о ней имел самые полные: они поступали от Тани.
Елисеев не умел отклониться от встреч с ней, ведь они не были разведены, и эта пустая формальность, абсолютно ничем и никак не подтвержденная, позволяла Тане с присущей ей фанатической слепотой как бы по-прежнему верить, что когда-нибудь, через годы, когда кончатся его дела, они снова соединятся, а пока она садилась перед ним, растолстевшая, с мелко завитыми волосами и торчащими красными щечками, и говорила, говорила, говорила, молола всякую чепуху. Но то, что касалось Лизы, он запоминал.
Он был теперь совсем другой человек – занятой, знающий, в сущности, почти врач. И не просто врач – хирург, хирург, за спиной которого было шесть самостоятельных операций, совсем немало для начинающего. Правда, поздно он начинал, поздно, ему шел уже тридцать третий год, но зато теперь он мог не бояться за себя, он знал и умел столько разных вещей, ему все было теперь по плечу. И эта женщина тоже. Почему бы и не съездить к ней?
Странное впечатление произвела на Елисеева эта первая настоящая встреча с Лизой. Его мужской грубоватый напор истаял сразу же на пороге тихой Лизиной квартирки. Его встретили приветливо, спокойно, только чуть-чуть растерянно. Он-то ожидал настоящего смятения, собирался воспользоваться им, сказать что-нибудь игривое, приобнять за плечи и так далее, прямо к цели. Он знал, что она одинока, никому ничем не обязана и любовник у нее был, какой-то мелкий актеришка. Конечно, такие красавчики льстят женскому самолюбию, но он эту публику встречал и знал неплохо, за внешним лоском у них скрывались самодовольство и пустота; нет, этим невеждам и пустозвонам Лиза не по зубам. Он считал, что его преимущества неоспоримы. Однако все его расчеты лопнули и развалились при первом же столкновении с действительностью.
Лиза улыбнулась ему спокойно и просто, подхватила плащ, повесила на вешалку, скупым жестом пропустила вперед, в комнату, и эта удивительная комната разом взяла его в плен странным каким-то, скромным и незнакомым очарованием. За огромным, от стены до стены, окном в мелких переплетах рам сгустился дождливый осенний вечер, а в комнате было тепло, тихо. Над бахромчатой скатертью низко спускалась старая латунная люстра с абажуром, на стенах висели во множестве картины, почти сплошь среднерусские пейзажи; на потускневшем рояле громоздились груды книг; широкая тахта с гнутыми деревянными ручками покрыта была клетчатым пледом. Все дышало покоем, достоинством, простотой.
В таких домах он еще не бывал. А Лиза, высокая и совсем не угловатая, в полосатом свитерке и простенькой юбке, уже накрывала стол ослепительно накрахмаленной скатертью, доставала синие чашки, вазочку с вареньем и уже несла кипящий чайник, а он, дурак, не догадался захватить ни конфет, ни хотя бы цветов. Явился, самонадеянный победитель! Делать было нечего, он для вида полистал книги, как бы нехотя оторвался от них, а ведь они его волновали всерьез. Он сел за стол. Чай дымился нежно и ароматно, ложечки были серебряные, с каким-то вензельком на хвостике. Лиза сидела вольготно, положив локти на стол и руками подперев голову, он-то считал, что так сидеть неприлично, а она сидела, смотрела на него с улыбкой, бледный лукавый рот открывал мелкие яркие зубы.
– Ну, – сказала она весело, – как вы живете? Рассказывайте…
За первым вечером последовал второй, третий и еще неизвестно какой, они пили чай, разговаривали, слушали музыку, но ничего не сдвигалось в их отношениях, Лиза явно не собиралась принимать его на ту роль, которую так легко получил смазливый актер.
Но если сказать честно, Елисеев уже и не знал, жалеет ли он об этом, хочет ли этого, как-то странно все запутывалось, то ли он гордился этой дружбой, то ли привык, попался на удочку. Нет, конечно, нельзя было про нее так думать, совсем она была не такая. Что-то в ней было необычное – обескураживающая доверчивость, постоянная готовность к сочувствию и пониманию, и серьезность, и уважение к тому, чего она не знала. И абсолютная искренность, которая испугала бы его, если бы не была такой девически скромной, ни на что не претендующей, не желающей проникать за пределы того круга отношений, которые они сами себе очертили.
Одним словом, никогда еще в жизни не встречал Елисеев такого товарища. Дружбой это он все-таки не мог считать, потому что была между ними известная недоговоренность, нечто запретное, тайное, нечто такое, что освещало их встречи и наполняло неясным, волнующим ожиданием, и это ожидание затягивалось, напряжение росло, а все еще ничего не происходило.
Только через много месяцев, к исходу мягкой слякотной зимы, настало у них время для первого поцелуя, но был этот поцелуй так глубоко подготовлен, так долгожданен и неотвратим, что близость последовала за ним сразу же, так естественно и просто, словно иначе не могло и быть. Лиза поразила, почти потрясла его тем, что совершенно была лишена суетности и жеманства, которые Елисеев так ненавидел в своей жене. Она принесла ему небывалый в его жизни душевный покой.
Утром, когда они вместе выходили из дома, Лиза сказала Елисееву, поправляя перед зеркалом шапочку:
– Если хочешь, ты можешь перевезти сюда свои вещи. Я открою комнату свекрови, там тебе удобнее будет заниматься.
Он задохнулся от волнения, и неожиданности, и страха, этот дом неудержимо манил его, почти так же сильно, как сама Лиза, – он хотел здесь жить, хотел…
– Лиза, я говорил тебе, я не разведен с женой и не собираюсь. – Он сам понимал, что получилось грубо, затряс головой, зажмурился. – Ну, ты же понимаешь меня, я не хочу ни в чем тебя обманывать.
– Хорошо, что ты мне сказал, – ответила она, подумав. – Но, знаешь, для меня это не имеет большого значения. Я тебя люблю, Женя.
Вот и сказано было это слово. Разве не к этому он стремился? Но цель позабылась, средства перепутались, он сам себя не узнавал. Новая жизнь давно уже началась, а он ее словно и не заметил. Лиза, самая яркая девчонка на его далекой свадьбе, самая удивительная, самая красивая и умная женщина в Москве, любила его, провинциального переростка Женю Елисеева, а он растерялся и не знал, отвечает ли на ее чувства. Он засмеялся с деланным легкомыслием:
– Тебе это кажется.
Она тоже улыбнулась:
– Да я могу и близко к тебе не подходить, не задавайся, пожалуйста. Просто хочу, чтобы ты спокойно позанимался последний год. А я буду за тобой ухаживать, мне это нетрудно.
Ах, как заманчиво было Елисееву сдаться, но он хорохорился, то приходил, то исчезал и не звонил по нескольку дней подряд; он знал, что мучает Лизу, но она терпела, не показывала вида.
И только когда решился вопрос с субординатурой, кончились экзамены и прятаться больше было некуда, только тогда он перевез к Лизе свой ободранный чемоданчик. В сущности, никаких вещей у него и не было, стопка белья, стопка тетрадей, несколько книг – вот и все.
И Лиза, краснея, сказала:
– Честное слово, Женя, тебя это ни к чему не обязывает.
Когда очень хочется кому-то что-то непременно доказать, часто бывает, что жизнь вдруг берет и все перекручивает по-своему, и все выходит как раз наоборот. Вот так и в ту июньскую ночь случилось едва ли не главное событие всей их дальнейшей жизни. Очень скоро Лиза поняла, что она беременна. Она не знала, что делать, металась, скрывала новость от Елисеева. Если бы не он, сомнений бы у нее не было никаких, она давно и страстно хотела ребенка, но как объяснить это Жене? Не воспримет ли он появление ребенка как посягательство на его свободу? Она готова была на все, готова была воспитывать ребенка одна, но совершенно не хотела терять ни самого Женю, ни его доверие. Как сказать ему? Как объяснить все так, чтобы он понял? Она боялась, но и затягивать объяснение было нельзя, иначе получилось бы, что она ставит его перед совершившимся фактом. И она пошла в лобовую атаку – позвонила ему в институт.
– Женя, ты не встретишь меня сегодня с работы? Погуляем, поговорим.
– Пожалуйста, – сказал он, запнувшись, – что-нибудь случилось?
– Да, случилось, лето на дворе, у меня большая радость.
– Извини, мне сейчас неудобно говорить, я приду к пяти к метро…
Почему он вдруг так испугался? Что случилось, что там у нее случилось? Даже сердце у него заколотилось, и противное ощущение слабости прихватило за горло. Он не готов был к потерям, он не хотел перемен, он вдруг панически испугался, что Лиза откажется от него, прогонит его от себя. Все казалось ему зловещим – тучи, клубящиеся над Таганкой, близкие грозовые раскаты, потоки людей, бегущих через площадь, словно поднявшийся ветер нес их с собой вместе с пылью, бумажным мусором и запахами близкой реки. Почему Лиза опаздывала? Почему она назначила ему свидание на улице, а не ждала его спокойно дома, да еще в такую погоду?
Она появилась, когда дождь уже начался, прозрачный, косой, весь просвеченный желтым вечерним солнцем. Тучи куда-то унеслись, освободив высокое, сияющее, чуть затянутое желтой дымкой небо, и ливень лупил непонятно откуда, вздувая сверкающие пузыри на разом наливших сизых лужах. Все бежали, махая руками; женщины торопливо отлепляли от колен намокшие юбки, одна только Лиза шла через площадь улыбаясь и никуда не спеша, словно никакого дождя не было и она не опаздывала на свидание чуть ли не на полчаса. Она подхватила его под руку.
– Пойдем туда, на набережную, увидишь, какая красота…
– Подожди, сейчас кончится дождь.
– Что нам дождь! Женя, сейчас я скажу тебе очень странную вещь, только пойдем, пойдем со мной. Знаешь, я думала, думала, но тут все равно ничего придумать нельзя. Как бы ты это ни принял, ни для тебя, ни для меня это ничего не меняет. Я решила оставить ребенка.
– Какого ребенка? – Он растерялся.
– Моего, только моего. Тебя это совершенно ни к чему не обязывает, только, может быть, лучше, чтобы ты пока не терял общежитие…
Некоторое время они оба молчали. Елисеев совсем промок, дождь лил ему за шиворот, до набережной они так и не дошли. Мимо, окатив их водой, прошуршало такси. Елисеев побежал за ним и остановил.
– Давай скорее! – крикнул он Лизе. – Незачем нам всем простужаться.
В машине они молчали, промокшие, замерзшие, но начатый разговор продолжался, шел. «Нам всем…» Кто это – «мы все»? Они старались не глядеть друг на друга. Войдет ли он в дом? Останется ли ночевать? Оба они этого еще не знали, и оба старались действовать по какому-то внутреннему, первому, не осознанному еще побуждению: им казалось, так будет лучше, вернее.
Они поднялись наверх, поставили чай, переоделись.
– Я тебе могу сказать одно, – откашлявшись, сказал наконец Елисеев, – я совсем не против ребенка, но это, кажется, все, на что я пока имею право. Ты слышишь меня?
– Слышу, – сказала Лиза и заплакала. – А мне больше ничего и не надо. Ох, Женька, какую тяжесть ты снял с моей души! Я счастлива, честное слово, счастлива!
Так начиналась их совместная, теперь уже в открытую, жизнь. Постепенно Елисеев знакомился с Лизиными родными и друзьями. Юлия Сергеевна приняла его настороженно, так, словно не желала принимать очевидное. Сергей же Степанович, наоборот, изображал рубаху-парня. Елисееву это было неприятно, он знал Федоренко по институту, не уважал его и панибратством тяготился. Но в общем все это не имело значения, старики были просто растеряны, оскорблены Лизиным падением, неофициальным браком, который шокировал их, казался необъяснимым. Их можно было понять. Но важнее всего этого оказалась для Елисеева встреча с Ириной, младшей Лизиной сестрой, отношениями с которой почему-то особенно дорожила Лиза, и не просто дорожила, а прислушивалась, волновалась, словно мнение Ирины было важнее ее собственного.
С первого взгляда Ирина удивила, даже разочаровала Елисеева, он столько о ней слышал и представлял ее себе похожей на Лизу, красивой, серьезной, взрослой, а вместо этого в комнату впорхнуло очаровательное существо, тонкое, легкое, темноглазое и смуглое, с порывистыми движениями и порывистой речью.
– Так вот ты какой! – сказала она, протягивая Елисееву тонкую сильную руку. – Все верно. А улыбка! Вета говорила, что когда ты улыбаешься, то делаешься ужасно красивым, так или не так?
– Не знаю, – сердито сказал Елисеев и выразительно посмотрел на Лизу, он не любил, чтобы его рассматривали в упор, словно вещь.
Но Ирина уже стремительно отвернулась от него, словно ей все было ясно и он надоел ей.
– Ох, Ветка, как я давно тебя не видела! У тебя лицо спокойное. Ты счастлива? Вета! Я рада за тебя, честное слово, рада. Значит, у нас скоро будет малыш?
И это она знала, и как сказала самонадеянно – «у нас!». Елисеев хотел рассердиться, но его раздражение почему-то таяло, он смотрел, как они обнимались, Лиза с Ириной, и, обнявшись, встали у окна и говорили, говорили, улыбаясь и перебивая друг друга. В сущности, она славная, эта девчонка, если только сейчас опять что-нибудь не ляпнет. И она тут же ляпнула:
– А почему ты ее Ветой не хочешь звать? Взял и перекрестил. Всю жизнь была Вета, а вдруг – здравствуйте!
– Ну, положим, жизнь только начинается…
– Нет, не только начинается… Жизнь давно уже идет… Ветка, она особенная, она не такая, как все, понимаешь? Она чистая душа. Это и не так легко, ты не думай, она ничего не требует, а требования у нее огромные – чистоту на чистоту, а это ужасно трудно. Я тебе все равно скажу, потому что тебе это надо знать, а она не расскажет. Ведь не рассказывала? Про Рому? А он был замечательный человек, мы его все любили – и папа, и мама, и Ветка. А я, наверное, больше всех. Таких больше нет и никогда не будет. Это было такое горе, Женя, что невозможно его передать. А она особенно страдала, потому что у них между собой не ладилось и она считала себя перед ним виноватой, но не была она виноватой, не была! Она и с матерью его была до последней минуты и вообще рукой на себя махнула… А ты говоришь – жизнь только начинается. Нет, это неправильно, ты себе задачу не облегчай, а то вам тяжело придется. Это удивительно, что она тебя вот взяла и полюбила, это чудо!
– Ира! – Лиза улыбалась.
Они сидели рядом, и Елисеев вдруг с удивлением увидел, как они были похожи, одинаковый был у них очерк лица, чуть длинноватый, изящный, с впалыми щеками и круглым подбородком, и тот же изгибистый нежный рот, и то же выражение ясности, и те же легкие колечки волос на висках, только краски у Ирины были гуще, решительнее, брови взлетали и выгибались, пылали глаза, и вся пластика была выразительнее, смелее, гибче. Неужели она красивее Лизы? Елисеев усмехнулся.
– Вот что, сестрицы, – сказал он, – что это вы взялись меня запугивать? Я не из пугливых, и где мой законный ужин? Даже был обещан парадный. А уже девятый час.
Лиза поднялась и, улыбаясь, скользнула в дверь, а Ирина стрельнула в Елисеева глазами и неожиданно на «вы» сказала:
– Послушайте, по-моему, это вы ее запугали! Что вы с ней сделали?
– Ничего, абсолютно ничего. – Елисеев засмеялся, довольный, а Ирина, склонив голову набок, рассматривала его.
– Слушай, а ты и правда ничего. Может, и не красавец, а что-то есть, есть. И что ты так редко улыбаешься? – Ирина медленно покачала головой. – В общем, ты мне понравился. И не сердись. Кто-то же должен был все тебе рассказать, раз ты теперь входишь в нашу семью. И совсем я не такая глупая, как может показаться с первого взгляда, просто задача у меня была такая неблагодарная, знаешь, я всю жизнь у Ветки за старшую, да и у мамы тоже. Ну что – мир?
– Мир.
Такая вот была у Лизы сестра. Там, где Лиза молчала, та дерзко летела в атаку, и с ней, наверное, не легко ладить, она требует, чтобы ты сразу выложил все карты на стол. А у него на руках были одни шестерки – Таня с Юркой, целый взвод родни и учеба.
Шла последняя зима его запоздалого студенчества. Елисееву хотелось, чтобы все это скорее кончилось, хотелось самостоятельности, свободы, хотелось оперировать самому. Получалось у него неплохо, и к нему постепенно привыкали в операционных. Какое блаженство было чувствовать себя здесь своим, утром торопиться к подъезду, кивая направо и налево, потом в туго накрахмаленной шапочке и в халате с закатанными рукавами, по последней институтской моде, сидеть в толпе врачей на утренней конференции, вместе со всеми понимать, смеяться, когда смеются все, с грохотом вставать и торопиться по знакомым лестницам и коридорам, уверенно открывать дверь своей палаты и встречать ожидающие, тревожные взгляды своих больных.
Скоро, скоро придет к нему настоящая свобода. Что бы они ни говорили ему, жизнь только начинается. Это у них была другая, чисто женская точка зрения – поминать несчастья, тереть набитые когда-то шишки, нюхать засохшие цветочки; его душа была обращена вперед. Да и не о любви шла речь, он хотел работать, хотел добиться чего-то в жизни, хотел, чтобы его уважали, и это теперь зависело только от него одного.








